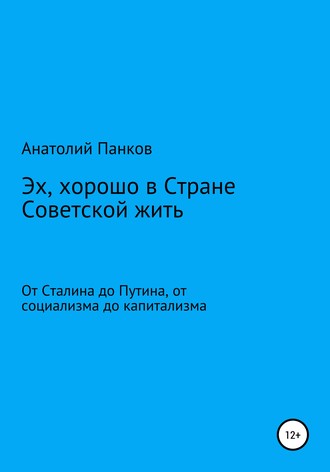 полная версия
полная версияЭх, хорошо в Стране Советской жить. От Сталина до Путина, от социализма до капитализма
В шестнадцать лет устроила она меня в железнодорожную больницу, что располагалась прямо возле платформы Перово. Там и сейчас что-то медицинское находится. Кто-то из врачей посоветовал ей обратиться туда, поскольку меня замучила ангина, а там была новая техника. Назначили мне десять сеансов облучения «кобальтовой пушкой» – по пять с каждой стороны горла. Врач решил, что лучше мне не выдирать гланды, а уничтожить их облучением. Я ложился на бок. Меня накрывали толстым, похожим на резину, тяжёлым покрывалом. Надо мной в темноте склонялся какой-то сложный аппарат и в оставленную над моим горлом для его луча маленькую дырочку направлял поток частиц.
Это ли помогло или моё дальнейшее самолечение – обтирание снегом, ходьба голыми ногами по снегу, но потом я стал купаться в ледяной воде, ангиной больше не болел. Да и грипповал редко.
«Мам, это же Шопен!» – «Уж слишком он шипен…»
В интеллектуальном развитии заботливая, но безграмотная мама ничем помочь мне не могла. Запомнился такой анекдотический случай. По радио передавали классическую музыку. Мама кивнула на чёрную бумажную «тарелку», висевшую на стене (таким было самое распространённое в советских квартирах радио): «Да выключи ты, голова разболелась!» – «Мама, да это же Шопен!» – «Уж слишком он шипен…» Конечно, звуковое качество радиопередач было весьма сомнительным, но до покупки отцом шикарного по тем временам рижского лампового приёмника, связь с миром была только благодаря этой «тарелке».
Житейской философией мама также не смогла меня напичкать. И не пыталась. Но мне запомнился один разговор на щекотливую тему – о взаимоотношении с женским полом. «Слабохарактерный ты. Ой, будет из тебя жена верёвки вить», – горестно заключила она. Я отшутился. Понимал, что это она так отреагировала на мою «дружбу» с умной, волевой однокурсницей.
Каждая мать думает о том, как бы её птенца, выпорхнувшего из семейного гнезда в самостоятельную жизнь, не обидели, не подмяли, не закабалили. То ли из-за моей домохозяйской старательности такой вывод мама сделала, то ли из-за детской стеснительности и деликатности в обхождении с девчонками… На самом деле мой характер сложился совсем не мягкий. В борьбе с окружающей средой: и дома, и в криминализированном послевоенном быту. Да и отцовские гены тому способствовали.
Поскольку отец мало обращал внимания на моё воспитание и никак меня не контролировал, то эти семейные задачи легли на маму. Однако это меня не обременяло. У нас не было больших бытовых конфликтов. В моей памяти сохранились лишь два неприятных эпизода из наших взаимоотношений с мамой.
Первый случился ещё во время войны. Война тут не причём. Впрочем, как сказать. Отца нет, «пропал без вести». Мать с утра до вечера работает в столовой. Я, пятилетний, предоставлен сам себе. Чаще всего я оставался запертым в нашей комнатёнке. Но целый день сидеть в крохотном пространстве, без дела было тоскливо.
Даже война с крысами не убавляла тоску. Жуткие рассказы о том, как эти голодные обнаглевшие зверюги нападали на людей, особенно на детей, меня пугали лишь отчасти. Я заранее готовился к схватке. Залезал на подоконник, запасался всеми возможными предметами, пригодными для метания. И как только крысы начинали свой нахальный пробег сквозь щели по всем комнатам вдоль общего коридора, я пулял в них заготовленными «гранатами». Убить – не убил, но это придавало мне храбрости, особенно с наступлением темноты. Страшновато становилось, когда я уже потратил все свои боевые заготовки, а они продолжали шастать туда-сюда, и темнота сгущалась…
Но в тот жаркий летний день я гулял на свободе. Возможно, у мамы был выходной.
Сначала, едва выйдя на крыльцо барака, я подрался с каким-то противным мальчишкой. Не помню ни имени его, ни внешнего вида, но осталось только то, что он очень противный. И, хотя он был старше, выше и сильнее меня, я с ним отчаянно дрался. Видимо, он третировал меня раньше, а тут ещё чем-то разозлил. И я, а не он, полез в драку. Он отбивался. А всё равно лез. Он отталкивал меня своими длинными «граблями» и разбил мне нос. Сильно пошла кровь. Я отступил.
Вытираясь руками и рукавом, я испачкал всю одежду. Домой в таком виде идти не захотелось. И я отправился в «турпоход». В первый в моей жизни. Вдоль окружной железной дороги, а мы жили в сотне метров от неё, я ушёл далеко-далеко. Туда, где разгружались вагоны с углём. Видимо, это было уже ближе к станции Фрезер. Туда, где теперь в небо упираются конструкции Северо-Восточной автомобильной хорды. Пробираясь по терриконам, я несколько раз соскользнул по склону. Можно представить, каким «углекопом» я стал.
Заметив свой новый, чёрно-красный экстерьер, я пришёл в ужас. К нашему бараку вернулся в страхе за содеянное. Войти внутрь не решался. Возле крыльца росло дерево, я забрался и сидел на сучке почти до захода солнца. Вдруг из подъезда вышла мама, заметила: «Слезай!» Я отказался. Сходила за ремнём: «Слезай!» – «Ты меня будешь бить». – «Не буду». Я слез. Она, как говорится, не отходя от кассы, стала хлестать меня, извивавшегося на земле. По заднице, по рукам, которыми я пытался защитить свою мальчишескую честь. Она вымещала свой страх за моё исчезновение на целый день. Я кричал и плакал. Но не столько от боли, сколько от обиды: обманула! Мама обманула!
Она и раньше, не имея других аргументов для воспитания и боясь без отца уступить меня хулиганствующей улице, бралась за ремень. Как правило, за дело. Но до того она никогда меня не обманывала, поскольку не обещала не бить.
А за другой случай, также запомнившийся на всю жизнь, потом стало стыдно мне.
Двенадцать лет – критический возраст для пацана. Начинается период полового созревания. В организме происходит что-то непонятное. Помню, как на меня нападал внезапный психоз. Без всякой причины я мог, например, несколько минут колотить кулаками по сиденью стула. К тому же – это переходный период в самооценке, когда ты считаешь себя уже не ребёнком и пытаешься самоутвердиться во взрослом мире.
В такой-то вот нервозный, неподходящий момент мама сделала мне колкое замечание. Возможно, справедливое, но оно мне не понравилось тоном. Я схватил брюки, которые собирался надеть, и запустил их в спину уже выходящей из моего закутка мамы. И онемел от ужаса. Она оглянулась, укоризненно посмотрела, и молча ушла, оставив меня в столбняке…
И был случай, который повлиял на всю мою жизнь. Я же рассказывал, что начал курить с шести лет. У меня не было сильной тяги к никотину. Да и возможностей для удовлетворения потребности у меня не было. Курил я тайно. Лишних денег на курево не было. Это в Сергиевке я мог закрутить цигарку из бабушкиного табака, а где возьмёшь (и спрячешь от родителей) табак? И я приспособился воровать папиросы у отца. Он курил «Беломор». Запасные пачки всегда лежали в гардеробе. Я осторожненько извлекал клинышек бумаги, закрывающий доступ внутрь пачки, и аккуратненько вынимал две папиросины. Отец пропажи не замечал. И курил, когда дома никого не было.
Но однажды мама, ушедшая в магазин, внезапно вернулась с полдороги – деньги забыла. А в комнате дымок от недокуренной папиросы и устойчивый запах. Я задрожал от страха: ну, сейчас мама начнёт меня лупить! «Ты курил?» – довольно спокойно спросила она. Я ответил: «Да». Сказал, где брал папиросы. И довольно твёрдо пообещал, что больше никогда курить не буду. Мама поступила педагогически правильно: не ругала, не бралась за ремень и даже ничего не сказала отцу.
Это случилось во втором классе, и с тех пор я не курю. Пытались меня вовлечь во время богемных вечеринок в редакциях, чтобы табак усиливал действие алкоголя. Угощали «огоньком» во время перекуров в армии. Ничего кроме отвратительного послевкусия я не ощущал, даже аппетит терял. Не могу терпеть табачный дым. Это сильно мешало играть в шахматных турнирах. А противник, видя перед собой некурящего, специально дымил мне в лицо. Пару раз чуть не избили в электричке, когда я, стоя в тамбуре в ожидании своей станции, сделал замечание курящим, поскольку это официально запрещено, а мне в духоте дышать было нечем. Оба раза это было воспринято чрезвычайно агрессивно.
Может, это отвращение к курению тоже помогло мне дожить до солидного возраста?
Итак, всего три конфликта за всю жизнь! Это не много. Мама гордилась мной. Радовалась, что я не пью, не курю, не играю в карты на деньги, не участвую в драках и не ворую… Но это не давало ей абсолютного покоя относительно меня, активного мальчишки.
Случай – причина «естественного отбора»
Есть статистика, которая подскажет, сколько детишек доживёт лишь до определённого возраста. Это так называемый естественный отбор. Многих уносят болезни в раннем возрасте. К этому на Руси издавна относились, по сути, философски, чтобы уменьшить боль потери: бог дал, бог взял. Особенно, когда рожали помногу. Но когда погибает здоровый ребёнок от несчастного случая – это трагедия на всю жизнь.
А таких случаев за долгие годы взросления, приобретения опыта, возникает неисчислимое число, и никто не знает, откуда может прийти угроза. И особенно подвержены таким случаям, разумеется, мальчишки.
Когда во время войны мама работала в столовой официанткой, она, чтобы не оставлять меня один на один с крысами и не отпускать в неподконтрольные прогулки, пыталась держать меня возле себя. Целые дни я проводил в общепитовской обстановке. Это создавало определённые неудобства и работникам столовой, и мне. Чем заняться с утра до ночи? Перед открытием на обед мне разрешалось помогать в расстановке стульев. А вечером, после закрытия, – поднимать их на столы. Больше ничего доверить мне не могли. И пока обслуживали посетителей, я не знал, куда себя деть, чем заняться. И к вечеру был уставшим не меньше, чем мама.
Перед уходом домой была заключительная операция – чистка картофеля. Помню скандал, устроенный какой-то начальницей за то, что слишком толстыми получились очистки: «Люди голодают, а вы тут транжирите продукт…» Помню и приятное. Однажды так устал, что, сидя в кругу женщин, чистивших картошку, уронил непослушную головку на бедро молодухи, мерно покачивающейся в такт работы с ножом. Пригрелся, задремал. Вдруг слышу: «А что, Толик, нравится она тебе?» Как сказать «нет», когда пригрелся на мягкой ноге. «Женишься на ней, когда вырастешь?» – не унималась мамина коллега под хохот товарок. «Женюсь», – неуверенно пролепетал я сквозь сон…
Но столовская идиллия внезапно оборвалась. После случая, который чуть не стал трагедией. Засидевшись под каким-то свободным от посетителей столом во время обеденного обслуживания, я, пятилетний карапуз, вылез и оказался на ходу официантки, которая со скоростью экспресса неслась с подносом, где в два яруса стояли тарелки с горячими щами. Она споткнулась, с трудом удержалась сама и удержала поднос, а то бы обварила меня и рабочий класс, нетерпеливо дожидавшегося своего обеда. Шум, гам, скандал. И маме запретили держать меня при себе в столовой.
Что со мной делать, куда меня деть? В детсад меня мама не смогла пристроить. Запирала в комнате. Это было ещё как-то терпимо, когда мы жили в общежитии, в комнате с другими женщинами. Но потом маме дали отельную конуру, где нечем было заняться, и я, как уже рассказал, целый день сидел на подоконнике, наблюдая за улицей и кидаясь в крыс.
С наступлением тепла я мама меня оставляла на улице. С мальчишками жёг костры на пустыре. Безобидное, на первый взгляд, занятие обернулось неприятностью. Время-то военное, изобразить из себя стрелка всем хотелось. Вот и подкидывали в костёр что-нибудь, что производило шумовой эффект. Нет, до патронов дело у нас не дошло. Но случилось не менее опасное. Кто-то из мальчишек, что постарше, догадался подкладывать в огонь шифер. При нагреве он взрывался. Мы заблаговременно прятались, как бойцы на фронте от вражеского обстрела, и радовались эффекту. Но однажды шифер съехал с костра, мальчишка подошёл поправить, раздался хлопок, один кусок попал ему в голову, кровь залила лицо… Мы испугались и перестали играть в войну у костра. Да и взрослые стали запрещать нам разводить костры.
Но нет предела детской фантазии и находчивости. Тогда широко применялась автогенная сварка с использованием ацетилена. Газ этот привозили не в баллонах, а «добывали» на месте – из карбида кальция. Нередко рабочие слишком небрежно относились к его хранению. Мы тырили у них куски карбида, упаковывали в банки, заливали водой, карбид бурно шипел, выделяя ацетилен, только успевай поджечь…
Но и более тихое времяпрепровождение бывало опасным. Запомнилось моё путешествие по первому льду на Владимирском пруду. До пруда от маминой столовой метров двадцать, так что он всегда был первым объектом для осмотра окрестностей. Ближе к столовой находилась только яма от взрыва бомбы на месте аптеки. Яма глубокая, в мой тогдашний рост, можно было спрятаться от глаз посторонних. От строения не осталось ничего. Зато вся поверхность была усыпана осколками от аптекарского стекла и мелкими металлическими кусочками от аппаратуры. Но изучать их надоело, и моим вниманием овладел пруд. А он всегда был разным, в зависимости от времени года.
С сельского детства меня привлекал первый лёд: когда бросаешь камешки – раздаётся чистый, неповторимый звук. Но в тот день я решился прогуляться по свежему льду. Да не один, а с девочкой, которая была ещё моложе меня. Лёд трещал, прогибался под нами, но чем дальше мы шли, тем было интереснее: под тонким прозрачным панцирем виднелись водоросли. Сколько продлилось бы наша ледовая Одиссея и до чего мы бы дошли, если бы не истошный крик. Это мама девочки вдруг обнаружила пропажу своего дитяти, а увидев нас на прогибающемся льду, чуть в обморок не упала. На крик прибежал какой-то мужик, грозно приказал нам не двигаться, сбегал за деревянной лестницей, положил её на лёд и велел медленно двигаться к ней. Сам он приблизиться к нам не мог, лёд его не выдерживал, даже на лестнице.
Девочкина мама грубо отругала меня, а мне было весело от приключения, я, в отличие от взрослых, даже не успел испугаться…
О своих приключениях в первые школьные годы, которые я в основном провёл в Сергиевке, с бабушкой, я рассказал. Но и попозже, в подростковом возрасте маме было чего опасаться.
На рабочей окраине столицы, где мы жили, после войны властвовали банды. Безотцовщина, безденежье, алкоголь, бескультурье… Примерно каждый третий пацан из тех, с кем я играл, имел приводы. Некоторые прошли колонию, и не один раз.
В соседнем подъезде жила семейка – «достойная» ячейка передового советского общества». Молодая пара – на мой детский взгляд им было лет по тридцать с хвостиком. Оба регулярно оказывались в заключении. Жена в промежутках отсидки ещё как-то успевала поработать. Видел я её на заводе «Фрезер», она лихо гоняла по цехам на электрокаре, перевозя заготовки.
У мужа труд на благо социализма не складывался. Только выйдет – вскоре снова загребут.
Однажды он постучал к нам в квартиру. Я был один. Открыв дверь, я увидел его высокую фигуру, мрачную физиономию, и мои ноженьки подкосились. В такой ситуации растерялся бы кто угодно из наших соседей. Все боялись его, зная «заслуги перед отечеством».
– Я смотрю – у тебя книжки есть. Дай почитать… – довольно мягко и вежливо для его пугающей внешности попросил незваный гость.
Мы жили на первом этаже. Окно не всегда закрывали шторами. И с улицы, с высокого дощатого тротуара, когда вечером мы зажигали свет, хорошо видна этажерка с книгами. Так что не удивительно, что зоркий взгляд рецидивиста узрел «моё богатство». Хотя всего-то книг тогда у меня было десятка три. Вместе с учебниками. Выбор не велик. Что же ему предложить?
– Про природу есть? – неожиданно для меня спросил он. Я достал «Кащееву цепь» Михаила Пришвина. Другой книги «про природу» у меня не было. Он взял.
Я уж было распрощался с книгой, ведь мирская жизнь этого соседа была всегда кратковременной. Однако вскоре он вернул книгу.
– Занятная вещь, – прокомментировал он и ничего иного просить не стал. И даже не осмотрел содержимое этажерки. Вскоре он исчез. Видимо, вернулся в привычную тюремную среду. И исчез навсегда. По крайней мере, я его больше никогда не видел.
У этой криминальной пары родился сын. В тюрьме. Рос он, естественно, без родительского внимания, с бабушкой. Отличался… отборным матом. До школы он вообще не употреблял иных слов, не мог пользоваться нормальным лесиконом. Кроме того был нервозен и агрессивен, мог из-за пустяка полезть в драку, запустить чем-нибудь тяжёлым, что попадётся под руку. Я старался с ним никак не общаться.
Предполагаю, что из него вырос достойный преемник своих родителей на криминальном поприще. Но я это не смог наблюдать. После слома нашего дома пути-дорожки с ним, с его криминальным семейством и со всеми соседскими хулиганами разошлись. В этом, кстати, была социальная польза от хрущёвской программы по ускоренному возведению панельных домов в новых микрорайонах столицы: на какое-то время, на мой взгляд, некоторые банды, обильно расплодившиеся в трудное военное и послевоенное время, распались.
Но попозже довелось пообщаться с другим членом этого семейства. Опять-таки свою роль сыграло моё незанавешенное окно.
В соседнем доме как-то незаметно, неожиданно для меня из маленькой девчушки выросла невеста. На неё, как она призналась, произвела сильное впечатление моя поза «мыслителя». Видимо, она увидела меня, когда я зачитался книгой, позабыв и про незанавешенное окно и про весь остальной мир. Девушка сделала так, что мы вроде бы нечаянно столкнулись у дома. Познакомились. И хотя я был не на много старше её, но всё же раньше я видел в ней лишь кроху, копошащуюся в песочнице, и никогда не помышлял о знакомстве. Но теперь ей уже стукнуло шестнадцать. И она была весьма привлекательна. К тому же, как выяснилось, умна и начитанна. Она занималась в студии театра драмы и комедии на Таганке, который впоследствии стал базой для труппы Юрия Любимова. Мы стали встречаться, бродили по окрестностям, разговаривали на интеллектуальные темы. Она читала стихи. Никаких попыток к более тесному сближению с ней я не предпринимал. Просто она была редким, экзотическим экземпляром для нашего рабочего посёлка.
И вдруг приходит возбуждённый сосед из того уже мною упоминавшегося криминального семейства – младший брат рецидивиста-природолюба – и ставит передо мной вопрос ребром: насколько у меня серьёзные намерения относительно этой девушки? Мол, она слишком молода и ещё глупа, ты можешь её обидеть, а мы своих в обиду не дадим. Так что «отзинь», отстань то есть, у тебя своя компания, и живи в стороне, а то поговорим с тобой иначе… Угроза была недвусмысленной.
Причём тут девочка-цветочек и этот хулиган? Оказалось, они какие-то дальние родственники. А этот младший брат немногим уступал старшему по контактам с милицией, и лишь чуть-чуть не созрел для более серьёзных, тюремных дел. И у них на их «поляне» всё было под контролем. И любовь тоже. Я «отстал». У меня действительно не было никаких «серьёзных намерений» относительно шестнадцатилетней особы с творческим воображением. И ничего серьёзного у меня ещё не успело зародиться по отношению к этой милой девушке. И ей, видимо, «объяснили» родственнички, что негоже якшаться с более старшим парнем. Она больше ни разу не попыталась встретиться со мной, даже случайно. А если бы у нас была любовь?..
Угроза соседа-хулигана была вполне реальной. Пырнуть финкой в то время – это было запросто. Даже ни за что. Захотелось – пырнул: мене твоя рожа не ндравится…
Однажды мы с дружком еле-еле мирно разошлись с бандюганом зверской внешности. Он пристал к нам беспричинно. Просто ситуация удобная. Встретились с ним в узком проходе между сараев, по которому обычно мы возвращались с железнодорожной станции. Вечер, темно и никого, кроме нас двоих и этого третьего. А мы – мелкие, хилые подростки, нам было тогда лет по четырнадцать. Бежать было бессмысленно: его ноги в полтора раза длиннее. Изгилялся, детализируя, как он нас будет «чикать ножичком»… Покрутив перед нашими загрустившими носами стальным лезвием, понаслаждавшись нашим испугом и своей властью над нами, верзила миролюбиво завершил «беседу»: «Ладно, идите. Сегодня я добрый…» Чего ему было надо от нас, бедных пацанов? Не нашёл в тот вечер других «собеседников»?
При аресте главаря банды, жившего в соседнем бараке, погиб милиционер. Милиция озверела и замела человек двадцать. Об этом громком деле даже городская газета написала. Стало поспокойнее. Но лишь на какое-то время.
Сам не знаю, как я, ежедневно общаясь со шпаной, не угодил в переплёт. Не участвовал в воровских набегах на индивидуальную и социалистическую собственность, в массовых драках «улица на улицу» (или одна группировка на другую), в коллективных попойках… Что меня оберегало? Увлечение шахматами и соответственно общение с более интеллектуальными парнями? Дружба с умными девочками? Чтение книг и влияние на меня положительных героев (сказочных, мифических, идеологических)? Длительные, на время летних каникул, отъезды в сельскую среду, где общение с природой и каждодневные хозяйские заботы положительно влияли на психику и даже мировоззрение растущего человечка? Наверно, всё понемногу. Но главное, мне кажется, я всегда был индивидуален. В любой группе, в любой ситуации непонятным для меня образом складывалось своё особое мнение и независимое поведение…
В мою детскую карачаровскую пору бывали такие случаи, которые могли оказаться для меня трагическими непреднамеренно с чьей-либо стороны.
Шёл на станцию, остановился у дороги, пропуская грузовик. Он вёз из деревообрабатывающего комбината большие оконные блоки. Когда круто поворачивал, один блок вывалился. Рухнул на землю в сантиметрах от меня. Сделай я ещё шаг, не сочинял бы сейчас эти строки…
Однажды летом я готовился к экзаменам и сидел с учебником под нашим окном, в палисадничке на табурете. Читал книгу и одновременно загорал, подставив оголённую спину солнечным лучам. Гулял ветер, и так он рванул форточку на втором этаже, что оттуда выскочило стекло, оно спикировало на табурет в вертикальном положении, рассекло дерматиновое покрытие табурета. А я буквально за минуту до этого встал с табурета, иначе это стекло рассекло бы мне хребет. С тех пор всегда смотрю вверх, прежде чем сесть или встать… Это особенно важно в городе, поскольку на крышах вырастают большие сосульки, разрушаются карнизы и балконы, из лоджий выбрасывают опорожненные бутылки…
И после того случая, и много раз потом я ловил себя на мысли, что, возможно, это моё собственное предчувствие опасности меня подняло с табурета. И во многих других ситуациях, когда я бывал на волоске от гибели, что-то толкало меня на действия, которые спасали. Так у меня развита интуиция? Или кто-то из космоса мне подаёт сигнал? Или просто везение?
Я не мистик, но одно правило я вынес из жизни: сам не давай судьбе шанс для твоей погибели, постарайся хоть что-то предусмотреть, поосторожничать… Хотя понимаю, что мой совет останется без последствий для юных, поскольку каждый начинает жизнь, потрогав раскалённый утюг или лизнув языком мёрзлую железку… Кстати, я действительно делал и то, и другое. Особенно неприятным оказалось моя попытка лизнуть замочную петлю у бабушкиного дома – часть кожи так и осталась на железяке, видимо, для отпугивания потенциальных воров.
Главным врагом московской детворы у нас тогда была железная дорога. Она гремела составами всего в сотне метров от окон, угрожая и притягивая…
Есть такая забава на Руси (по-моему, она, к сожалению, сохранилась в некоторых местах до сих пор): подкладывать на рельсы под колёса приближающегося поезда петарды или гвозди. Мой сосед по 1-й Карачаровской улице захотел сделать себе ножичек из расплющенного гвоздя. Но заготовка от стука колёс слетела с рельса, он полез её подкладывать… Удар в висок – и мальчишки нет…
На железнодорожных переездах тогда ещё не было автоматических шлагбаумов, не стояли предупреждающие звуковые и световые сигналы. А потому в этих местах случались трагедии. Об одной из них записано у меня в дневнике за 1955 год:
«Во время экзаменов я потерял одного своего друга. Это случилось так. Шурка Балалаев поехал на каток в Плющево. Когда он шёл домой, то на переезде его сшибло паровозом: отрезало обе ноги и одну руку. Я никак не смог себе представить его мёртвым, до тех пор пока не увидел (я на каток не ездил)».
Представить Шурку Балалаева без ног и без руки было невозможно! Погиб самый интеллигентный в нашей компании парень: воспитанный, учился играть, вопреки фамилии, на скрипке. До сих пор помню, как на непонятно кем сделанном, даже не покрытом лаком инструменте он в тесной девятиметровой комнатушке устраивал нам домашний концерт – играл то, что успел заучить. Извлекал неожиданные звуки, которые нас, шаловливых и далёких от музыки мальчишек завораживали. Особо врезалась в память исполненная им в жалостливо-минорном варианте мелодия «Спят курганы тёмные»…Отец его погиб на войне, а он – в мирное время на рельсах. Мать осталась одна… Одна со своими мыслями и болями в келье-девятиметровке… И ради чего теперь ей жить?..

