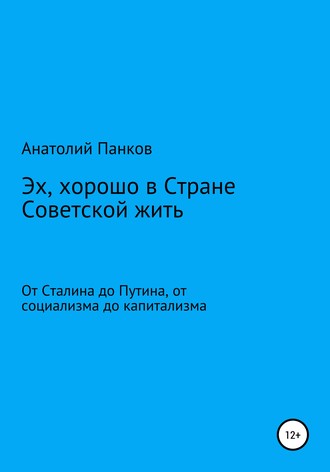 полная версия
полная версияЭх, хорошо в Стране Советской жить. От Сталина до Путина, от социализма до капитализма
Последний этап плена проходил в чудесном месте, практически на курорте – на юге Франции, на берегу Средиземного моря, в городе Перпиньяне. Попал он туда уже ближе к концу войны. По мере отступления гитлеровцев на Восточном фронте.
Держали их в какой-то крепости – то ли это была настоящая тюрьма, то ли приспособленный для такой цели монастырь. Режим был сравнительно мягкий. Их даже выпускали за пределы крепостных стен. Они и работали за его пределами. Где – отец не уточнял. Или я забыл.
Им разрешалось посещать местные кабачки. Французы хорошо относились к военнопленным, и было заведено такое правило: местные жители жертвовали небольшие средства для них, приклеивая франки на стене питейного заведения. Приходил военнопленный, отлипал бумажку и заказывал себе бокал вина! В это трудно поверить, но это – факт.
Город освобождали американцы. Военнопленных отправляли морем. Уже в порту наши разделили наших: офицеров отдельно от остальных. В плену отец подружился с красноармейским командиром Алексом (вероятно, Александр, а может, Алексей). В порту их пути разошлись, о судьбе друга отец больше ничего не знал, да и боялся что-либо узнавать. Это называлось фильтрацией. Всех офицеров, попавших в плен, в соответствии с приказом Сталина сразу же отправляли в застенки, а после судов – или расстрел, или в ГУЛАГ, на медленную, мучительную смерть.
После возвращения на Родину, отец ещё раз оказался в красноармейской форме. В чине рядового он прослужил несколько месяцев, до осени сорок пятого.
В Москве, после демобилизации, он понял, что мы у бабушки. И неожиданно для нас, без предварительной весточки, появился в Сергиевке.
Но… «Может, ты ещё пожалеешь, что я вернулся», – долгие годы потом повторял он мне. И было ему чего опасаться за мою жизнь, точнее за карьеру: плен отца – это тёмное пятно в биографии детей. Мне всегда было неприятно писать в анкетах о военном плене отца. Скорее, с моральной стороны: вокруг столько героических участников войны, у многих награды, а моим отцом не возгордишься.
Правда, на моей карьере отцовский плен никак не сказался. Даже когда приглашали на работу в такую закрытую контору, как Министерство внешней торговли СССР, меня заверили, что плен отца мне не помеха, поскольку он вернулся до 1948 года. Был такой установлен временной водораздел: быстрое возвращение из-за кордона и с задержкой. С задержкой – может ты уже подготовленный западными спецслужбами враг? И, тем не менее, напоминаю, отца чуть ли не до конца его жизни продолжали вызывать в КГБ, что-то выпытывая. Что именно – отец не распространялся. Когда в последний раз он рассказывал об этом, я впервые заметил, что говорит он об этом уже не со злобой, а с усталой горечью.
Врезал раз – запомнилось на всю жизнь
Про моих родителей можно сказать словами, которые я позже, учась в университете, почерпнул из философии: борьба и единство противоположностей.
Что можно назвать их «единством»? Свидетельство о браке, выданное в 1934 году. Меня – как их совместный продукт. И жильё – как место совместного проживания. Наполнялось ли это пространство между стенами, полом и потолком понятием «семья», мне в раннем детстве было трудно судить.
А противоположны они были практически во всём: внешне – по цвету волос и глаз, по децибелам голоса, по манере говорить, по отношению к другим людям, по отношению ко мне, наконец…
Отец был на вид суров, с тяжёлым взглядом, которого люди, не знающие отца, не выдерживали. Трезвый – замкнут, малоразговорчив. Мог пошутить, типа: «Рубай компот, пока он жирный!». Или: «Рад бы в рай, да грехи не пускают». Но это случалось редко. Вероятно, грехи-то и мешали жить более открыто. В подпитии язык развязывался. Но добряком не становился. Даже иногда наоборот – появлялось беспричинное озлобление. Его побаивались, особенно те, кто мало знал.
Пьяная разговорчивость его была своеобразной. То запоёт известную официозно-советскую песню на свой лад: «Широка страна моя родная. Много в ней тюрем, лагерей. Я другой такой страны не знаю, Где так сильно мучают людей…»
То ни с того ни с сего процитирует стихи, в том числе – идеологически недозволенные. Особенно часто вспоминал фактически тогда запрещённого Сергея Есенина. За его степную и гулящую удаль? Это бы я понял, но он цитировал есенинские стихи и про Ленина:
«С плеча голов он не рубил,Не обращал в побег пехоту.Одно убийство он любил —Перепелиную охоту».Почему именно это и про Ленина? Верил, что тот «не рубил голов»? Противопоставлял его Сталину, «рубившему» всем подряд вокруг себя? Может, думал, как многие, что будь жив Ильич, не было бы такой гибельной войны с собственным народом, даже после «окончательной победы социализма»? Может, с благодарностью вспоминал ленинскую НЭП (новую экономическую политику), когда вернулась, пусть и в ограниченном виде, частная собственность, свободная торговля, и экономика начала быстро оживать?
То, прослушав очередную информацию по радио о наших достижениях, иронически прокомментирует: «Семь вёрст до небес, и всё – лесом…»
То заговорит по-немецки: «Айн, цвай, драй…». И что-то ещё, более содержательное, чего я не запомнил.
То вспомнит французское: «Коми сова?»
То вдруг остановит себя на полуслове, просверлит меня своим тёмными глазами: «Мужичок, молчок!» Время было такое опасное: не болтай лишнего, даже в своей квартире…
Отец вкалывал с утра до ночи. И по выходным – тоже. Он был и плотником, и прекрасным столяром-краснодерёвщиком.
Постоянно подхалтуривал. Делал по заказу новую мебель: двух- и трёхстворчатые шкафы, раздвижные столы, журнальные столики, мягкие диваны… Реставрировал старую – полностью или отдельные детали. Помню, например, обновлял стенку для старинного пианино с вырезанной из дерева гирляндой цветов. Часть гирлянды была отломана. Отец вырезал недостающие детали и долго подбирал морилку и лак, чтобы добиться полного совпадения с сохранёнными цветочками. Получилось классно! А ещё он ремонтировал дачи: клиентами были врачи, учёные, писатели, военные. Фамилию он назвал только одну – Панфёров. Был такой советский писатель, автор ныне позабытой книги «Бруски». По совпадению, я потом работал с его сыном Кимом в газете «Водный транспорт».
Напомню: тётя Клава подрабатывала дома как дамский парикмахер, мама нянчила чужих детей и сдавала спальное место, мне шила пальто домашняя мастерица, отец выполнял разные заказы – всё это говорит о том, что частное предпринимательство сохранялось и при жесточайшем большевистском режиме, когда частная инициатива была наказуема. Люди преодолевали страх, исхитрялись. Потому что, во-первых, они хотели лучше жить, больше зарабатывать (закон их в этом ограничивал). Во-вторых, у многих оставались нереализованными их деловые качества. Кстати, во время горбачёвской перестройки, и ещё раньше (видимо, под влиянием не афишируемых, но известных в узких кругах предложениях премьера Алексея Косыгина) даже среди партийных функционеров появилось немало сторонников перемен, чтобы развязать руки деловым людям, особенно в сельском хозяйстве, которое настолько захирело в колхозно-совхозной системе, что Советский Союз вынужден был закупать за твёрдую валюту (за золото!) зерно, чтобы прокормить людей и скот…
По месту основной работы – на Карачаровском деревообделочном комбинате № 3 отец зарабатывал хорошо. Был бригадиром. Числился в «передовиках». Однажды, когда в очередной раз он повёл меня в комбинатовский душ мыться, я увидел его фотографию на Доске почёта, что висела возле проходной. Мне было приятно это увидеть. Но сам отец никогда не рассказывал о своих производственных достижениях. То ли пренебрегал официальным признанием, считая благодарности клиентов более существенными, то ли просто скромничал.
Однако рассказал, что по заданию предприятия участвовал в изготовлении дверей и ещё какой-то столярки для реконструируемого Кремля, в частности для Грановитой палаты. Видимо, всё же ему было приятно, что доверили такое важное дело. Правда, признался, что однажды ошибся при разметке каких-то кремлёвских дверей. Пришлось их переделывать, ущерб составил десять тысяч рублей. Если учесть, что он никогда не посвящал меня в свои производственные (и тем более левые) дела, то это признание собственного просчёта я расцениваю как его извинение хотя бы передо мной (за брак расплатился комбинат): ведь он считался таким высокопрофессиональным специалистом!
При его доходах нам можно было жить припеваючи. Ему хватало средств прокормить скромную жену-домохозяйку и нетребовательного ребёнка. Однако он много пил, имел любовницу (как говорила мама, шалашовку). Потому и свободных, про запас, денег дома никогда не было. Мама еле сводила концы с концами. Экономя каждую копейку, старалась правильно распределить выдаваемые отцом рубли от зарплаты до аванса и т. д. А её регулярные просьбы меньше пить и больше выдавать денег семье, заканчивались столь же регулярными скандалами.
За всю нашу совместную жизнь я только три раза, с опаской, попросил у отца денег. В двенадцать лет – на покупку шахмат и коньков с ботинками. И уже, будучи взрослым, я попросил его временно помочь мне, когда вдруг решил приобрести профессию крановщика и устроился на двухмесячные курсы, где стипендия была очень маленькой. В первых двух случаях он охотно откликнулся, в третьем – денег не дал, а покупал мясо и сам его для меня жарил (он другого способа приготовления пищи не признавал).
Возможно, он мне помог бы деньгами и при других моих надобностях. И даже, скорее всего, помог бы. Но больше я его не просил. А он никогда не предлагал. Оба – гордые.
И у меня не было велосипеда, не было мячей, нормальной хоккейной клюшки и много чего ещё, что так хотелось иметь и что было вполне по карману прилично зарабатывавшему высококвалифицированному рабочему.
Более того, он никогда ничего в детстве мне не дарил! Не могу же я назвать подарком взятые им на чьей-то даче книги. Как-то он ремонтировал дом, на чердаке которого хранились старые, в том числе списанные библиотечные книги 20–30-х годов. Хозяин разрешил «взять почитать». В том числе не заинтересовавшие меня тогда «Записки из мёртвого дома» Достоевского, а также «Вверх дном» и «20 тысяч льё под водой» Жюля Верна, которые я прочитал запоем. Но новых книг не дарил. Он их просто не покупал. Лично у него были только специальные книги – по технологии деревообработки, переводные, с немецкого языка, изданные ещё перед войной с Германией, когда СССР с ней дружил. Из них я запомнил мудрёные слова: зензубель, шерхебель, рейсмус…
И ни разу (НИ РАЗУ!) в нашей семье не отмечался мой день рождения. Я вообще о таком празднике жизни узнал только тогда, когда закончилось детство. Впрочем, и дни рождения отца и мамы тоже не отмечались! А ведь все мы родились в течение одной календарной недели! Все – августовские, все – зодиаковские Львы. И даже малейшего намёка на семейный праздник никогда не было.
К сожалению, заложенная во мне с детства эта пренебрежительная семейная «традиция», повлияла на моё дальнейшее поведение. Это – позор, но только сейчас, на закате жизни, я вдруг обнаружил, что не знаю дней рождения моих ближайших родственников. И никого никогда не поздравлял с этим личным праздником. Даже моих любимых женщин – бабушку и тётю Клаву. С Новым годом поздравлял, и то не каждый раз), а с именинами – никогда… Вот такое воспитание.
Ну, хоть куда-то с отцом мы ходили, ездили? По семейной обязанности – он несколько раз водил меня в заводской душ, поскольку нормальной бани или душевого павильона поблизости тогда не было: мыться ходили или в Перово, или к заводу «Фрезер», или ездили на станцию Новая, в бани завода «Компрессор». Но это – гигиенические дела. А для души? Для отдыха и развлечения?
Вместе с мамой, когда она ещё способна была двигаться, втроём мы несколько раз бывали в гостях. У родственников. Запомнились два случая.
Было мне лет восемь – девять, у какого-то дальнего родственника на Перовом Поле собралась обширная компания. Сохранилось даже фото, как память об этом застолье. Тогда меня поразил громадный, тарахтящий мотоцикл «БМВ». То ли собственный трофей в память о минувшей войне, или перекупил?
И ещё запомнилось, как мы также втроём, всей семьёй, ездили к брату отца на шоссе Энтузиастов. А заодно посетили Измайловский парк. Возможно, это бы и не врезалось в память, если бы не самолёт. Настоящая боевая машина стояла на парковой площадке, где впоследствии каждое лето выращивали огромное мозаичное панно из живых цветов с портретами Ленина и Сталина. Тогда этого произведения социалистическо-ботанического реализма ещё не было. И мы, дети, с благоговением залезали в открытую кабину лётчика. Вероятно, это был советский истребитель.
И отчётливо запомнился отец – в белых брюках! Была такая советская мода в те годы!
А вдвоём с отцом мы ходили лишь два раза! Два – за все годы детства! Если не считать посещения общественных моечных заведений.
Он со мной сходил в мастерскую приклёпывать коньки к ботинкам. Тогда их раздельно продавали. Мастерская была где-то далеко от дома, и мы поехали вместе.
Во второй раз отец повёз меня на улицу Радио в гости к какому-то инженеру. Тот сам собрал телевизор, радиоприёмник и электропроигрыватель граммофонных пластинок. Отец сделал под эту техническую троицу специальную тумбу-этажерку. Шёл 1950-й год, я о телевизоре ещё ничего не знал, никогда его не видел. И, пока взрослые отмечали праздник (это было седьмого ноября), я, не отрываясь, заворожённый, просмотрел два «лживых» (по выражению Анатолия Рыбакова) фильма Михаила Ромма подряд: «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Что в этих фильмах правда, а что ложь – я об этом не задумывался и судить не мог. Я смотрел телевизор! Из первого фильма мне больше всего почему-то запомнился Керенский (наверно, потому, что я впервые увидел «главного врага революции»). А из второго – как рабочий-солдат ходил по Смольному: то всё пытался собственными глазами увидеть вождя мировой революции, то искал кипяточку, наткнувшись на этого самого вождя, но не признав в этом плюгавеньком картавом мужичонке такового.
И как же я мечтал с отцом сходить в театр! Но он сам не ходил, ему это было чуждо, и ни разу не купил билеты для меня и мамы. Даже ни разу не заикнулся об этом. И в кино мы с ним не ходили, и в цирк, и на ёлку. А я ни разу не намекнул, не попросил его о таком культпоходе.
И ни разу он не ездил вместе со мной в Сергиевку, где я каждое лето до седьмого класса проводил каникулы.
И ни разу он не был в школах, где я учился. Ни в одной. И никогда не интересовался, что я читаю, с кем дружу, как я учусь. Я даже за него несколько лет (с пятого по седьмой класс) подписывал школьный дневник! Однажды, правда, я обратился-таки к нему за учебной помощью. В пятом классе забуксовал по математике, попросил помочь с решением задач, но его знаний не хватило, и я перестал обращаться, надеялся только на себя. Как и во всём остальном.
Правда, ещё раз обратился за помощью по школьной проблеме, но – за технической. Кто-то сломал ножку учительского стула. Как ни выпытывала классная руководительница, никто не признался. Она держала нас стоящими больше часа. На короткое время покидала нас – видимо, для того, чтобы мы сами заставили виновника признаться в совершённом. Но никто ни на кого не указал, а сам ломатель не сознался. Тогда я не выдержал и пообещал, что попрошу отца сделать такую же ножку. Учительница согласилась. А отец отругал меня. Наверно, опасался, что «школа сядет ему на шею» и будет постоянно просить что-то отремонтировать. Но школа больше не просила.
Как великолепный краснодерёвщик, он мог бы потихоньку приучать меня к своему ремеслу – не для профессиональной стези, а хотя бы для бытовых целей: мужик обязан уметь держать молоток и стамеску. Отец ни разу не предложил мне помочь ему (скажем, размешать клей, подать рубанок) – он бы приблизил меня к себе. Увы!
Я даже боялся брать его инструменты. А он оберегал их от меня, не разрешил пользоваться: чтобы не затупилась стамеска, которую он доводил до такой остроты, что можно было ею бриться; чтобы не лопнуло полотно пилы; чтобы не нарушилась настройка рубанка… Но хоть что-то можно было бы мне доверить! Приучать и приручать сына – важнее, чем беречь свои «железки» и «деревяшки». Нет, не было у него желания или педагогического дара, да просто отцовского стремления, чтобы задружиться с сыном.
Когда он работал дома, я следил за его действиями исподтишка, словно боялся потревожить творческую атмосферу мастера. А работал он тщательно, красиво, с увлечением. И предполагаю, если бы попробовал сунуться к нему с предложением помочь, он меня грубо отшил.
Правда, гены дали о себе знать: уже взрослым я стал неплохим «домашним мастером», умея выполнять практически любой ремонт, но не краснодерёвщиком.
И ещё одним умением отец не поделился. У него была гитара. Играл редко. Но, когда он брал её в руки, то, как мне казалось, играл с удовольствием. Это, пожалуй, было его единственным увлечением после «халтуры» и водки. Несмотря на сильно повреждённый большой палец, что мешало брать некоторые аккорды, получалось у него неплохо. По крайней мере, в известных мне мелодиях он не перевирал. Что это – цыганские гены сказались? Он вроде и не учился нигде.
Даже не знаю, в каких случаях он брал гитару в руки, от настроения, что ли, зависело? От нахлынувших воспоминаний? Но никогда – в пьяном состоянии. Казалось бы, в подпитии тут бы и излить свою боль в задушевной мелодии. Но нет. А вот сядет на диван дома или на ступеньки крыльца – и полилась мелодия. Запомнилось мне из репертуара Лидии Руслановой: «Когда б имел златые горы И реки полные вина…» Что ему нравилось в этой песни? «Реки полные вина»? Или тоска по неисполненному желанию: «Все отдал бы за ласки, взоры, Что б ты владела мной одна». А вдруг было в его юности такое: «Но он не понял мою муку И дал жестокий мне отказ». К кому-то сватался, но отец возлюбленной дал ему от ворот поворот?..
Я не осмелел попросить его научить меня, а он не предложил. Так и не научился я играть ни на каком-то музыкальном инструменте. И всю жизнь жалел об этом.
Но хоть как-то он воспитывал меня? По российским меркам, весьма гуманно. Он лишь один раз за всю жизнь ударил меня ремнём. Это случилось на 3-й Карачаровской улице, когда я учился во втором классе.
Как-то пришёл отец с работы уставший, злой. Мама разогрела, поставила ему еду. «А мне?» – заканючил я. Не знаю, что на отца нашло, или он выместил своё поганое настроение на мне, или решил на всю жизнь преподать мне урок, кто в доме главный. Он вдруг встал из-за стола, зажал мою голову между своих ног, достал из брюк ремень, оголил мою задницу и два раза вмазал мне как следует, от души. Всё это он проделал молча, неспешно, но угрожающе-решительно, я даже пикнуть испугался. В общем, за дурную голову всегда отвечает задница… Зато с тех пор я не канючил.
Ну, а боялся я отца и раньше этой экзекуции. Причём ни до, ни после этого отец больше меня ни разу не ударил – ни ремнём, ни рукой, ни ногой. Один раз врезал – а запомнилось на всю жизнь.
Отмечу ещё одно влияние отца на меня. Читая, эти строки может возникнуть вопрос: если отец так регулярно пил, то что стало с сыночком? Не алкаш ли он? Нет, я не алкаш. Но начиналось горько.
Было мне уже пятнадцать лет, когда отец в День Победы угостил меня алкоголем. Впервые. Мама разволновалась. Но отец успокоил: «Ну, это же не водка – грузинское вино. Ему пора попробовать». Видимо, он решил выполнить свою отцовскую миссию – приучить меня к культурному потреблению алкоголя, качественного и не в какой-нибудь стоячей забегаловке-рюмочной, коих тогда развелось в Москве, как поганых грибов, и не где-нибудь в подворотне, бесконтрольно.
Но красным вином дело тогда не ограничилось. В тот праздничный день я встречался с друзьями-однокурсниками. И мы решили его хорошенько отметить. Скинулись на бутылку портвейна «777». Закусили рукавом. И меня развезло. Помню, как ребята вели меня под руки. А потом я совсем вырубился, и они меня уложили на газоне женской школы. От прохладной травы на миг очнулся и опять ушёл в небытие. Как-то они доставили меня до сарая на 3-й Карачаровской улице. А куда же ещё, не домой же, если по дороге я блевал. Очнулся я почти в темноте – лишь сквозь дощатые стены пробивался свет. И увидел рядом… участливое лицо симпатичной девушки. Она вытирала мой испачканный пиджак, что-то тихо говорила, успокаивая меня. От этой заботливости приятной незнакомки мне стало ещё хуже, на душе, конечно. Стыдно, позорно…
Меня чем-то подкормили, напоили, я немного окреп, и мы поехали в центр Москвы смотреть праздничный салют…
Полагаю, это первое гадкое соприкосновение с алкоголем стало мне уроком и выработало некий иммунитет. Потом мы регулярно с техникумовскими однокурсниками отмечали праздники, дни рождения, и всё было культурненько. Но в моей жизни ещё было два случая, когда я, выпив изрядно алкоголя и ничем не закусывая, «уходил в мир иной». Меня оставляли в покое (видно, не в отца я пошёл – слабоват против алкоголя). Эти постыдные потери сознания навсегда приучили меня если и пить, то в меру и культурно – с хорошим закусоном. Более того я без объяснения причины стал отказываться от алкоголя. Чем вызывал у компании подозрения, особенно у коллег-журналистов: если не болею, значит сексот, коли сохраняю трезвый разум. Тогда всех подозревали в доносительстве спецорганам, что соответствовало реальности: в каждой более или менее сложившей компании чекисты обязательно имели человека, который делился услышанным (не лишне и сейчас помнить об этой «традиции», которая помогает органам знать, что происходит в независимых партиях, в особых группах людей, об их настроении и планах…). Но я отказывался от попоек, поскольку решил укреплять здоровье…
Продукт домостроя и сталинской эпохи
Можно сказать, что отец был типичным продуктом и семейного домостроя, и бытового бескультурья российской глубинки, и, в тоже время, продуктом сталинской эпохи, которая, пытаясь лепить «нового человека», нередко ломала судьбы.
В 1929 году, когда на селе произошло «головокружение от успехов» коллективизации, а за околицей началась индустриализация, отец уехал на бакинские нефтяные промыслы. Тогда вообще начался массовый исход крестьян в города. Далеко не все захотели «горбатиться» на непонятный колхоз. А в городах была нехватка рабочей силы, и можно было легко найти стабильно оплачиваемую работу.
То ли как человек с хорошим для тех лет образованием – семиклассным, то ли по молодости (ему минуло только шестнадцать лет), отец получил там место библиотекаря. Благодаря этому стал начитанным.
Кстати, скорее всего именно в Азербайджане он и закончил семилетку. Ведь в Сергиевке он мог получить только начальное образование. А в соседние города отпускать его дед вряд ли согласился: и терять рабочие руки не захотел бы, и, тем более, нести расходы за автономное проживание сына, слишком молодого для такого проживания и способного на непродуманные поступки.
Когда отец вернулся в родное село из Баку, не знаю. Скорее всего, в 1933 или в 1934 году. Почему – тоже мне неизвестно. Может, затем, чтобы жениться на хозяйственной сельской девушке?
Со своей будущей женой, моей мамой, он не «дружил», то есть не встречался, не гулял по деревне и за околицей, не провожал, не дарил цветов, даже полевых, не объяснялся в любви. Да и была ли любовь? Просто присмотрел её в деревне, и, видимо, она в наибольшей степени подходила под Семёновы понятия о достойной и верной спутнице жизни, ну и по возрасту. Как рассказала мама, однажды он подошёл к ней, твёрдо взял под локоток: «Будешь моей женой!» Будущая супруга не смогла даже пикнуть: так боялись в деревне «Ерёмкиных» (деревенское прозвище Панковых). Потом – сваты, свадьба. Брак зарегистрирован в 1934 году.
Отец не привёл молодую жену в родное гнездо, он предпочёл жить примаком – у тёщи. Хотя в этой избе жили ещё четверо подрастающих Бросалиных. Почему сделал такой нетрадиционный для села выбор? Может, у моего отца, помимо всего прочего, не сложились отношения с мачехой? Вряд ли: тётка Домна была простовато-грубоватой, но беззлобной и трудолюбивой. Вышла замуж за деда, когда после смерти его первой жены у того на руках осталось пятеро шустрых «цыганят»! И она их всех выходила, как своих! А свой ребёнок был только один – дочь Елена, женщина не с панковским характером, мягкая, нерешительная, так и не вышедшая замуж, хотя и родившая дочку Зину.
Скорее всего, отец решил окончательно освободиться от опеки своего отца, от его крутого нрава, от шумливого многолюдья в избе. А у тёщи он – самый старший мужик – по сути, глава семьи!
Совместная жизнь моих родителей началась с катастрофы. Их обокрали. Объяснить это сложно. Как могли вынести из дома буквально всё, что можно было унести, даже гитару, которая висела на гвозде над кроватью, когда они были дома? Но это документальный факт. Проснулись – горница опустела! Объяснить это можно только хорошим подпитием накануне. Или снотворным, что в те годы было невероятным…

