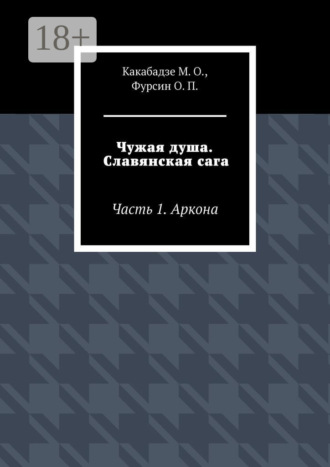
Полная версия
Чужая душа. Славянская сага. Часть 1. Аркона
И когда отец объявил мне, что назавтра нужно ехать мне с теткой обратно,
начались слёзы. Я рыдала, и остановить меня было невозможно.
Поначалу это вызвало непонимание и раздражение. Затем испуг: дитя избалованное и дерзкое, но отнюдь не плаксивое. Кажется, плакала раз, когда родилась, другой раз, когда перевернулось варево, плеснуло ей на голень, ожгло не на шутку все-таки; а третий – когда любимая нянька с лестницы на бегу упала, да сломала шею, вот горя было и слёз! Так что коли плачет княжна, значит, дело нешуточное…
Решено было остаться в Арконе еще неделю, погулять по меловым утесам, требы во Храм снести, братьям, что в пределах Храма живут и начали свою службу, показаться. И им в радость, и я, может быть, успею Арконой надышаться, надоест. А там домой захочется, в зеленую чащу.
Отец продолжал злиться: у него было много дел. К нам без конца приходили люди: те же «корабельщики», с лицами загорелыми, все больше обритые, иногда с клоком не выстриженных волос на тщательно обритой голове, усатые, со взглядом цепким. Я мешала отцу в каких-то переговорах. Не то чтобы места не было уединиться, но, зная мою привычку появляться в самое разное время в самых неожиданных местах…
Меня с теткой гнали гулять, и мы гуляли. Мне невозможно полюбилась Аркона, с её берегами, в которые билось море. Нельзя было и представить, что я вновь вернусь в глубину чащоб, в Кореницу, да ещё без своих любимых братьев.
И вот, на исходе недели, нас посетил Белогор. И этот гость решительно изменил мою предполагаемую будущую жизнь.
Весь дом был разбужен с раннего утра вестью: сам Белогор стоит у наших ворот, и он принес нам очищенную воду, и уже залил её в нашу бочку для питья, и готов переговорить с обитателями дома и насладиться нашим гостеприимством. И видеть желает всех, кто в нем есть. Хочет благословить наше утро…
Меня разбудили и наскоро одели. Отец, не выспавшийся и злой, уже стоял на пороге, и пытался изменить выражение лица на радушное. Удавалось плохо; я подбежала под его руку, стала ласкаться. Кажется, мне удалось вернуть на отцовское лицо улыбку. Тетка волновалась, раздавала приказы о принесении разнообразной снеди, наливок. Где-то что-то хлопало, падало и билось, стучали двери. Словом, волхв принес с собой беспокойство всем, кому только можно, в этот ранний час в княжеском доме.
– Я пришёл с миром, – объявил он с порога. – Радуйтесь, дети, Он любит вас, и несет вам свой свет. Встречайте, откройте ставни, в который раз побеждена Им тьма. Сегодня Яр Конь вернулся из дальних мест: стерты его копыта, и грязь прилипла к ногам, и волос потемнел от пыли дорог…
Возможно, на лице моего отца Белогор прочёл нечто его огорчившее. Иначе зачем вдруг изменился он лицом, и спросил:
– Помнишь ли, князь Тетыслав, слова эти?
И стал говорить, отчетливо, подчеркивая каждое слово:
– Я бог твой, я тот, который одевает поля муравою и леса листьями: в моей власти плоды нив и деревьев, приплод стад и все, что служит на пользу человека. Все это дарую я чтущим меня и отнимаю у тех, которые отвращаются от меня…
– Помню, волхв, помню, – ответил отец, и в голосе его было нечто просящее или примирительное, я не поняла.
– То-то. Попомни слова эти. Все мы дети Его, и ты – тоже. Много к тебе, князь, людишек ездит. Много тех, кто известен своим нравом буйным. Погуляли они у соседей, наслышан. По княжескому, верно, решению? И тебя в Коренице раз и другой по месяцу не было, знаю. Уж так погуляли, много даны теперь поплачут. И без того война и у них, Свенд и Кнуд63 пошли против брата, и нет конца – краю крови пролитой…
Отец молчал, я, в меру своих небольших возможностей, сводила концы с концами. Вот оно как, отец, значит, нарушил слово своё – пока не поднимет Яромира, не поставит на княжение, в бой не пойдет. А ведь прав Белогор, не было князя нашего и отца месяца два, я ж скучала как, а он потом говорил – я в Арконе был по делам, в Венете тоже… везде князя ждут!
Белогор молчал, отец голову повесил и не ответствовал, ахнула и прикрыла рот рукой тетка. Долго смотрел на князя Белогор, потом головой покачал, продолжил:
– Я тебе, князь, так скажу: Световит против доброй битвы не против никогда. Воин с воином, меч с мечом. А когда ты с лица земли города да поселки сметаешь, когда пожары вокруг, дети и женщины гибнут, старики… Кто ж простит тебе, князь, кто отпустит? Рано ли, поздно ли, поднимутся даны, а ну как придут за кровь спрашивать? У тебя тоже дети, ты боль знаешь, Тетыслав…
– Да мы, кажется, волхв, ещё живы все, и мечи наши не ржавые, почто пугаешь? Ты и сам воин! – взорвался отец.
Белогор махнул на него рукой, ногой топнул.
– Оно так, и мы тебя не выдадим, коли ты нас не выдашь! Только раньше с Большой земли была у нас поддержка, и свои все кругом, а нынче с крестами все, погиб не один уж Род, родство поправ и веру! Оттого и гибнут, что отступники покорившиеся, да только нам легче не становится. Мало нас, а врагов много. Отзови дружины свои, Тетыслав…
Отец кивнул головой, соглашаясь. Буркнул только:
– Всех не отзовёшь. У многих своя голова на плечах. Сами решают, где её сложить можно…
Повздыхали. Я теряла терпение, переминалась с ноги на ногу, боясь, что переругаются, а тетка не знала, когда ж ей вставить слово, посадить волхва к угощению. Вот, вроде и молчат мужчины, а только висит в воздухе гроза.
– Аж у самих свеев64 построили крепости для отхода. Ааргуза65 почитай нет, разорён, в самом Роскилле66 у данов стоим. Лаланд нам дань платит. Не поднять им головы, волхв. Не зря старались. Сколько наших полегло за славу эту, эх…
В голосе отца было столько горечи! Все знали, что не участвуя в военных событиях сам, князь Тетыслав жизнь свою положил на воинскую славу Руяна. Он каждого воина знал в лицо. Он заботился о семьях своих корабельщиков. Впрочем, давно уж на острове беда каждого становилась заботой всех. Не было у нас нищих и голодных, не было одиноких. И впрямь так!
– Когда нынешний король данов победит братьев своих, а к тому дело идет, трудно придется нам, князь. Он ведь и сам вполовину наших кровей, и жену взял от дальней родни нашей.67 Я так сужу: не падали бы деревья в лесу, когда бы ни топорище – у топора. У него своя держава, он о ней заботиться станет. А ты у него на дороге, и так судил Светоносный: либо ты, либо он. Укроти сердце своё, князь Тетыслав. Не будет помощи нам и от своих: крестом они помеченные. Вот мы Шецин68 проклятию предали, ни один корабль не пристает к нашим берегам, отвержены нами поморяне. И душит их злоба на тех, кто не сдался, и зависть к силе нашей. Я не удивлюсь, коли они данам помогать станут. Укротись, уймись, усмирись, Тетыслав. Так надо…
Отец вновь кивнул головой, соглашаясь.
– И вот ещё что, князь Тетыслав. Я ведь поэтому и шёл к тебе, а видишь, как разговор у нас лёг… Дщерь свою оставь в Арконе. Не надо ей в Кореницу.
Отец вскинулся, но и слова не смог сказать, за сердце схватился, глаза выпучены…
– Не подумай, что в заложницы беру, – мягко сказал Белогор. – Мне не того надобно, у меня уж и сын твой, то большая твоя забота. Только незачем ей пока домой возвращаться. Ей больше дано, чем всякому другому, она Божий свет видит, различает. Она особенная. Полюбилась мне. Позволь, научу её чему-то, что больше пряжи и варенья всякого.
Отец молчал, не было у него слов. Вглядывался в лицо Белогора, пытаясь понять истинную причину просьбы. Я же окаменела, боясь, что он очнется от растерянности, и тогда скажет «нет».
– Пойди ко мне, чадо, – ласково сказал мне жрец.
Я бросилась к нему, раскрыв руки для объятий. И он меня принял в свои…
13. Новая жизнь
Тётка не согласилась уехать в Кореницу одна, «без своих детей», как она заявила отцу. Да и оставить меня в доме у волхва отец не захотел. А так: живёт княжна руянская в каменных хоромах родовых под присмотром тётки, в столице страны, отцом навещаемая. Не без того, чтоб ей Храм посещать, и под защитой главного волхва. Всё так, как может быть, да и должно быть.
А в гостях у Белогора я бывала очень часто, но ведь к нему немало народу приходило, не я одна. Тётка зачастую шла со мной, и будто бы лечил её Белогор, как она говорила, от женских немощей, но к «делу» её жрец не допускал, и она сидела, попивая иван-чай с женой Белогора, важной, степенной, но совершенно обыкновенной Бояной. Бояна была матерью двоих детей: дочери, которая вышла замуж в Венету, там и жила с собственными тремя ребятишками, и сына, который исчез из жизни семьи давно: навязался в спутники корабельщикам, мальцом ещё, и корабельщики те пропали, и юнец.
Белогор не любил вспоминать об этом, а я не любила сердить Белогора, чтоб не сбить волшбу.
Как мне нравилась волшба, как я любила наблюдать за моим кудесником, когда он занимался своим делом!
Мы обходили с ним окрестности, порой самые дикие, заброшенные места.
Искали девясил, тысячелистник, зверобой, душицу, дудочник, иванчицу, клевер и другие травы, и все это в разные месяцы, в разные лунные циклы. То нам нужны были корни, то листья, то цветы. Потом все это сушилось, и тоже по-разному: то на солнце, то в тени. Потом стиралось в порошки, варилось, настаивалось в масле или на медовухе. Я, кажется, навсегда пропахла колдовскими запахами…
– Воины у свеев, у данов, часто впадают в неистовство в бою… Ты не видала, и не надо, а вот мне приходилось. Голые, без рубах, хорошо, если прикрыты ниже пояса, а то и нет, глаза бешеные, щиты свои грызут от нетерпения. Всё, что по дороге попадается, крушат, бьют, сносят. Думаю, что от грибов это у них. Кто зелье из мухоморов варит, так это свеи. Мне оно от мух только надобно, мешают они мне, а разум застить воину не стану. В бою, чадо, самое нужное – разум.
Он бормотал свои наставления негромко, а руки его творили волшебство.
– Ты свойства девясила знаешь ли, чадо? Мы с тобой к ночи девясила растолчем побольше сухого. А после движдам раздадим, я всегда в день последний месяца его готовлю, в день воинский. Оттого, что всем остальным любые дни хороши, а воину последний дорог. Когда пойдут в бой (ох, хорошо бы позже, а то и вовсе не надо… стар я стал, знаю, нет прежнего задору жизни у людей забирать… плохо это, верно, да только так, не иначе) … вот как пойдут, утром на кончик ножа девясила растолченного, и легче дорога стократ! А перед поединком можно и отвара попить… А в доме повесь-ка ты цвет девясила, иль на шею в тряпицу, будет тебе оберег. Но на шею лучше корешок. От страха хорошо, пугаться меньше будешь.
– А я не пугана!
– Ну, это до поры. Плохого с тобой не случалось…
– Вот и случалось! У меня нога обваренная! А вот порез глубокий, это от вил.
Мы в сено прыгали, Яромир меня толкнул. Он случайно, не со зла…
– Не со зла, говоришь? Ну-ну… А лечили тебя чем? Не знаешь, глупая. Надо было масло со зверобоем. Хорошо оно раны залечивает, и ожоги тоже. У меня есть, в прохладе храню, и года не исполнилось. Ты знай, я вот сейчас расскажу, как его готовить. Не сложно это, дщерь, а уж для тебя-то, ты приметливая!
Приметливая-то приметливая, и не пугана, а только обряд приготовления девясила для движдов маленькой девочке всё-таки, несмотря на любовь к волшбе, может и не понравиться, это я теперь точно знаю. На встрече зари вечерней, быстро переходящей в сумерки, и на углях горящих тлеют желтые цветы девясила, кружат голову. А полураздетый, с оголенным торсом старый жрец тянет клинок к небу, и бормочет:
– Сгинь усталость, сгинь болезнь!Ниоткуда не пролезть…Прыгает, вокруг себя крутится, и снова бормочет:
Быть тебе в другой стороне…А в той стороне люди не живут,В небе птицы певчие не поют,Рыба в воде не плывет,Пшеница на полях не растет…А как закончит, надо быстро толочь корень девясила, нарубленный этим клинком, в ступке, до того самого времени, когда погаснет последний луч зари. Вот сколько успели в две руки, столько. До следующего месяца, до дня воина-движда…
И я толкла девясил, запоминала, как готовится масло со зверобоем, и от каких болезней хорош иван-чай с душицей. Смеясь, рассказывал дед по моей просьбе, как приворотное зелье из девясила готовить, обмолвился уж, что будет тогда возлюбленный любить тебя «в девять сил», до самой смерти не отвяжется. Надо кристально чистую воду, растворить в ней порошок из корня девясила, а потом еще настаивать на цветках того же девясила и розы…
– На что тебе, чадо, мала ты еще?!
– Ну? так вырасту. А мало ли кому понадобится, я же не одна на свете, дед. Вот Драгица моя, нянька, та, что некрасивая, ну ты видел. Ей, верно, очень надо. Она у нас в Коренице весь прошлый год сохла по парню-корабельщику, у которого нога сломанная. Не поверишь, дедушка, плакала и вся высыхала, костлявая стала, углы повсюду, и не обнимешь, – больно ударишься. А он возьми да вылечись, и в море опять. Даже прощаться не пришел. Ой, жалко Драгицу. Она было уж забыла любовь свою, плакать перестала, а мы по Арконе гуляли, и тут он на Храмовой улице… Вот тебе раз, на колу мочало, начинай сначала! По мне он и даром не нужен, корабельщик этот, а Драгица говорит, что ей без него не жить. Она деток хочет, дед. Говорит, годы подоспели, уж и стара стала, двадцать ей…
– Ну, хорошо, что о других думаешь. И вообще-то хорошо, а у княжны это свойство и вовсе бесценное. Только не тот это случай, девясилом одним не обойтись. Девясил хорош там, где чувство уже есть, а травка его разожжет. Нам тут любисток нужен, дщерь, надо, чтоб корабельщик этот её, Драгицу эту, по-другому увидел. Против воли его пойдем. Мда… За водой нам с тобой надо. Ладно уж, помогу я твоему горю…
Кристально чистая вода добывалась нелегко. Я уже упоминала, что Аркона водой небогата. Вокруг воды морской – до самого горизонта, куда глаз достает. А в городе её мало, в источнике из Храма в основном, что почитай по каплям течет. Да и не та она в городе, для питья сгодится, но не для Белогора и его волшбы.
Чтоб добыть кристально чистой воды, мы уходили далеко в леса, вниз, покидая свой высокий мыс. Искать не приходилось, ибо дед уже давно всё разведал, но зато сколько ходить! А воду надо было собрать из семи разных, но прекрасных (каждый по-своему) природных сосудов: это два бьющих через край ключа, три родника и два небольших мшистых водопада. Дед считал поляну, на которой сошлись эти блага, священной. Три дуба украшали самое сердце её, росшие рядом друг с другом. И только кору молодых веток и листья этих красавцев применяли мы для лечения. А воду для самых важных зелий и заговоров.
По правде, были среди жителей страны люди, неплохо знавшие поляну, помимо Белогора и других жрецов. Но посещать её большинство боялось. И были на то причины. Когда я впервые попала на зелёный журчащий островок, тоже перепугалась не на шутку. Мы расположились отдохнуть под дубом, я даже прилегла на травку: долго идти пришлось, я маленькая, а дед большой, мне три шага, ему один…
Рёв раздался со стороны водопадов, такой рёв, от которого я не просто подскочила в мгновение ока, изготовившись к бегу, но и покрылась вся мурашками и холодным потом одновременно…
Существо огромных размеров, с седыми волосами до пят, бородой до пояса, в руках дубина, одежды изорваны, в руке не посох, а оглобля целая, одолело одним прыжком водопад, и помчалось к нам по поляне большущими шагами. Дед схватил меня в объятья и держал, я поначалу рвалась, потом прижалась к нему, спрятала голову в его одежды, и тряслась, как лист осиновый на ветру…
– Дроттин, дроттин!69 – кричало существо, приближаясь к нам.
– Что ж ты кричишь-то, – спокойно ответствовал дед, когда существо, приблизившись к нам, вдруг бухнулось на колени, целуя руку жреца. – Не бойся, маленькая, это здешний охранник. Он себя ярлом70 зовёт, а я не против. Ты погоди-ка, не хватайся за меня, дай я до сумы своей доберусь, он знает, что кормить буду.
Как только я отпустила Белогора, отступив на шаг, странное существо бросилось ко мне. Я не успела и пикнуть, как его шершавые руки поползли по волосам и лицу, ощупывая меня. Хотела отвести глаза, да не было сил даже на это. Изрезанное глубокими морщинами, с опущенными веками лицо-маска…
– Он слепой, чадо, глаза ему выжгло. Он тебя ощупает и запомнит, не тронет вовек. Он знает, кому можно, а кому нет – воду забирать-то. Сейчас запомнит запах и вид твой, прощупает руками, и больше пугать тебя не станет. Он лучше собаки, и то сказать, – человек…
– А чем выжгло, дед?
– Есть тут на болотах хищник, трава – не трава. Вырви-глаз называется. Листья крупные, резные такие, на концах иголка. Коснешься той иглы, а она кожу враз протыкает, и боли-то нет, такая она острая и тонкая… А в середине у ней, у травы этой колючей, такой кругляш, а из него новые листья растут да сок выделяется. Этот-то сок всё живое выжигает…
– Дедушка, не видела я такого на болоте… а зачем он к нему лез, к вырви-глазу?
– Да кто ж его знает, маленькая. Раненый он был. Думали свеи, что мертвый, бросили его свои же тут, битва была знатная, каждый собственную жизнь спасал. А он очухался. Дополз до колючки этой, стал в неё заглядывать, говорю же, сок в ней как вода. Он и потянулся попить, а она возьми и брызни соком, будто бы на комара или иную мошкару какую… я его слепенького нашёл, от других болячек вылечил, вишь как он прыгает, а глаз новый не вырастил, не в моих это силах. Ему чутье глаза заменило. Он эти края знает, как свои пять пальцев. Вот, за еду да ласку нашу охраняет здешние места от любопытных.
Мы покормили Ярла, из тех пирогов, что Бояна напекла. Он лёг к ногам, терся, просил погладить. И впрямь пёс… Жрец говорил с ним на языке свеев, не знаю, о чем, не стал говорить мне дед.
Поели, воды напились. Потом следовало набрать воды и нести её вверх, в Аркону. Был у меня и свой кувшинчик, как же. Пыхтела и тащила в сети из ивняка. Старалась не расплескать.
Ну, и с водой начиналась волшба, конечно… Когда я увидела это впервые, удивлению моему не было предела. Отлив нужное количество воды в деревянную кондюшку71, дед стал толочь ее пестиком! Явное несоответствие действа и житейского смысла поставило меня в тупик, и я воззвала к Белогору:
– Дед, это зачем? Зачем воду толочь-то? Ты же умный!
Он улыбнулся, но дело свое бессмысленное продолжил. Я завертелась вкруг него ужом, и на дно заглянула, и пальцем воду зачерпнула…
– Ну, погоди, всю работу мне испортила. Мне думать надо, когда воду в ступе толчёшь! Заговор говорить, а ты вертишься. Пойди ступку мою каменную принеси, да корень горечавки ещё. Будем думать, что к чему, иначе не поймешь.
Я мигом вернулась с требуемым добром.
– А делать-то что, дед?
– А со ступкой и пестиком что делают? Толочь, конечно.
Я толкла, сосредоточенно сопя. Видела, что Белогор не отводит глаз от меня, старалась.
Мелко. Мельче. Очень мелко!
Кашица уже на дне.
Это просто переделка…
Станет менее плотней.
Я не заметила, как стала бормотать себе под нос какие-то вирши; пытаюсь привести на русский, простите за поэтическую беспомощность, но смысл приблизительно таков. Подняла взор на Белогора, и удивилась, даже испугалась немного. Его глаза горели, он торжествовал…
– Деда, что?
– Не ошибся я в тебе, чадо. Есть оно в тебе.
– Что?
– Как тебе скажешь-то, мала ещё. Свет в тебе от Него. Ты себя слышишь? Ты же всё сама объяснила. Есть внутри всех предметов связи, не понять мне их, только есть. И вот, толкла ты корень, и связи эти разрушала. И появилось у тебя другое, на прежнее непохожее, было плотным, стало мягким. Если толочь воду, связи тоже нарушаются. Я это знаю.
Видно было, как трудно ему объяснить мне, маленькой, но он старался.
– Показать не могу, не так видно, как на корне твоём, но знаю. Вода самая чистая, которую мы с тобой собрали, и я её разрушил изнутри, разбил. Она теперь мягкая, она любому заговору подается. Я прочту заговор, и вода понесёт силу. Такую силу, какой у нее не было. Разбавлю в вашей бочке питьевой, вам добра от меня хватит. Будете здравы…
– Дед, а злую силу наговорить можно? Ты умеешь?
Белогор, жрец Световита, человек, который подарил мне нежданную любовь, просил называть себя дедом, учил и баловал, как никогда своих, вдруг стал мрачней тучи. Мне показалось, что он рассердился на меня.
– Могу, – сказал он мрачно. – Я-то могу, но тебе на что, чадо?
– Ни на что, дедушка, я просто спросила…
– На то, чтоб заговор на смерть прочитать, воду из живой в мертвую превратить, ненависть сильная нужна. Враг должен быть твой, самый что ни на есть смертельный. Такой, которого мечом не достать. А он народу угроза, детям твоим. Тогда поступишься совестью, скажешь, что все средства хороши. Но и тогда плохо тебе будет. Добром не кончится. Сам не читал, и тебе не скажу. И просить буду Светозарного, чтоб не пришлось. Недаром этот разговор, у тебя, чадо, все не просто так…
Огорчительно, что он был рассержен, но всё ж показал мне в тот день, как вилами по воде пишут. Он дал мне палочку, похожую на вилку, у которой было три луча.
– Сие есть мир, – сказал он строго, – в котором три: Явь, Навь и Правь, вот я вырезал, и тебе отдаю… из дуба этот Триглав, а это священное дерево. Вот так нарисуешь, такая руна: это защита дома от напастей. А если вот этак, чадо, это от болезней, а когда уже болен человек, смотри, иначе…
На исходе дня я снова вскинула свой кувшинчик на спину, и пошла по соседям: добро делать, воду живую им творить…
А ещё били мы с Белогором баклуши. Мне он не доверял, конечно, топором работать. Но искали мы с ним деревья в цвету, и в снегу, и во льду, и в воде. Смотря, когда ребёнок родился; замечал волхв день и час рождения, и в ближнюю ночь срубал нужное дерево. Потом заготавливал чурбаки. Это была только часть работы.
Бил он баклуши в полнолуние, все разного размера, – на игрушки, на посохи, обереги, ручки для оружия, для ложек, для утвари лошадиной, для посуды. И всё приговаривал, и бормотал, и прыгал, бывало. И песни пел. Не расскажешь вот так-то, и не споёшь. Всё, что было приготовлено Белогором, отдавалось отцу ребенка. Всё, что потом делалось из этого дерева, было защитой как ребёнку, так потом уже и взрослому человеку…
Увы, в основном всё то, что я видела в своих сновидениях, осталось виденным, но не осмысленным, и не запомнилось мною. Быть может, я ещё сумею сотворить масло со зверобоем, но большая часть заговоров Белогора, суть его заклинаний, фаз и циклов, когда следует ритуалы проводить, – всё это осталось «за кадром» для меня. В той жизни, будучи ребёнком, я, верно, была «приметлива», но в эту жизнь старая учёба вся не вошла. Жаль!
Зато я неплохо помню заветы Белогора, касающиеся женщин, и их значения в мире. Их я попробую изложить. Не судите строго, не могу я помнить все, и приблизить к речи моего прошлого тоже затрудняюсь…
Белогор говорил, что у каждой женщины есть прямая дорога к Световиту, есть дар напрямую говорить с божеством, и возможность быть услышанной тоже есть. Нам даровано это право в силу природной слабости, взывающей к силе. И сила услышит, только бы женщина сама не закрыла дорогу. Способов, закрывающих дорогу, не счесть… Чаще всего, как объяснял мне Белогор, нарушается первое правило: нельзя идти на поводу у похотливости, выставляя напоказ своё тело. Если женщина делает это, то словно даёт «разрешение» на себя мужчине. Она становится предметом похотливых взглядов, несущих ей зло, и как следствие этого возникают болезни духовные, затем и телесные.
Множество женщин, утверждал мой кудесник, раскрывает обережный круг своей семьи, вынося сор из избы. И тогда вольное или невольное вмешательство других людей может сказаться, разрушив мир в доме. Плохо сказываются любые пересуды в целом, ведь если осуждаешь других, попадаешь под влияние зла сама. Большая часть женщин хочет быть замужем; однако, гораздо меньшая их часть понимает, что это именно «за мужем», а не впереди. Женщина обязана помочь открыть в мужчине его мужские качества первопроходца, а не замещать его собой. И бороться с мужчиной тоже не стоит, постоянно ему переча. В таком случае женщина разрушает собственную сущность, а мужчина, теряя спокойствие, становится зол. Поддерживая мужчину, даже в том случае, если он принимает неправильное решение, женщина ослабляет последствия, ибо благ Световит, видит он её чистоту и любовь, и хочет ей помочь. Решать и брать ответственность на себя за принятые решения, – это дело мужчин. Советовать и помогать – дело женщин.
Мысли женщины не должны быть нечисты. Не должна она требовать для себя лучшей участи, большей ласки, украшений, одежд. Всё, что у неё есть, – это результат её поведения. Сумеет раскрыть себя и своего мужчину: себя в любви, мужчину в ответственности, появится всё, что ей нужно. И ещё: женщина должна уметь хранить свои тайны, ей не стоит выдавать всё сокровенное. Даже перед своим мужчиной. Потому что он может потерять к ней интерес…
14. «Отпусти меня»

