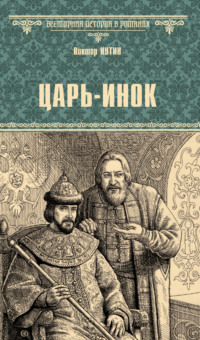Полная версия
Опричное царство
– Той грамоты нет у меня! – хрипло ответил Репнин, вспомнив, что сжег ее едва ли не сразу, как она появилась у него.
– Лжешь, пёс! – Иоанн вскочил с места.
– Обыщи дом мой, ежели веры нет! Ты позвал меня на свой пир, дабы воздать мне за ратные заслуги мои под Полоцком, но получил я лишь унижение!
Репнин медленно выходил из-за стола, прихрамывая – сказывалась старая рана, полученная в стычке с войском Кетлера в Ливонии, где князь был ранен в ногу арбалетным болтом.
– Я мог бы убить тебя прямо сейчас за дерзость твою, нечестивый раб! – вскричал Иоанн с нахлынувшим вдруг на него гневом. Грудь его высоко и часто вздымалась, на губах выступила пена.
– Я не раб тебе, но слуга! Прощай, великий государь! – с честью сказав последние слова, ответил Репнин и, откланявшись, начал покидать палату. Всеобщее внимание теперь было приковано к государю, явно оскорбленному действиями князя. Вяземский, дабы прервать гнетущую тишину, велел оторопевшим домрачеям играть, скоморохов выслал вон. Музыка полилась, но никто не слушал ее. Угощений было много, но никто их не ел, все смущенно прятали глаза друг от друга и боялись взглянуть туда, где стояло государево кресло. Иоанн сидел в нем, тяжело и часто дыша, стиснув пальцами подлокотники.
– Я вас всех истреблю! Всех изведу! – рычал он сквозь зубы.
Участь Репнина была решена, пусть он и не расставался со своей вооруженной стражей денно и нощно. Все чаще он был в церквях и храмах, видимо, укрываясь от царского гнева, коего он с мукой ожидал. И однажды он решился на побег в Литву. За день верные слуги все подготовили к тому, и князь пошел помолиться в старой церквушке на окраине Москвы.
Всецело отдавшись молитве, он не сразу услышал шаги за спиной, лишь почувствовал, как холодное, обжигая, входит в его спину и достает до сердца. Другой удар пришелся в шею.
Когда слуги Репнина, ожидавшие его у порога церкви, услышали крики священнослужителей, то тут же вбежали внутрь и увидели князя лежащим на залитом кровью помосте алтаря. Тревожно забил церковный колокол, невольно собирая жителей окрестных деревень.
В это же время разгневанный Иоанн решил покончить с изменой Шереметевых…
Лязг замков и затворов разбудил спящего на гнилой соломе престарелого Ивана Шереметева Большого.
– Вставай, Ванька, поднимайся, стервец, – услышал он и узнал голос государя. Кряхтя, узник сел. Он смердел от грязи, отросшие длинные волосы спадали на лицо, в разные стороны топорщилась спутанная седая борода. Звякнула цепь, приковывающая его руки и ноги к стене.
– Здравствуй, великий государь, – едва слышно проговорил он и закашлял. Казалось, он заточен здесь уже целую вечность и невольно считал дни до своей скорой, как он думал, кончины.
– Среди многих бояр ты слыл богачом. Где все твои богатства? – насмешливо спрашивал Иоанн. Узник все еще не мог разглядеть царя сквозь туман, застлавший его взор.
– Я руками нищих передал их к моему Христу Спасителю, – прохрипел узник и потер опухшие глаза, дабы хоть немного начать видеть. Наконец очертания проявились. Лучина зажглась и слабо осветила лишь лицо Иоанна.
– Вспомнил о душе своей? Что же ты забыл о ней, когда ссорил меня с крымским ханом? Уж не по повелению ли Жигимонта творил сие? – Голос царя был низок и грозен. Шереметев молчал.
– Что же ты братьев своих не смог научить, что верность нужно сохранять отчизне и государю своему?
Шереметев с изумлением поднял свой взор на царя. Иоанн улыбался.
– Да, про Никитку говорю. Не кручинься, Ванька, он за грехи свои сам ответит. За свои ты настрадался вволю. Помню заслуги твои!
Узник что-то промычал, разомкнув сухие слипшиеся губы, и покосился на стоявшую у двери кадку с водой. Уж давно стояло оно там, но нарочно цепи оков были коротки настолько, что старик не мог дотянуться до воды. Иоанн, поймав его взгляд, обернулся и сделал несколько шагов к кадке. Зачерпнул оттуда ковшом и поднес его к лицу Шереметева. Кряхтя, потянулся узник к ковшу, обтекаемому столь желанной водой, но Иоанн отвел руку так, что узнику вновь было не дотянуться до ковша. Наклонившись над жалким, разбитым стариком, который и забыл об упомянутом брате – лишь тянулся к этому вожделенному ковшу, Иоанн произнес:
– Долго ли мне еще вас, кичившихся родовитостью своей, от измены отучать? Словно черви, поганите вы Русь изнутри. Из-за вас она, за сохранность кою я в ответе пред Богом и пращурами своими, слаба! А вам, безродным, чего кичиться? Захарьины, Шереметевы, Адашевы… Власть всех портит! Я исправлю сие…
А узник, словно и не слушая его, продолжал со стоном тянуть истерзанную руку к ковшу. Иоанн, насытившись его мучениями, поднес ковш к его губам и сам стал поить. Захлебываясь, Шереметев глотал холодную, настоявшуюся воду, она текла по его бороде и грязным лохмотьям, в кои он был одет. Иоанн пристально следил за этим, от омерзения стиснув зубы.
– Я пастырь ваш, все вам прощаю! И Бог вам простит, когда вы заслуженные муки испытаете при земной жизни. Спаситель за всех людей терновый венец надел. И шапка Мономаха моя истинно терновый венец, – говорил он полушепотом, затем отбросил опустевший ковш и, отойдя к дверям, добавил: – Прощаю тебя! Сегодня снимаю с тебя опалу и освобождаю от заключения. Запомни – больше вашему семейству я измены не прощу…
Тем временем часы жизни Никиты Шереметева были сочтены – государевы люди без особых усилий смогли задушить его, ослабленного заточением и голодом. Единственное, что он мог, ослабленный, – глядеть беспомощно в глаза своему убийце. Так он и застыл – с приоткрытым оскаленным ртом и выпученными остекленевшими глазами.
Иван Шереметев Большой едва ли не сразу после освобождения совершит постриг и уйдет в монастырь, где и окончит свою жизнь спустя много лет. Теперь блюсти честь семьи и служить государю обязаны были оставшиеся два младших брата бывшего боярина – Федор и Иван Меньшой…
Убийства Оболенского, Репнина и Шереметева, случившиеся подряд в столь малое время, взбудоражили знать и церковь. Горбатый-Шуйский, как самый старший из знатнейшего рода на Руси, как глава Боярской думы, и здесь решил все взять в свои руки – начал собирать бояр в своем доме, где, расхаживая перед гостями, разодетыми в пестрящие богатые одежды, молвил:
– Доколе кровь наша будет литься? Служим государю мы исправно, верно, живота своего не жалея! Не заслужили мы, князья Рюриковичи, такой участи! А ежели он думает, что сможет нас казнить аки рабов своих, то и здесь надобно напомнить ему то, что сказал недавно князь Репнин: мы не рабы ему, а слуги!
– Пока что, – сказал кто-то из бояр, некоторые поддержали его смехом.
– Репнин за это головой поплатился! – выкрикнул сидевший в углу князь Микулинский.
– Всех не перережет! – отмахнулся стоявший у стены Петр Щенятев, стареющий знатный вояка. Зашумели бояре. Горбатый-Шуйский поднятием руки успокоил всех и проговорил громко:
– На том и решили – государя надобно осадить! Для пущей важности привлечем на свою сторону митрополита, ибо церковь ропщет из-за убийства князя Репнина в храме!
К тому времени бывший царский духовник Андрей уже был избран митрополитом. Данила Захарьин торжествовал – теперь в его руках находится и церковь. Знать же была уверена, что митрополит будет их вечным заступником.
И вот некоторые из бояр, что были дома у князя Горбатого, пришли к митрополиту Афанасию и упали пред ним на колени, моля о заступничестве. Привыкшие к величавости покойного Макария, глядят они на него с усмешкой – низкий, полноватый, со скудной седеющей бородкой. Он же глядит на них со смятением и страхом.
– Великий государь есть господин наш, нам ли идти против воли его? – вопрошал он слабым голосом. Бояре, с презрением глядя на него, медленно поднялись с колен. Князь Горбатый, будучи выше митрополита на целую голову, взирая на него с высоты своего роста, проговорил приглушенно:
– Предшественник твой всегда осуждал кровопролитие и заступался за невиновных до конца дней своих. Здесь преступников нет. Врагов твоих тоже… Пока что…
Афанасий был начисто сломлен старым боярином и, опустив глаза, согласился заступиться за них.
На следующий день было назначено заседание Думы. Бледный, осунувшийся митрополит сидел впереди знатных бояр, опустив глаза. Иоанн, величественный и грозный, в богатых одеждах восседал на троне, глядел на вышедшего в середину палаты Горбатого-Шуйского. Боярин от имени всех бояр и духовенства высказывал царю, что убийства подданных без суда необходимо прекратить, что пращуры бояр клялись служить московским государям, и они, потомки их, хотят того же, но только ежели все будет по справедливости.
– На совместном нашем правлении испокон веков держится Русь, так должно быть поныне! – заканчивал свою речь Горбатый-Шуйский, крепкий, с отороченной соболем ферязью на плечах. Иоанн понял, кто главная сила средь знати, и так же понял, что князь Горбатый должен быть уничтожен. Снова Шуйские! Снова они! Проклятый род!
Тихо в просторных палатах. Бояре затаили дыхание, сидят, глядят на неподвижного Иоанна. Подождав с минуту, царь ответил медленно и спокойно:
– Будь по-вашему! Но ежели вновь начнутся измены, а вы станете друг друга прикрывать, деньгами жизни свои вымаливать… Тогда не быть мне царем вам!
С этими словами он поднялся с трона и начал покидать палату. Рынды с золотыми топорами проследовали за ним. Едва успели бояре встать со своих мест и поклониться ему.
– Спаси нас, Боже, от гнева царского, – прошептал митрополит и украдкой перекрестился.
Пытаясь усмирить свой гнев, Иоанн велел сказать царице, что ночью зайдет к ней. Она встретила его полуобнаженной, в черных глазах ее искрило желание.
– Скучала, мой государь… Ложись…
Но Иоанн, стиснув зубы, взял ее грубо, так и не дойдя до ложа. Схватив царицу за пышные угольные волосы, Иоанн овладел ею, развернув ее спиной к себе и бросив на огромный персидский ковер. Улавливая ее запах, трогая кожу, он вдруг почувствовал мгновенное отвращение, до тошноты. Вскрикнув с гневом, он отбросил ее в сторону и, поднявшись, стрелой вылетел из ее покоев.
– Мой государь! – услышал он жалобное за спиной, но вскоре захлопнул за собой двери. Придя в свои покои, он рухнул на колени перед киотом и стал распевать псалмы, кланяясь до пола. После очередного поклона он так и остался лежать лицом на холодном полу. Гнев клокотал в груди по-прежнему, хотелось крови, хотелось слышать мольбы о пощаде. Сейчас больше всего он хотел их гибели. Истребить, всех!
– Найду я на вас управу, найду! Уничтожу! – прорычал он, брызжа слюной. Он так тяжело и часто дышал, что спальники, спрятавшись за дверями, с испугом подумали, что государь умирает. Но вскоре он замолк и поднялся. Лицо его будто сразу обрюзгло, на лбу обильно выступили крупные капли пота, глаза, окруженные черными тенями, были пусты, из приоткрытого рта, обнажившего нижний ряд зубов, слышалось редкое сиплое дыхание. Шаркая ногами, он с трудом дошел до своего ложа и, рухнув в него, забылся мертвецким сном.
Спальники, дрожа от страха, в темноте стягивали с него мягкие домашние сапоги…
Глава 8
ЮрьевПрохладная апрельская ночь была тиха. Из темного угла с иконами доносился шепот – это горячо молился князь Курбский. За его спиной скрипнула дверь.
– Лошадь готова, торба с припасами у седла, – тихо доложил верный Васька Шибанов, – веревку я уж перебросил через стену. Пока темень, княже, поторопись!
Курбский полуобернулся к нему и кивнул. Сегодня была знаковая ночь – побег, к коему он готовился так долго, состоится! Не мог он сбежать до тех пор, пока не уверился, что не станет беднее в новом доме своем. Польский король обещал обширные земли в Литве – староство кревское с селами, Ковель, Вижва, Миляновичи с прилегающими тридцатью селами. Не зря князь просил так много! Недавно стараниями его литовцы одержали победу над князем Шуйским под Чашниками. И Курбский не жалел об этом.
Испытывая неприязнь к Иоанну, узнавая о недавних убийствах в Москве, князь все больше верил в свою правоту. Тирана надобно остановить! И уж тем более нельзя позволить ему выйти к Балтийскому морю, владеть Ливонией и литовскими землями.
Одно настораживало князя – беременная жена и сын, находящиеся в ярославской земле. Выдержит ли супруга столь тяжелый путь? Ох, спаси, Господи! Васька должен успеть увезти их!
Молитву князя прервал сильный кашель. Вдохнув, услышал, как пискнуло в груди. Он снова болел, сраженный ежедневными переживаниями. Эх, тяжко в дороге больному будет!
Курбский перекрестился и беглым взглядом осмотрел горницу. Там, за печкой, по-прежнему спрятаны его тайные бумаги. На стене висит его великолепная броня. К черту! Князь бросился к печке, вынул все спрятанные бумаги и бросил их в огонь без сожаления. Вспыхнувшая бумага ярко озарила полутемную горницу. Перед тем как выйти прочь, князь задержался взглядом на доспехах своих, отражавших в темноте кровавые отблески пламени.
Глубокой ночью на улицах ни души. Пламенники освещают город в редких местах, и Курбский знал, как лучше и безопаснее пробраться к стене. А еще он знал, что в последнее время стража плохо стоит в карауле – ходи куда хочешь, главное, выбрать нужное время и место. Заведомо решив бежать, воевода Юрьева не пресек это, а значит, ничего не сделал для безопасности города.
Толстая веревка свисала по крепостной стене, едва не доставая до земли. Оглянувшись опасливо, Курбский поплевал на ладони, схватился за веревку и, упершись ногами в стену, полез наверх. Взобравшись на стену, князь глянул вперед. Поодаль, у чернеющего в темноте соснового леса, стояли две лошади, а возле них верный Васька. Нужно было торопиться! Сложнее и страшнее было слезать с обратной стороны, несколько раз срывалась нога, скользила по камню. Пока лез, изодрал в кровь ладони, спрыгивая, едва не вывернул ногу. Чертыхаясь, хромающий князь направлялся к лошадям. Васька уже был в седле. Взобравшись на коня, князь воровато оглянулся и сказал Ваське:
– Скачи через Псков, в Псково-Печерской обители встреться с Вассианом Муромцевым, что при игумене Корнилии служит, передай ему это…
И протянул ему небольшой сверток. Васька кивнул. Курбский поглядел на него и добавил:
– Дай знать, что везешь жену и сына ко мне, сделаю все, дабы направить вас на безопасный путь и встретить. А теперь скачи, ну!
Васька тронул коня, проехав немного, затем развернулся и с грустью взглянул на своего господина, словно силясь что-то сказать. Курбский почуял, как перехватило дыхание, и тут же навернулись слезы.
– Ну же, вперед! – раздраженно прикрикнул он, ударив ладонью по шее своего коня. Васька рванул с места, подняв пыль. Курбский стоял еще какое-то время, глядел ему вслед, затем, когда Васька скрылся в темноте, тронул коня. Было тихо, и в тишине этой спал город Юрьев за каменным поясом стен. Взглянув через плечо напоследок на город, Курбский перекрестился и пустил коня рысью.
Игумен Псково-Печерского монастыря Корнилий сидел за стольцом, густо залитым свечным воском. Несколько огарков освещали рабочее место игумена. Костлявые пальцы еще крепко держат перо, но силы на исходе. Оправив длинную седую бороду, Корнилий потер уставшие глаза и снова принялся за работу.
Более тридцати лет он стоит во главе обители. Сколько было содеяно! И летописные своды писались им и благодаря ему, и иконы, и колокола лили, и создали богатейшую библиотеку. При нем на территории монастыря возникли новые церкви, при нем обитель опоясалась мощной крепостной стеной. Царь любил Корнилия и заботился о его обители, вкладывая в нее огромные деньги. Но Корнилий старался в последние годы не бывать в Москве и не говорить с государем даже через послания – сказалась кровавая расправа над Адашевыми и их сторонниками. Порой Корнилий корил себя за то, что ничего не сделал для их спасения, но затем успокаивал себя тем, что даже митрополит Макарий ничего не смог сделать. Вновь подумав об этом, игумен отложил перо, поднялся и тяжело зашагал к киоту. Там прочитал молитву и перекрестился, прося прощения у Бога и у Адашевых.
– Нет, виновен я в бездействии. Грех себя утешать бессилием. То гордыня моя, прости меня, Господи! – шептал он. Затем замолчал, глядя на видневшиеся в темноте образа. Сгорбленный седобородый старик глядел на них с мольбой и жалостью и не сразу ощутил, как по морщинистой худой щеке скатилась слеза. Поднявшись, горбясь и склонив голову, словно под невидимой ношей, зашагал к своему стольцу, утерев мокрую щеку.
За спиной глухо скрипнула дверь – это вошел Вассиан Муромцев, верный секретарь игумена уже долгие годы.
– Владыка, здесь слуга князя Курбского Василий Шибанов… Раненый…
Корнилий обернулся к нему и посмотрел бесстрастно в ожидании объяснений. Вассиан прикрыл дверь кельи и, подойдя к игумену, наклонился над его ухом.
– Князь Курбский отправил Ваську ко мне с посланием, в котором рассказал, что не может более служить тирану и, опасаясь опалы его, сбежал в Литву. Просил тебя, владыка, помолиться за него.
Корнилий слушал и все больше хмурился.
– Отчего он раненый? Где он?
Вассиан снова бросился к двери, выглянул в нее, позвал кого-то и открыл настежь. На пороге с окровавленной рукой показался белый как молоко Васька Шибанов.
– Дозволь ему в моей келье переночевать, от раны оправиться, – просил шепотом Вассиан.
– Я утром уйду, – пошатнувшись, с усилием проговорил Шибанов. Корнилий переводил взгляд то на него, то на своего секретаря.
– Пусть остается, – твердо ответил игумен, – вели накормить его. Приду помолюсь над раной, завтра начнет заживать.
Шибанов и Вассиан с благодарностью поклонились Корнилию.
– Ступай, сыне, ступай, – сказал он ласково Шибанову и, отвернувшись от них, снова принялся за свои труды.
Вот и Курбский сбежал, храбрый, достойный муж. Корнилий должен был осудить его за отступничество от веры и отечества, но… не мог. И последние кровавые вести из Москвы все больше способствовали этому.
Ваську накормили, промыли и вновь перевязали рану, уложили спать в теплой келье.
– Кто ж тебя так? – убирая деревянную кадку с окровавленным тряпьем, спросил Вассиан.
– На лихих людей нарвался, смог убежать, вот только стрелой задели в руку, – отвечал со слабой улыбкой Васька и махнул здоровой рукой, – дело молодое, до свадьбы заживет!
И когда Вассиан потушил свечи и лег спать, он еще долго видел в темноте этих лихих людей в лесу. По разбойничьему свисту, по говору понял, кто, и бросился наутек. Попасться было никак нельзя, ибо нужно было доставить послание Вассиану и добраться до жены и сына князя, дабы спасти их. Несся так, что едва не загнал коня и даже не сразу заметил, как чиркнула по предплечью стрела – слышал лишь свист других, летящих мимо.
Утром он ощутил слабый прилив сил, хоть еще голова шла кругом. Вассиан предложил ему отлежаться еще день, но Шибанов отказался, начал собираться в путь. Игумена он больше не увидел.
– Передай от меня владыке мою благодарность и поклон, – сказал Шибанов Вассиану, затягивая кушак.
– Передам, – отвечал с улыбкой Вассиан, передавая гостю небольшую торбу с куском хлеба и кувшином творога. Шибанов, принимая ее, трижды перекрестился.
Вассиан провел его до самых ворот и перекрестил. Шибанов, вскочив на отдохнувшего коня, взглянул напоследок на главную псковскую обитель и пустился в путь. За спиной он еще долго слышал радостный и богатый разнообразием звуков колокольный перезвон…
Он был схвачен вечером того же дня на одной из застав – о бегстве Курбского стало известно очень быстро. Тут понял – ни убежать, ни отбиться от ратников не удастся, поэтому сдался им без борьбы, кляня себя за то, что не смог выполнить приказ господина. Все одно он бы не успел этого сделать – семью Курбского схватили в то время, когда Шибанов раненый лежал в монастыре. Беременную супругу и малолетнего сына сам Иоанн распорядился бросить в холодную и сырую темницу. Богатства князя и его земли тут же были отобраны в казну.
Существует красочный, описанный многими авторами эпизод, как Шибанов сам привез царю послание Курбского, и тот, пробив ногу Васьки жалом своего посоха, слушал чтение этого послания, не обращая внимания на мучения несчастного слуги. Все это, конечно, красивая легенда, не более – Иоанн бы ни за что не тратил своего времени на какого-то холопа, да и сам Курбский не отправил бы Ваську на верную смерть, ведь он наверняка надеялся спасти свою семью.
Ваську в застенке пытали страшно, следил за этим Афанасий Вяземский. Он же докладывал обо всем государю:
– Не сказал ни слова, великий государь…
– Значит, пусть там и сдохнет, – заявил Иоанн. Васька не сказал под пытками ничего о своем господине и умер с чистой совестью. Об этом везде стало известно очень быстро, и вскоре Вяземскому пришло тайное послание от монахов Псково-Печерского монастыря, прикормленных рукой Алексея Басманова, в котором они докладывали, что сей преступник после бегства своего господина ночевал в монастыре в келье Вассиана Муромцева, секретаря игумена Корнилия, который сам это дозволил. Вяземский поспешил доложить государю и об этом. Иоанн был глубоко задет этой вестью, навсегда уничтожившей его взаимоотношения с Корнилием.
«Вот и церковь предает меня», – думал царь, отослав тут же всех прочь. Сжав кулаки, сумел унять вскипавшую ярость и гнев. Пока он не смел поднять руку на столь влиятельного священнослужителя. Нужно лишь время…
Вскоре Иоанну доставили послание Курбского. Сам Висковатый зачитывал ему написанное. Сидя в кресле, задумчиво глядя перед собой, Иоанн слушал:
– «Царю, некогда светлому, от Бога прославленному – ныне же, по грехам нашим, омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли. Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты Сильных во Израиле, вождей знаменитых, данных тебе Вседержителем, и Святую, победоносную кровь их пролиял во храмах Божиих? Разве они не пылали усердием к Царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, Христиан чародеями, свет тьмою и сладкое горьким! Чем прогневали тебя сии предстатели отечества? Не ими ли разорены Батыевы Царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не ими ли взяты твердыни Германские в честь твоего имени? И что же воздаешь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия Вышнего для Царя?.. Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: еще душа моя в смятении; скажу единое: ты лишил меня святые Руси! Кровь моя, за тебя излиянная, вопиет к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей, и в делах и в тайных помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам ее и не ведаю греха моего пред тобою. Я водил полки твои и никогда не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и в подвигах воинских, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: Богу все известно…»[2]
Иоанн слушал, глаза его глядели в одну точку, лишь иногда на губах возникала странная улыбка, затем внезапно пропадала.
– «Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дни Суда Страшного. Но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мертвых: убитые тобою живы для Всевышнего: они у престола Его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, Бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву! – Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, в области Короля Сигизмунда, Государя моего, от коего с Божьей помощью надеюсь милости и жду утешения в скорбях».
– Сучий сын, – усмехнулся государь, когда письмо было кончено. Собравшись с мыслями, Иоанн велел писать Курбскому ответ:
– «Во имя Бога всемогущего, Того, Кем живем и движемся, Кем Цари Царствуют и Сильные глаголют, смиренный Христианский ответ бывшему Российскому Боярину, нашему советнику и Воеводе, Князю Андрею Михайловичу Курбскому…
Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивого Владыки, и наследовать венец Мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень: блажен, кто смертью приобретает душевное спасение! Устыдись раба своего, Шибанова: он сохранил благочестие пред Царем и народом; дав господину обет верности, не изменил ему при вратах смерти. А ты, от единого моего гневного слова, тяготишь себя клятвою изменников; не только себя, но и душу предков твоих: ибо они клялись великому моему деду служить нам верно со всем их потомством.
Я читал и разумел твое писание. Яд аспида в устах изменника; слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения; но ты не уехал бы ко врагу нашему, если бы мы не излишне миловали вас, недостойных! Я иногда наказывал тебя за вины, но всегда легко и с любовью; а жаловал примерно. Ты в юных летах был Воеводою и советником Царским; имел все почести и богатство…