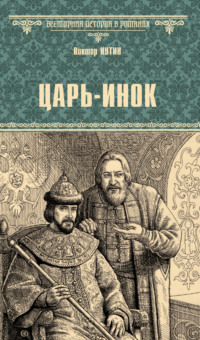Полная версия
Опричное царство
– А разве есть иной путь? – Лик Иоанна был страшен от злобы, от оскаленных зубов, от вытаращенных глаз. – Все империи строились на крови и…
– И погибли за великие грехи свои, – перебил его Макарий и впервые взглянул на царя своими холодными выцветшими глазами, – нет, у Руси должен быть иной путь. Путь, созидающийся на любви к Господу и друг другу. Вспомни Византию! Целую тысячу лет они только и делали, что резали друг друга, позабыли соборные деяния, мечтали лишь об обогащении своем, продались латинянам и, в конце концов, оставленные всеми, погибли. Господь не покарал их, нет! Он оставил греков с тем, с кем они захотели быть, – с сатаной, и позволил ему сожрать их! Ныне Русь несет крест Византии. Константинопольский патриарх признал тебя царем, потомком цезарей. В твоем царстве оплот православия! Кончены распри, дед и отец твой объединили все русские земли, кроме тех, что остались под Литвою! Удельные князья стали твоими боярами, твоими подданными! Они нужны тебе, и ты им нужен! Вы, словно заблудшие овцы, идете на поводу у волков, у прихвостней сатаны, стремящегося вновь рассорить вас!
Побледневший Иоанн замер, в глазах его блеснули слезы. В голосе Макария ожило прежнее могущество, во взгляде – присущая ему твердость.
– Ты в окружении иных врагов, с юга татары, на западе лютеране – в них есть сатана! И они будут все делать, дабы уничтожить тебя и Святую Русь! Господь не оставит ее, не оставит тебя, ежели все будет согласно заветам Его! Примирись с братом, примирись с боярами, без них у тебя не будет тех, кто сможет с тобою вместе защищать и приумножать державу!
Царь молчал, и Макарий решил, что достучался наконец до него. Иоанн вдруг нервно и скупо улыбнулся и, взглянув куда-то в сторону, проговорил:
– Найдутся люди, я сам выберу их. Изменники же будут нести должное наказание и поныне. Верные будут обласканы. Все как и прежде. Но новая Русь родится, и сие будет истинное царство Господа, царство любви и благодеяния. Боярам и удельным князьям нет в нем места. И церковь примет и поддержит деяния мои!
Макарий молчал, вновь опустив голову. Новая Русь, новое царство, в котором и ему, сыну прошлого столетия, тоже нет места. Он молвил тихо:
– На все Божья воля…
Иоанн понял, что больше им не о чем говорить. Он попросил благословения и, получив его, ушел. После того вошел Димитрий и, окинув беглым взглядом нетронутые на столе яства, бросился к Макарию.
– Что ты ответил государю, владыко?
– Ничего пока, – вновь устало и отрешенно заговорил старец, – ежели надобно так, ежели это крест мой, митрополичий сан понесу до гроба. Недолго осталось…
За узорчатым слюдяным окном, завывая, ревел зимний ветер…
* * *– Васька, неси еще кипятку, зябко! – хрипло приказал слуге лежавший под шкурами Андрей Курбский и закашлял. Князю нездоровилось, видать, простыл, когда выходил вместе с разъездом, да к тому же сказываются переживания, мучающие его уже который год. Падение и гибель Адашевых, его друзей, не давали ему покоя.
После взятия Полоцка Курбский был отправлен воеводой в Юрьев, в коем и сидит уже почти год. Никакой благодарности и подарков от государя после той победы он не увидел и, кроме того, был отправлен в Юрьев, туда, куда перед смертью был отправлен Адашев.
Курбский боялся смерти, как и все люди. Раньше, во времена походов на Казань, в нем было больше удали, он мог с оголенной саблей лететь на врага впереди целого полка, не боялся боли и ран. А сколько лошадей было под ним убито! О, это были славные годы.
Теперь же, когда погибли друзья (несправедливо, как считал Курбский), появился этот животный страх смерти. Князь слишком любил себя и дорожил тем, что имел.
Может, постоянное ожидание опалы сыграло роковую роль в том, что он не смог овладеть недавно городом Гельметом? Да, когда его потрепанный литовскими пушками полк возвращался в Юрьев, Курбский уже думал и ждал, что теперь его непременно казнят. Но Иоанн молчал, и молчание это вызывало еще больший ужас и трепет.
– Княже, принес я, травы заварил целебной, – сказал с заботой появившийся Васька Шибанов. Он протянул господину чашу с горячим отваром.
– Спасибо, Вася, ступай, – кивнул Курбский и, приподнявшись в ложе, начал осторожно пить. Когда с горьковатым отваром было покончено, князь, кутаясь в овчину, поднялся – надоело лежать. На столе грудились различные бумаги, карты, в кожаных переплетах лежали небольшой стопкой книги – князь был очень грамотен, любил чтение и письмо. Из-под этой груды он достал вскрытую грамоту. На ней была печать с изображением герба Великого княжества Литовского.
Недавно он получил письмо от гетмана Ходкевича, в котором он призывал князя перейти на службу к королю Сигизмунду. Взамен были обещаны богатые и обширные владения, почет и, главное, безопасность. Курбский был слишком умен и жаден, чтобы поддаться сразу на столь туманные обещания – ему нужно было знать точно, чем станет он владеть в случае побега. В нем было еще кое-что, что не давало князю тут же сбежать – совесть и… страх. Он тут же вспомнил Дмитрия Вишневецкого, доблестного воеводу, соратника Данилы Адашева. Горячий, буйный, он бежал в Литву, где вскоре пал жертвой интриг – литовцы выдали его турецкому султану, и тот казнил Вишневецкого, подвесив крюками за ребра…
Курбский, поглядев задумчиво на сломанную печать, вновь спрятал грамоту. Как он сможет оставить беременную супругу, сына? И гнев государев непременно обрушится на родичей князя, имеющих значительное состояние. И царь отберет все – он был уверен.
Взяв кочергу, Курбский присел у печи и поворошил в ней горящие угли. От горячих камней струилось тепло. Князь с тоской вспоминал время, когда страной управляли Адашев, Сильвестр и Макарий. Тогда Иоанн был истинным пастырем народа своего, просветителем державы. А что теперь? Безбожные придворные, захватив власть, омыли ум и сердце государя ядом, убедили отвергнуть и уничтожить советников, и руками государя продолжают лить кровь на русской земле – Курбский знал обо всех действиях против знати! Советники! Словно горящее колесо набирает ход – и вот вскоре остановить его уже невозможно – так они создают деспота! Сами же кровью умоются от деяний своих!
Не выдержав, Курбский бросил кочергу на пол и, повернувшись к иконам, перекрестился:
– Прости меня, Господи, раба Твоего! За содеянное мною и то, что будет содеяно – прости и помилуй!
Он вздрогнул, когда неожиданно скрипнула дверь, но, обернувшись, увидел слугу Ваську и облегченно выдохнул:
– Чего тебе?
– Прости, княже, к тебе воевода Дмитрий Хилков прибыл. Говорю ему, мол, занедужил Андрей Михайлович, а он слушать не хочет!
– Зови! – махнул рукой Курбский и велел подать кафтан.
Герой казанского похода потучнел в последние годы, уже и обычная ходьба вызывала у него одышку. Красный от мороза, он вошел в избу Курбского, снял шапку и, перекрестившись на иконы, подставил свои холодные щеки для поцелуя. Трижды расцеловавшись с пришедшим, Курбский пригласил его к столу, куда Шибанов принес только что горячего сбитня, ягод и квашеной капусты.
– Прости, не ждал тебя, нечем попотчевать, – виновато указав на скудный стол, проговорил Курбский и прокашлялся.
– Ты, верно, забыл, как я под Казанью целыми днями не ел, – с кряхтением усаживаясь за стол, проговорил Хилков, – а вот от горячего сбитня с мороза не откажусь…
Сели за стол, выпили меда, из чаши капусту брали руками.
– Временно назначили меня воеводой к тебе в Юрьев, – чавкая и шумно сопя, говорил Хилков. Он жевал, и с челюстью вместе двигалась борода, к коей уже прилипли кусочки капусты.
– Благо хоть временно, – ответил Курбский, отвернувшись, – надолго ли я тут?
– А что тебе не любо? Воевода Юрьева значится наместником Ливонии.
Курбский обернулся к нему:
– А ты вспомни, куда Адашева перед его смертью отправили? Сюда, в Юрьев! Вот теперь и я здесь! Наместник Ливонии! Хороша оказанная мне милость государя после того, как я под пулями и ядрами туры ставил у стен Полоцка! И что же? Вместо благодарности и позволения отпустить меня домой, в Москву, почти год уже сижу в Юрьеве!
– А слыхал ли ты о заговоре Владимира Старицкого? – прищурившись, спросил Хилков.
Курбский усмехнулся:
– Не верю я в тот заговор! Не такой человек Владимир, чтобы за власть бороться! Мать его, полоумная старуха, могла бы, а он нет! Правильно Иоанн сделал, что постриг ее в монастырь!
– Верь, не верь, а, говорят, следствие не окончено! Ищет государь по-прежнему виновных! А ты – сродный брат супруги князя старицкого! И с тебя спрос будет! – чинно разливая в чарки медовуху, молвил Хилков. Едва Курбский потянулся за своей чаркой, Хилков схватил его за рукав и, сверля тяжелым взглядом, сказал:
– И мне интерес с того есть, дабы тебя предостеречь, ибо и мы с тобой родичи! Почитай, ныне вся родня в ответе за деяния одного из семьи!
– Чего? – с презрительной усмешкой проговорил Курбский и вырвал свой рукав из пальцев Хилкова, а сам подумал: вот зачем ты, боров, приехал ко мне, за шкуру свою трясешься!
– А ты вспомни казни после падения Адашевых? – горячо отвечал грузный боярин, подавшись вперед. – Сатины, Шишкины – все, кто родня им были, всех государь вырезал! Семьями целыми на плаху отправлял! Вспомни Кашева и Курлятева, коих и монашеский постриг не спас от расправы – в кельях задушены по приказу государя! Кончился ли сей кровавый список иль пополнится новыми именами?
– Так ведомо, как они на плаху попали! Все они при Адашеве службу несли, да абы как! Там украдут, там обманут, там кого-то разорят – и все себе в сундуки, как с цепи сорвавшиеся! – неожиданно для себя выпалил Курбский, говорил и не верил, что оправдывает Иоанна, к коему давно испытывает страх и ненависть. – Иван Шишкин, родич Адашевых, наместник Стародуба, хотел эту крепость литовцам продать! Благо заговор вовремя раскрыли!
– Я не об том! Каждому по заслугам его – да будет так! Только вот один изменник – а на плахе все! – утверждал Хилков, певуче протянув слово «все». – Я просто указал тебе, как целые роды страдали из-за деяний одного проходимца!
Курбский понимал все это давно и теперь сидел на скамье словно придавленный. Почему-то именно сейчас перед глазами была казнь Данилы Адашева и его сына. Он вспомнил старика Мефодия, едва пережившего гибель своих воспитанников. Где он сейчас? Ни слуху о нем за два года…
– То деяние государевых советников! – продолжал Хилков, со злобой стиснув зубы. – Лишив родовитую знать влияния и власти, хотят они нас искоренить! Сие скоро случится, ежели мы ничего не содеем! Только советники и сами могут меж собой резаться начать. Новая сила при дворе у Алексея Басманова. Но нам все одно – хрен редьки не слаще!
– Не могу более слушать это! – схватившись за голову, воскликнул Курбский.
– И мое сердце кровью обливается, – ласково пел Хилков, – род мой от самого Всеволода Большое Гнездо идет, а безродные родственники государевы нас, Рюриковичей, словно зайцев травят! Не могу я в страхе жить, у меня два сына! Что делать станем?
Курбский медленно выпил и пристально взглянул собеседнику в глаза, пытаясь понять – заодно с ним Хилков, или его нарочно из Москвы прислали, дабы загубить Андрея Михайловича? Нет, лицо осунувшееся, измученный, жалобный взгляд, словно у зверя загнанного.
– Одно могу сказать, Дмитрий Иванович, коли пойму я, что угрожает нам гибель, я придумаю, как нам спастись! Не брошу тебя!
– Храни тебя Христос! – с великой радостью в глазах воскликнул Хилков и перекрестился замасленными перстами…
Когда ушел он, Курбский еще думал о нем, способен ли этот толстяк предать его. Но затем уверил себя, что боярин слишком глуп и недальновиден, чтобы стать частью заговора…
Курбский понял, что однажды придется решиться на побег. Он с тоской поглядел на свои ратные доспехи, висевшие на стене. Заботливо погладил прохладную сталь брони. В них убежать не получится – больно тяжелые. Эх, бронюшка! Сколько раз спасала от стрелы, от вражьей сабли!
Князь подошел к столу, начал собирать в одну стопку многочисленные исписанные листы – это его размышления о власти, религии, о роли самодержца в судьбе Руси. Здесь же, на этих листах, излита его злоба – бумага стерпела все то, о чем князь умалчивал с людьми. Все эти свитки и листы он упрятал за печку, а после уселся напротив нее и снова стал задумчиво глядеть на раскаленные угли.
Гетман Ходкевич хочет, чтобы князь, прежде чем назвал цену свою за побег в Литву, был полезен королю Сигизмунду. Курбский понял, чего от него хочет литовский воевода, и вскоре сел писать ему ответное письмо.
Глава 6
Прибывшие в столицу в декабре 1563 года литовские послы встретились с дьяком Висковатым, Данилой Захарьиным и другими боярами. Как рассчитывали в Москве, литовцы сами попросят мира и пойдут на любые уступки, но с первых минут переговоров они проявили свою жесткость – требовали отдать Литве Новгород, Псков и многие другие земли, на что Висковатый, усмехаясь, отвечал:
– Тогда для надежного мира пусть ваш король отдаст нам Киев, Волынию с Подолией. Известно, что в древние времена и Вильна принадлежала России – ее мы тоже требуем себе!
Литовские послы начали возмущаться, говорить о том, что такие требования недопустимы. Они знали, что в случае провала переговоров русские возобновят боевые действия, и, кажется, совсем не боялись этого, будто были уверены в своих силах. Тогда Данила Захарьин поднялся с места и начал говорить раздраженно, тыча пальцем в сторону послов:
– Что говорить с ними? Их лукавый король не хочет именовать нашего государя царем, не признает за ним этот титул! И, кроме того, намеревается владеть Ливонией, где в давние времена были земли предка государева – Ярослава Мудрого!
Литовская делегация возмущенно зашумела. Переговоры заходили в тупик. Висковатый, устав от споров, заявил:
– Государь наш согласен заключить с вами перемирие на десять лет, если все завоеванные в ходе войны земли Ливонии останутся под его властью…
Было ясно, что условия, выставляемые обеими сторонами, никого не устраивают, и собирались уже послы уехать, как случилось то, что заставило их задержаться. Произошла потеря не только для Российского государства, но и для Иоанна лично – скончался митрополит Макарий.
Трижды ударил Успенский колокол на колокольне Ивана Великого. Плачущий и молящийся народ толпился возле Успенского собора, где уже было выставлено тело умершего.
Первым туда явился Иоанн – царь должен позволить начать церемонию. Лицо его было серым и каменным, было видно – скорбит государь. Макарий когда-то во многом заменил ему родителей, и теперь Иоанну казалось, будто хоронит он родного отца.
Архиереи и другие священнослужители толпились во мраке у стен. В тишине у освещенного алтаря были только двое – царь и усопший. Да, в последние годы меж ними был разлад, но сейчас все это было не важно. Государь хоронил близкого себе человека. Последнего, коего он по-настоящему чтил и любил. Глядя на укрытое по грудь бархатным покровом тело, Иоанн вспоминал, как еще мальчишкой, притесняемый боярами, плакал на плече митрополита, как старец, расчесывая волосы ему, рассказывал о величии царской власти, вспоминал отцовскую нежность в глазах Макария, когда Иоанн венчался на царство, когда обручался со своей первой супругой Анастасией. Вот бы снова увидеть эти глаза! Но лицо митрополита было укрыто шелковым покровом с изображением херувимов и вышитым посередине крестом. Царь перевел взгляд – за гробом стоял пустовавший трон митрополита с подушкой и посохом его. Иоанн поцеловал покров на лице Макария, прошептав:
– Я остался совсем один… Я остался один…
Когда Макария еще не предали земле, епископы уже обсуждали – кто займет митрополичий престол? А в марте на свет появится одно из главных детищ Макария – напечатанный Иваном Федоровым «Апостол». Владыка совсем немного не дожил до сего важнейшего события в истории российской культуры, для коей он так много содеял…
Но пока литовские послы в спешке отъезжали в Вильно, дабы сообщить королевскому двору о смерти влиятельнейшего в Москве человека, русское войско готовилось к выступлению.
Полоцк– Иван! Прикажи, дабы постромки проверили! Не то снова пушки увязнут, отвалятся, не поднять их!
Громкий голос Петра Шуйского, больше похожий на рык, был слышен издалека – нарочно отдавал приказы не слугам, а сыну, дабы сам всему усерднее и скорее учился. Он уже стоял на крыльце, широкий, грозный, нахлобучив соболью шапку на глаза, укутавшись в медвежью шубу. Обводил глазами закованных в броню крепких ребят, что уже ждали в седлах. Над ними стоял густой пар от мороза. Знамена и хоругви вздымались над отрядом.
Едва из Москвы пришел приказ о выступлении, Шуйский передал его своим младшим воеводам Семену и Федору Палецким, Ивану Охлябинину и прибывшему недавно из Великих Лук Ивану Шереметеву Меньшому – двигаться с войском к Минску, соединившись пред этим под Оршею с войсками Василия Серебряного, выступавшего из Вязьмы. Шуйский торопился, и воеводы за спиной его сетовали, что точного плана наступления нет, но в лицо ему высказать того никто не решился…
– Все готово, отец! – Сын Иван стоял внизу, преданно, с обожанием глядя на родителя. Ничего не ответив ему, Петр Иванович, взявшись рукой в широкой перчатке за рукоять висевшей на поясе сабли, стал медленно спускаться с крыльца. Вычищенные от снега деревянные ступени жалобно поскрипывали под его остроносыми сапогами. Проходя мимо сына, мельком подумал о том, каким вырос статным – истинно благородная кровь! И храбрости не занимать. Одно худо – удали много, но сие пройдет с годами.
– Отец! Дозволь мне с тобой? – несмело попросил юноша, когда Петр Иванович остановился перед своим боевым конем и взялся руками за луки седла. Отстоявшись, сунул сапог в стремя и с кряхтением влез на коня, который, почуяв тяжкий вес хозяина, храпнул и мотнул головой.
– Такого приказа не было! – возразил он наконец. – Сиди в Полоцке, жди вестей. Матери с Никиткой напиши, скажи, дабы молились обо мне.
И, взявшись обеими руками за поводья, тронул коня, увлекая за собой весь полк. Воевода не увидел, как сын с досадой глядит ему вслед, с трудом унимая свой юношеский пыл. Не было ни прощания, ни объятий – того, чего Иван так ждал от отца.
Отец был строг с ним ровно с тех пор, как Иван вырос, покинув мамок. Порой он ощущал себя пристыженным, когда отец позволял себе отчитать его при ратниках – и тогда сын ненавидел его! Он не ведал, что Петр Иванович, будучи строгим, пытался воспитать в сыне достойного мужа, верного своему отечеству, своему делу и слову. И, несмотря на всю эту строгость, любил своего старшего сына.
Вскоре всадники скрылись за закрывшимися городскими вратами.
– Стало быть, они проходят здесь? – спрашивал лазутчиков Николай Радзивилл. Он указывал широкой волосатой рукой на один из участков расстеленной на столе карты.
– Здесь, пан гетман, – склонили головы два низкорослых парня в изгвазданных грязью платьях. Радзивилл хмыкнул и оглянулся назад. За его спиной стояли другие воеводы, в том числе гетман Ходкевич. Все облачены в шубы, надетые поверх панцирей. Радзивилл взмахом руки отослал лазутчиков и подошел к Ходкевичу.
– Стало быть, верно князь твой указал? – спросил он, задумчиво потирая седеющую черную бороду.
– Стало быть, верно, пан Радзивилл, – склонил голову Ходкевич и усмехнулся краем губ – от канцлера, как всегда, пахло винными парами.
– Все равно не доверяю я ему… как его?
– Курбский…
– Курбский! А что, ежели неправдой хочет погубить нас? Либо мы их остановим, либо потеряем столицу… Тогда заведомо можно считать войну проигранной. Шляхта откажется Литве помогать, об объединении не будет и речи…
– Не можем мы поступить иначе, пан Радзивилл, не можем не довериться ему! – возразил Ходкевич и широкими шагами приблизился к столу.
– Здесь их и встретим! – Он указал пальцем на местечко Чашники, что под Витебском. – Коли победим, так остановим их продвижение в Литву. Ратников у них не столь много, видать, идут на соединение с другими полками. Но бить надо именно этот полк, ибо ведет его Петр Шуйский, их живое знамя! Здесь задушим их! А коли сумеем пленить воеводу, тогда царь Иоанн и его высокомерные бояре по-другому с нами заговорят!
– Здесь леса, очень хорошо, – Радзивилл тер свою бороду, не отрывая взгляда от карты, – можно устроить засаду. Так понесем меньшие потери.
– Выпало много снега, – кивал Ходкевич, – это нам на руку. К тому же они торопятся на соединение, не успеют опомниться, как окружим их.
– Да будет так! Выдвигайтесь! – решительно скомандовал Радзивилл, и, когда воеводы начали покидать его шатер, он приблизился к накрытому столу, где уже ждали графин с его любимым вином и серебряные кубки. Налив, тут же выпил залпом. Ходкевич стоял, сложив одетые в кожаные перчатки руки на рукояти сабли, глядел на стареющего канцлера, медленно убивающего себя пьянством.
– У меня восемь детей. Что станет с ними, ежели я паду в этой битве? Петр Шуйский силен, – вытерев бороду, пробормотал канцлер.
– Мой отряд будет прикрывать вас, пан Радзивилл, – заверил его Ходкевич с усмешкой, – вы скорее будете сражены вином, нежели вражеским клинком.
Радзивилл знал о прямоте своего верного помощника, любил его острые шутки.
– Вели выступать. Пора! – коротко усмехнувшись, приказал он и налил себе еще вина.
Битва при Чашниках изменила ход Ливонской войны. Нерасторопность русских воевод, плохое знание местности и, конечно же, прямая измена (вероятно, не одного Курбского) в рядах московского командования предоставили литовцам возможность остановить наступление русских и не дать завершить войну с благоприятным для них исходом.
Сначала по стройно идущему вдоль проторенной дороги полку ударили с двух сторон из пищалей литовские стрельцы. Все брони (по ужасной ошибке Шуйского) были в санях, ибо в столь глубоком снегу тяжко и долго шло бы закованное в панцири войско, поэтому, сраженные пулями, русские толпами валились с ног. Кровь текла ручьями, растапливая снег, отовсюду летела брызгами. Всадники, успокаивая лошадей, вертелись на месте, кто-то мчался взад-вперед – началась суматоха.
Петр Шуйский, застыв на месте, потерял дар речи, просто стоял и глядел ошалело, как гибнет его войско. Иван Шереметев Меньшой, вспомнив о положении своей семьи, переборол всякий страх и, вырвав саблю, начал скакать вокруг толпившихся ратников, веля им выстроиться и готовиться к обороне. Одна из пуль звонко стукнула по его шлему, и оторвавшаяся бармица вялым тряпьем свисла на плечо.
Звуки рожков и труб слились в один неясный гул, когда из леса со всех сторон вылетела тяжелая литовская конница, облаченная в панцири, и стала обхватывать противника в клещи. Тут русские воодушевились, завязалась рубка. В вихре поднявшейся снежной пыли дрались конные ратники на танцующих лошадях. Хруст костей, стоны и крики раненых, свистящая и булькающая кровь, ржание лошадей – на дороге в тихой лесной глуши начался настоящий ад. Вот кто-то из русских ратников, бросив оружие, схватившись за взъерошенную голову, бежит с перекошенным от ужаса лицом, проваливаясь в снег.
Петр Шуйский к тому времени лежал в снегу, придавленный своим убитым конем – его изрешетили пули. Кажется, при падении в стремени свернулась нога, и теперь он не мог ею пошевелить.
– Сломал ногу, что же это! – вопил он, чуть не плача. Шлем откатился прочь, от пояса оторвалась и пропала в снегу сабля в покрытых каменьями ножнах.
Воевода Семен Палецкий бился с двумя литовскими боярами одновременно. Одного все же сумел ткнуть саблей в шею и отбить удар второго, но подоспевший литовский пехотинец ударил его пикой в бок, спасла кольчуга. Палецкий отвлекся от своего главного противника, и тот вовремя засапожным ножом ударил его в горло. Палецкий, хрипя от ярости и боли, уронив саблю, зажал то место, откуда била толстой струей кровь, и в то время уже двое сумели пробить его пиками и поднять наверх. Его брат Федор увидел, как Семена держали на пиках, видел, как умирал он, заливая противников кровью, и хотел было броситься к нему, но вражеская пуля попала ему в нижнюю челюсть и разорвала ее. От боли он рухнул с седла и был затоптан насмерть пронесшейся литовской конницей.
Молодой воевода Охлябинин видел, как раненный пикой в плечо Шереметев покидал поле боя, и понял, что ему не совладать с напирающим врагом. Обессиленный, он дал литовским ратникам избить и повязать себя, но зато остался в живых.
Поражение русских было неизбежным и необратимым. Чуть поодаль, у старых раскидистых сосен, наблюдал за битвой Радзивилл. Ветер трепал перья фазана на его меховой шапке. Его охватил ужас от того, что он видел. Это была настоящая кровавая бойня. Вымазанные кровью ратники рубили друг друга, дрались, катаясь в снегу, хватаясь окровавленными скользкими руками за лица и бороды противников. Метавшиеся испуганные лошади влачили за собой убитых всадников.