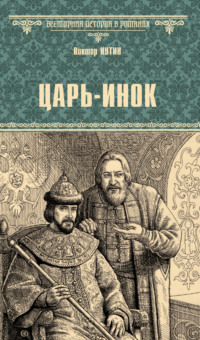Полная версия
Опричное царство
– Пан Радзивилл! Мы взяли в плен воеводу Охлябинина! – доложил подъехавший гетман Ходкевич, на лице его была счастливая и гордая улыбка.
– Где Шуйский? – не взглянув на него, сурово спросил Радзивилл.
– Пока не можем знать…
– Ищите! Он нужен мне живым!
Тем временем Петр Шуйский уже успел покинуть поле боя. В снегу, возле трупа его коня, осталась лежать шуба, парчовая ферязь, шлем, великолепная броня, пояс с каменьями. Кольчугу сбросил по пути. Он, не проиграв ни одного сражения, уполз, пораженный страхом, уполз брюхом по снегу, волоча за собой сломанную ногу. Позади себя он еще долго слышал затихающий шум битвы, но вскоре все смолкло. Прислонившись к сосне, он сел отдышаться. Зимний лес молчал, безмятежно на легком ветру качались укрытые снегом ветви деревьев. В небе кричали вороны – спешили на великий пир…
Петр Шуйский глядел, задрав голову, на воронью стаю и вдруг зарыдал. Схватившись руками за полуседые кудри, всхлипнул и завыл от отчаяния, стыда и страха. Где-то там, за перелеском, бродят литвины, которые наверняка вздернут его, ежели попадется он им в руки. Но оружия нет, отбиваться нечем, да и как драться со сломанной ногой?
Холод сковывал тело, била крупная дрожь, но лоб был покрыт испариной, словно после бани. Поначалу Петр Шуйский решил, что останется здесь, у этой сосны, но вскоре начало смеркаться, где-то вдалеке завыли волки, видимо, тоже почуяв кровь. Нужно было уходить! Найдя толстую длинную ветку, воевода поднялся и, опираясь на нее, побрел, не зная куда.
Когда уже совсем стемнело, а тело промерзло настолько, что перестало слушаться, вдалеке наконец показалась деревня. Над домами стоял печной дымок, в окнах, затянутых бычьим пузырем, слабо горел свет лучины. Вскрикнув, князь бросился туда, падая на ходу и с глухим рычанием поднимаясь вновь – от голода, холода, страха и боли он совсем обезумел. Какой-то мужик шел в темноте с вязанкой дров на плечах, увидел его и остановился настороженно. Заметил его и Шуйский, хромая, бросился к нему по глубокому снегу, но, вскрикнув от боли, рухнул вниз лицом. Мужик, отложив вязанку и вынув из-за пояса топор, приблизился к нему. Шуйский тем временем, кряхтя, силился встать, щурясь, пытался разглядеть подошедшего. Плечистый, низкого роста, одетый в овчину, голова не покрыта, широкая черная борода всклочена.
– Христом Богом молю, помоги! – забывшись, выпучив глаза, заговорил по-русски Шуйский. – Нет сил, замерз! Дай кров и еды! Не забуду, отплачу!
Услышав русскую молвь, мужик отступил, насторожившись. Видимо, тогда князь понял, что совершил ошибку – в Литве русских не жалуют, ибо прослышаны все о жестокостях в Ливонии, о тирании московского царя.
– Нет, не выдавай меня никому. У меня в сапоге деньги, возьми их, но не выдавай, – примирительно подняв одну руку, второй князь полез в сапог. Едва ли не все тогда носили в том месте ножи-засапожники, и мужик, испугавшись, решил ударить первым. С глухим стуком топор ударил Шуйского по макушке и глубоко воткнулся в череп, и тут же обильным потоком из ушей и ноздрей князя хлынула темная кровь. Он завалился на спину, сильная судорога била его ноги. Тяжело дыша, мужик отстоялся, выждав, когда тот затихнет.
Ноги в сафьяновых остроносых сапогах еще дергались, когда крестьянин принялся стаскивать эти самые сапоги. Из правого, в который полез князь, выпал небольшой мешочек с деньгами. Схватив сапоги и кошель, позабыв в снегу топор и дрова, бросился домой, где рассказал жене о том, что удалось ему пережить. С удивлением рассматривала тощая, измученная женщина эти самые сапоги, заглядывала мужу через плечо, когда он развязывал мешочек. Там было несколько золотых и серебряных монет.
– Припрячь куда-нить, да подальше, – велел мужик своей оторопевшей жене, отдал ей сапоги и деньги, а сам из сеней заглянул в горницу. На печи спали трое его ребятишек, укрывшись овчиной. В углу горела лучина, тускло освещавшая их скудное жилище. В то мгновение мужик подумал, что отныне заживет по-другому – с монетами и такими-то сапогами!
Вскоре пошел к соседу, коему рассказал о недавнем происшествии, но о деньгах и сапогах, конечно, не обмолвился ни словом. Затем позвали других соседей. Собравшиеся мужики двинулись к лежавшему на том же месте трупу. Возле головы его, повернутой вбок, чернела в снегу растекшаяся лужа крови.
– Знатно ты его, – протянули мужики. Обыскали, нашли лишь висевший на шее серебряный крестик и едва из-за него не подрались. В итоге решили, что за него для всей деревни поровну купят скотины, еще не ведая, что ничего не смогут за него получить. После размышляли, куда деть труп. Решили бросить в заброшенный колодец – уже много лет вместо воды там болото…
Тяжело всплеснулась застоявшаяся вода, пошумела и вскоре затихла…
Тем временем Василий Серебряный, узнав о разгроме основного русского войска, решил отступить со своими полками в Смоленск. Но, уходя, озлобленный, велел опустошать все литовские деревни, попадавшиеся на пути. Население нещадно вырезали, брали в плен, хаты поджигали.
Оставляя после себя лишь убитых и груды пепла, Василий Серебряный пришел в Смоленск с богатой добычей и сотнями пленных…
Уцелевшие после битвы ратники, бросив убитых и обоз, возвращались в ближайшие города. В Великих Луках Иван Андреевич Шуйский со стены наблюдал, как к городу приближалась ватага потрепанных всадников. Некоторые едва держались в седле. Среди них был Иван Шереметев Меньшой, настолько бледный, что князь подумал, будто его привезли мертвым.
– Открыть ворота! – приказал он и стал стремительно спускаться вниз.
– Что случилось? Где войско? – спрашивал он въезжавших всадников, еще не осознавая, что поход окончился разгромом.
– Не ведаем, Иван Андреевич, – едва различимо отвечал ратник с рассеченным лицом. Сабля, видимо, прошла от левой брови наискось. Все, что было под уцелевшим правым глазом, походило на кровавое месиво, кожа свисала лоскутами, нос отрублен, губы рассечены и обнажают гнилые зубы.
– Нет больше войска нашего. Воеводы Палецкие на моих глазах погибли, – вторил ему ратник в залитых кровью доспехах, – ворота не закрывай, Иван Андреевич. Много нас идет сюда…
– Не закрывать ворота? – с гневом выкрикнул князь. – Почему бросили остальных? Почему не объявили сбор оставшихся ратников? Где знамена ваши?
– Не ругай их, князь, то моя вина, – едва слышно проговорил Иван Шереметев, – не смог воинов собрать, силы уж совсем оставляют меня. Древко пики в плече у меня обрубленное, рубаха вся в крови под броней, уж по ногам течет…
Иван Андреевич, скрипнув зубами, махнул рукой и отвернулся…
Еще весь день приходили жалкие остатки полка – раненые, подавленные, привозили с собой истекающих кровью товарищей. Никто не говорил меж собой, все пытались молча пережить сие потрясение.
А Радзивилл еще долго искал Петра Шуйского, пока наконец воины не забрели в ту самую деревню, не увидели на пригорке обильно залитый кровью снег. Начали вызывать местных жителей, которые, испугавшись, показали, куда они бросили тело убитого московита. За телом прибыл сродный брат Радзивилла, воевода Николай Радзивилл Рыжий, известный своей суровостью и беспощадностью к врагам. Увидев труп Шуйского, велел тут же искать его губителя. Жители не собирались выдавать своего соседа, пока Радзивилл не пригрозил за такое беззаконие сжечь каждый третий дом в деревне. Вскоре убийца Петра Шуйского под вопли своей жены умирал вздернутым за шею на ближайшем дереве…
Оледенелый труп привезли в лагерь Радзивилла. Накрытый рогожей, он лежал в снегу. Вокруг собрались и прочие литовские воеводы. Кто-то из них закрывал свое лицо платком. Хмуро глядя на труп, Радзивилл велел раскрыть его. Ратник отдернул край рогожи, и все увидели вздувшееся, изуродованное лицо покойника. Ни у кого не было сомнений в том, что это Шуйский.
Поглядев на него, Радзивилл велел переодеть его в достойную одежду и отвезти в Вильно, где он должен быть похоронен с полагающимися почестями. С этими словами он удалился в шатер. Все прекрасно понимали, что до почестей для вражеского полководца ему нет никакого дела – он тешил свое самолюбие. Пусть горожане увидят поверженного противника таким, какой он есть сейчас – медленно разлагающийся, с расколотой головой и изуродованным лицом. К тому же наверняка Москва будет требовать его тело себе – лишняя возможность утереть московитам нос!
Брезгливо морщась, Ходкевич велел убрать труп, после чего зашел в шатер Радзивилла. Канцлер был хмур.
– Поздравляю с победой, пан Радзивилл. Теперь мы сможем вернуть Полоцк, – улыбнувшись, проговорил торжественно гетман. Радзивилл молчал, даже не взглянув на него – он был мрачен.
Снаружи подул ветер, заколыхавший полы шатра. Начиналась метель…
* * *При дворе весть о разгроме главного русского войска встретили со скорбным молчанием. Собрание Думы было тяжелым, бояре сидели, не смея и слова сказать. Государь покинул собрание, тяжело опираясь на посох, словно тащил на себе невидимую ношу.
Алексей Басманов и Афанасий Вяземский были подле него теперь всегда, следовали за ним всюду, словно тени.
– Не Господь отвернулся от тебя, великий государь! Изменники – их рук дело, – шептал Вяземский.
– Кто-то из воевод выдал пути войска, иначе засады бы не было! – вторил ему Басманов. Иоанн, не отвечая им, вошел в покои. Спальники и прочие слуги, пригнув головы, тихо исчезали. Подойдя к иконостасу, Иоанн разжал пальцы руки, держащей посох – жезл со звонким стуком упал на пол. Царь рухнул на колени и проговорил громко:
– Господь Всемогущий! Настави меня и помилуй! Ежели есть среди меня недруги, предавшие меня и крестное целование, покарай их гневом Своим! В Твоей власти они! Прости душу мою, пастыря их, ибо ведаю, буду на Страшном Суде и за их зло в ответе…
Переглянувшись, его советники бросились к нему и упали на колени рядом.
– Как же, государь? В твоей власти все подданные! Ты – помазанник Божий на престоле русском. Тебе судить их! Именем Господа нашего, да избави землю свою от них! Казни их без милости! Вырезай семьями, дабы семя зла не дало всходы!
– Готовы быть в войске твоем, избавляющим царство твое от боярской измены, ибо царство твое есть царство Бога! Им нет места здесь! – говорил Вяземский, кланяясь не иконам, а царю.
– Лишь Ванька Шереметев, брат двух изменников, остался в живых! Отлеживается в Великих Луках, раны зализывает! Вели, государь, ему в Москву прибыть, тут его спросим, почему из всех воевод лишь он уцелел! – молвил шепотом Басманов.
Иоанн начал подниматься с колен. Басманов и Вяземский тут же услужливо попытались подхватить его под руки, но Иоанн отмахнулся от них. Вяземский подал посох. Схватив его цепкой рукой, Иоанн перевел дух. Угрожающе двинулась нижняя челюсть, заходила борода. Он медленно обернул к Басманову свой страшный лик, отчего боярин невольно отступил назад.
– В Москву? А кто у меня с Литвой воевать будет? Кто? – выкрикнул с гневом Иоанн и тяжело задышал. Затем добавил уже спокойно: – Пусть лечится, но человека к нему приставьте, дабы следил. И за младшим их братом Федором тоже…
– Сделаем, великий государь! – склонил голову Басманов.
– Сделай, а потом с Федькой отправляйся в рязанские имения свои. Посол Афоня Нагой предупредил, что крымский хан в поход собирается. Мне в Рязани добрые воеводы нужны. Тебе за Рязань головой отвечать!
Басманов опешил, еще не поняв, является это знаком оказанной чести или же опалы. Но Иоанн отправил Басманова туда не из-за прежних его боевых заслуг, не из-за ратных умений, а для того, чтобы на время увезти от двора его сына Федю, ибо уже многие подозревают об их содомной связи. Видимо, что-то подозревает царица, к коей государь перестал заходить. Замечал – едва видит Мария Темрюковна издалека Федьку Басманова, тут же черные глаза ее загораются неистовым пламенем. Не зря она ненавидит его! Надобно обезопасить себя…
Басманов, уняв смятение, вновь покорно склонил голову:
– Исполним, великий государь!
Глава 7
На Масленицу вся Москва гуляла, несмотря на сильные морозы.
Город наводнила толпа. Крикливые торговцы развернули свои лавки, надеясь на высокую прибыль. Румяные бабы в цветастых платках расхаживали с целыми связками баранок на шеях. Нищие сидели под стенами храмов и соборов, молясь и кланяясь до земли, выпрашивая милостыню. Юродивые, полуголые, в грязных лохмотьях, ходили рядом, что-то бормоча себе под нос.
Город наводнила толпа. Между лавками расхаживали иностранцы и дородные горожане. Поодаль у Москвы-реки только что окончился кулачный бой – снег был разворошен, местами в кровавых каплях.
Сквозь плотную толпу гуляющих горожан проезжал небольшой конный отряд с криками «дорогу!». Это ехал со своими слугами князь Михаил Репнин. Многие узнавали его, почтительно уступали дорогу, кто-то приветствовал его, но князь был хмур и не отвечал на приветствия.
Он приехал в Москву по приглашению самого государя. Связано ли это с тем, что князю подбросили письмо от гетмана Ходкевича? На письмо князь не ответил, хотя происходящим в стране был очень недоволен. И теперь он направлялся в царский дворец, превозмогая великое нежелание. В неспокойное время прибыл князь в столицу – на днях казнен был князь Дмитрий Оболенский за «великую измену», земли его отобраны в казну. Михаил Петрович был раздосадован гибелью родича.
Никому еще не пришло в голову, что Иоанн начал задуманное и взялся за искоренение разросшегося рода Оболенских, к коему князь Репнин тоже принадлежал…
На дороге князя показались скоморохи в ярких и нелепых костюмах, в шутливых масках. Они вели на веревке огромного бурого медведя, наигрывая в бубны и сопелки. Приближались, приплясывая и кувыркаясь, звук их веселой музыки был все громче. Высокий мужской голос напевал:
Идет любчик мой горой, несет гусли под полой,Сам во гусельки играет, проговаривает:«Ах, девки, к нам! Детишки, к нам!»Медведь сел на землю, два скомороха прыгали вокруг него. Толпа начала обступать их, кто-то уже сажал удивленных и смеющихся детей на плечи, кто-то, расталкивая всех, стремился вперед. Где-то уже слышна была ругань.
– Куды лезешь? А ну, полезай назад!
– Ща тресну тебе по сопатке, сам назад откатишься!
Тем временем музыка смолкла, скоморохи отошли в разные стороны, а тот, что напевал песни, подошел к медведю. Священнослужители, которые появлялись рядом, бежали от этого места, осеняя себя крестом. Репнин ругался, стиснув зубы – никак не проехать во дворец, придется через толпу.
– Ну что, Михайло, – окликнул медведя скоморох, – покажи нам, как танцевать нужно под сопели, дабы люд московский веселить!
Заиграли дудки, медведь, кивая головой, встал на задние лапы, присел на одну, другой начал притоптывать, затем принялся поочередно поднимать то одну заднюю лапу, то другую. Оглушительный хохот слышался отовсюду.
– Чего встали? Поехали дальше! – раздраженно скомандовал ратникам Репнин, но те не сразу тронулись с места – знали, что скоморохи нечистые, и счаровать могут, и проклятие нанести одним лишь взглядом. Репнин тронул коня, но скакун, сделав несколько шагов, заржал испуганно, попятился назад, чуя хищного зверя, да и сам медведь вдруг встал на четыре лапы, зарычал, запыхтел.
– А ну, убирай отсюда зверя своего! – крикнул Репнин поводырю. – Не видишь, конь шарахается?
Скоморохи, дабы не растерять смущенную толпу, продолжали играть, уступая князю дорогу. Один оказался совсем близко к стремени князя, и Михаил Петрович, презиравший скоморошьи чертовые пляски, не упустил возможности ткнуть его сапогом в лицо. Скоморох с детским визгом покатился в снег, затем сел и сделал кувырок вперед. Он схватил горсть снега, на котором отпечатался след княжеского коня, прошептал что-то над ладонью и отбросил снежный комочек. В толпе некоторые заметили это и зашептали тревожно:
– Никак проклял князя!
Репнин, не обернувшись, продолжил путь во дворец…
Существует устойчивая легенда, что князь Репнин был приглашен на пир Иоанна, где поразился всеобщей разнузданностью и безумием застолий, где и погубил себя, храбро презрев сие и назвав государя «скоморохом». Думается, в этой легенде, где государь отплясывает в скоморошьей маске и убивает Репнина за то, что тот отказался танцевать с ним, слишком много преувеличений. Но конфликт, видимо, действительно был…
В светлой палате стояли накрытые столы, уставленные всевозможной серебряной и золотой посудой с разнообразными блюдами, ковшами, кружками и кубками в каменьях. На золотых блюдах стольники разносили жареных лебедей. Домрачеи веселили гостей музыкой.
Здесь была вся знать, за исключением тех, кто стоял по городам или был в опале. Захарьины сидели по левую руку от государя, Вяземский и татарская знать, сверкающая богатейшими одеждами, – по правую. Репнин заметил Александра Сафагиреевича, урожденного Утямыш-Гирея, сына покойной Сююмбике и казанского хана Сафы-Гирея. Юноша в младенчестве был казанским ханом, теперь же это знатный вельможа при дворе московского царя. Репнин помнил его еще испуганным черноглазым мальчишкой, только что прибывшим в Москву из Казани. Теперь же это был располневший, холеный юноша с редкими черными волосами на щеках. Он, разговаривая с Вяземским, что-то жевал умасленным ртом и смеялся, щуря свои узкие степные глаза. Присмотревшись, Репнин заметил нездоровый цвет его лица, темные мешки под глазами, и невольно подумал – да царевич губит себя с малых лет чревоугодием и вином! Князь оказался прав – через два года в возрасте двадцати лет Александр умрет и, как знатный человек с царской кровью, будет похоронен в Архангельском соборе рядом с могилами великих князей московских…
Были среди гостей и братья покойной Сююмбике – Иль-мурза и Ибрагим-мурза. Сыновья Юсуфа, заклятого врага Иоанна и великого князя Василия, теперь были в почете при дворе, служили русскому царю и владели городом Романовом и окрестными землями. В далеком 1555 году Юсуф был убит собственным братом, который, захватив в Ногайской орде власть, отправил племянников Иля и Ибрагима русскому царю в качестве пленников, дабы доказать ему свою верность. Иоанн с почетом встретил мальчиков, и с тех пор они верно служат ему. Потомки Иль-мурзы положат начало одному из богатейших родов императорской России – роду Юсуповых…
Татарская знать, считавшаяся родовитее любого боярина Рюриковича или Гедиминовича, заполонила царский двор. Бесчисленные царевичи, потомки сбежавших на службу к московским государям вельмож, не заседали в Думе, но водили полки, имели свои наделы и собственное татарское войско. И двор полон не только знатью – на кухнях служили даже татарские повара, в обязанности которых в основном входила обжарка мяса…
Молодой чашник, держа серебряный кубок обеими руками, оказался перед Михаилом Петровичем.
– Государь жалует тебе чашу со своего стола, поминая храбрость твою под Полоцком!
Многие из гостей покосились в его сторону. Пристально, откинувшись в высоком кресле, глядел на него Иоанн, облаченный в узкий черный кафтан с золотыми пуговицами. Поднявшись, Репнин поклонился государю, медленно осушил кубок и, утирая седеющие усы, мягко опустился на скамью.
Двери распахнулись, и в палату с шумом и грохотом бубна вошли скоморохи с медведем – те самые, коих князь встретил по дороге во дворец. Тут же священнослужители, присутствовавшие на пиру, поднялись со своих мест и, откланявшись государю, тихо ушли. Набожный Иоанн, любивший скоморошьи забавы, понимал, что церковь порицает это, и позволял священнослужителям покидать застолье, когда приходили скоморохи. Репнин, увидев их, заметно насторожился, решив поначалу, что ему это чудится. Для многих же нахождение медведя в дворцовой палате, полной людей, было странным. Татарская знать заметно оживилась, увидев дикого зверя.
А высокий мужской голос запел весело:
Ах, у нашего сударя света батюшки, У доброго живота, всё кругом ворота! Ой, окошечки в избушке косящатые, Ах, матицы в избушке таволжаные, Ах, крюки да пробои по булату золочены! Благослови, сударь хозяин, благослови, господин, Поскакати, поплясати, про все городы сказати, Про все было уезды, про все низовые, Про все низовые, остродемидовые! Хороша наша деревня, про нее слава худа! Называют нас ворами и разбойниками.Некоторые из бояр, услышав эту песню, стали переглядываться меж собой смущенно. Иоанн с удовольствием улавливал эти стыдные взгляды «воров и разбойников» и с прищуром усмехался краем губ.
Музыка и песни смолкли, и мужичок, что напевал песню, вышел вперед, поклонившись. Медведь недовольно ворчал, опустив огромную голову.
– Здравия тебе, великий государь! Пришли по зову твоему тебе на потеху! Дозволь, государь, медведь станцует для тебя!
Иоанн махнул рукой, и вновь заиграла веселая музыка. Вяземский о чем-то шепнул ему на ухо, и он кивнул. Домрачеи начали подыгрывать скоморохам, гости немного привыкли к дикому зверю. Медведь, встав на задние лапы, начал поочередно их поднимать – как до этого танцевал в городе. Гости взорвались криками и хохотом, кто-то начал также пританцовывать на своих местах, кто-то хлопал руками в такт. Но не все присутствующие были довольны происходящим. Это, как правило, были старые бояре, такие как Александр Горбатый-Шуйский. Он сидел на своем месте, с презрением оглядывая происходящее вокруг. Недоволен был и Михаил Репнин.
Афанасий Вяземский вдруг начал вызывать гостей из-за стола, притопывая каблуками щегольских червленых сапог. Медведя увели, теперь лишь повсюду кувыркались и прыгали скоморохи. И вот тот самый, коего толкнул в городе князь Репнин, оказался перед своим обидчиком. Князь пристально уставился на него, пытаясь разглядеть истинные черты лица его, скрытые под толстым слоем белил и краски.
– Пошел прочь, нечисть! – Репнин угрожающе подался вперед, взявшись за висевший у пояса кинжал.
– Что же и ты не танцуешь, Михаил Петрович? – услышал он вопрос вставшего рядом Афанасия Вяземского. От него сильно несло вином.
– Я сюда не скоморошничать пришел!
– А зачем же ты пришел? – лукаво усмехнулся Вяземский. Репнин тяжело уставился на него. Высокий, худой, с редкой черной бородкой, с крупной родинкой на щеке. Откуда же вылез ты, окаянный? Как подле государя оказался?
– Сам государь велит тебе танцевать! – не дождавшись ответа, говорил Вяземский, отступив в сторону и открывая Репнину вид на сидящего в кресле Иоанна. Оказалось, царь не сводил холодного взгляда с князя. Репнин, скрипнув зубами, сжал кулаки.
– Надевай! – велел Вяземский, положив перед ним скоморошью кожаную маску, на коей вырезаны были глаза и широкая улыбка. Маска была страшной, словно с улыбающегося лица сорвали нос, зубы, вытянули язык и глаза. Репнин с гневом сбросил маску со стола и поднялся.
Казалось, музыка смолкла мгновенно, и всеобщее внимание обратилось на князя. Репнин переводил взгляд с одного лица на другое, не замечая в них ни глаз, ни ртов, как на той самой маске, что валялась на каменном полу.
– Дерзишь противиться воле великого государя нашего? – проговорил Вяземский с угрозой. Репнин чувствовал, как внутри быстро, на износ, билось сердце. И вдруг вспомнил казненного родича своего Дмитрия Оболенского, его обездоленную вдову, и слова, полные злости, сами полились из него:
– Воле государя я никогда не противился! И кровь за него свою не раз проливал, и против татар, и против ливонцев! Но скоморохом на потеху ему не стану! Что праздновать ныне? Войско наше разбито в Ливонии! Татары собираются в поход на Рязань! А вы празднуете! Глядите, скоро праздновать будет негде, когда Москву враги наши бесчисленные уничтожат!
Он уловил лица татарских царевичей – одни в изумлении глядели на него, у других от гнева загорелись их черные глаза. Перевел взгляд на ненавистных всей знати Захарьиных и их родичей, что ныне состоят в опекунском совете – Телятевских, Яковлевых, Сицких. Взглянул на опустившего очи Челяднина и на изумленного Горбатого-Шуйского. Готовые разорвать друг друга в придворной борьбе, они молчали сейчас, глядя на престарелого воеводу, дерзнувшего бросить вызов самому государю.
– Отчего же ты думаешь, что мы против врагов своих бессильны? – раздался вдруг громкий и сильный голос государя.
– Вижу, государь, – ответствовал Репнин, но уже чувствуя, как силы покидают его, – пока невинных казнить будешь, не одолеем мы никого!
– Кто же невиновен был, Мишка? – улыбаясь, вопрошал Иоанн.
– Родич мой, Дмитрий Оболенский, казненный тобой накануне!
За столами послышался недовольный ропот и шелест тихих голосов.
– Верую, до конца он был верен тебе, но был, видать, оклеветан, впрочем, как и многие! – Репнин покосился на Вяземского и на Захарьиных.
– Многие! – усмехнулся Иоанн. – Что ты знаешь о верности, князь? Нет ли в доме твоем грамоты от литовских панов или польского короля?
Репнин замер и, чтобы не упасть от накатившей внезапно слабости, уперся руками о стол, свалив чарки и пустой кубок. Откуда государь знает, кто доложил? Но не ведал он, что грамоту ту подбросили ему люди государя, чтобы был весомый повод объявить его изменником. Репнин поднял глаза и вздрогнул. На каменном лице Иоанна было то самое хищное выражение лица, коего боялись, перед коим трепетали.