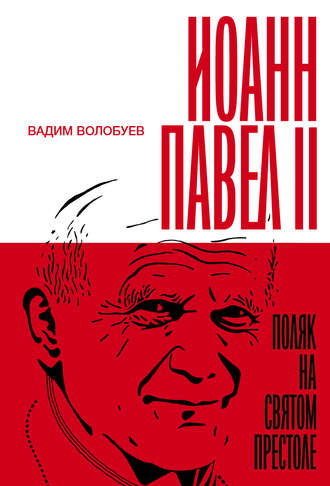
Полная версия
Иоанн Павел II: Поляк на Святом престоле
Эти знаменитые строки Адама Мицкевича с полным правом могли теперь повторить миллионы простых поляков. Переселенцы с кресов – крестьяне и лавочники, профессора и рабочие – хлынули в центральную и западную Польшу, неся с собой щемящую ностальгию по Второй республике и ненависть к коммунистам, согнавшим их с родных мест. Этих людей легко было распознать по «восточному» акценту, смягчавшему шипяще-скрежещущие звуки польского языка. Сам Пилсудский говорил с таким акцентом!
Войтыла сталкивался с этими людьми постоянно. Краковская газета «Тыгодник повшехны» («Всеобщий еженедельник»), в которой он печатал свои тексты, была основана как раз выходцами из Вильно и Львова. Немало уроженцев тех земель работало и в Люблинском католическом университете, где Войтыла преподавал в пятидесятые годы. В Краков переехало из Львова Польское теологическое общество, объединявшее богословов и ученых, интересовавшихся христианской философией. Наконец, краковскую епархию после смерти Сапеги возглавил изгнанный из Львова архиепископ Эугениуш Базяк. Много позже, вспоминая Базяка, Иоанн Павел II скажет: «Его епископское служение Промыслом Господним выпало на время большой исторической трагедии. Разве не было трагедией то, что произошло вследствие ялтинских решений? Разве не являлось трагедией для пастыря вынужденное расставание с древней столицей латинских митрополитов, достопочтенной львовской кафедрой, со столькими прекрасными святынями этого города и с самой архиепархией?» 131
Кресы постоянно напоминали о себе – в разговорах, воспоминаниях, трудовых биографиях. Смириться с потерей Вильно и Львова было очень трудно. В 1944 году Армия Крайова попыталась обозначить там свое присутствие, штурмуя оба города одновременно с советскими войсками. Закончилось это разоружением аковцев красноармейцами и отправкой в Сибирь всех, кто не захотел вступать в новую польскую армию, собранную Сталиным из бывших ссыльных ГУЛАГа (так называемую «армию Берлинга» – по имени ее первого командующего). «Кинуть ядерную бомбу – и во Львов вернемся с помпой», – популярное присловье в Польше конца сороковых годов.
Однако о Львове мечтали не только поляки. Организация украинских националистов (ОУН) в первые дни нацистской оккупации тоже попыталась установить в городе свою власть, а потерпев неудачу, ушла в подполье. В 1943 году она сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА), которая летом провела акцию по «очищению» Волыни от польского населения – по сути, геноцид. Поляки не сидели сложа руки и отвечали кровавыми налетами на украинские деревни. Особенно этим прославились боевые формирования эндеков, не подчинявшиеся руководству Армии Крайовой. При этом немало как поляков, так и украинцев отметились убийствами евреев, которым мстили якобы за всеобщую поддержку советской власти (самые известные случаи произошли в Едвабне и Радзилове под Белостоком летом 1941 года, где местные поляки сожгли десятки своих еврейских соседей в овинах). В свою очередь спасшиеся в СССР польские евреи, возвращаясь после разгрома фашизма на родину и обнаруживая враждебность соседей, тем охотнее декларировали преданность новой власти, которая только и могла их защитить. Непропорционально высокий процент евреев в госбезопасности и руководящих структурах послевоенной Польши слишком бросался в глаза, укрепляя тем самым штамп о «жидокоммуне»… Получался замкнутый круг насилия и ненависти.
Польша конца сороковых – как огромный табор. Страну, словно тачку, передвинули на двести километров западнее, а внутри нее все так и бурлило: из СССР прибывали эшелоны «кресовых» поляков и евреев; с присоединенных земель поголовно выселяли немцев, на их место переводили поляков с тех же кресов и украинцев, депортированных в 1947 году; города заполнялись толпами крестьян, спешивших устроиться на возводимые тут и там заводы и фабрики, а заодно избежать коллективизации, которой все ожидали со дня на день. Марксисты с помощью Красной армии и НКВД устанавливали монополию на власть, беспощадно уничтожая своих противников. Для них не существовало разницы между немцами и родными антикоммунистами: все проходили по категории «врагов», нередко сидя в одних и тех же тюрьмах (например, шеф бюро информации АК Казимир Мочарский делил камеру смертников с палачом варшавского гетто Юргеном Штропом). Первый краковский эшелон с арестованными подпольщиками-аковцами, фольксдойчами и обычными преступниками выехал на восток уже в марте 1945 года132.
Освобождение? Конечно. Но не все были рады такому освобождению. Ванда Пултавская, многолетняя приятельница Войтылы, пережившая ад в Равенсбрюке, где над ней проводили медицинские опыты, отнюдь не спешила восхвалять новый строй за то, что он спас ей жизнь. «К „народной власти“ у меня было решительно негативное отношение еще с тех пор, как на первом голосовании лишили права голоса бывших узников (нацистских концлагерей. – В. В.), а некоторых из АК вообще арестовали», – писала она в конце жизни133.
«На деревьях вместо листьев пусть повиснут коммунисты», – популярный стишок тех лет, который и сейчас известен каждому поляку. Многим казалось, что они просто сменили одну оккупацию на другую, хоть и более мягкую. В современной Польше даже повелось заключать слово «освобождение» в кавычки, показывая тем самым иллюзорность наступившей свободы. Войтыла тоже был не в восторге от новой власти, однако в его воспоминаниях, написанных в 1996 году, освобождение от нацистов обозначено безо всяких кавычек134.
Русская революция, как всякая революция в большой стране, выплеснулась за свои границы. Советский строй внедрялся повсюду, куда дошла Красная армия (за исключением разве что Австрии – Сталин соблюдал ялтинские соглашения). Агрессивная пропаганда поднимала рабочих и крестьян против бывших «эксплуататоров». Передел земли, национализация промышленности, запрет «буржуазных» (то есть почти всех) партий, нападки на «чуждые народу» направления искусства – революция перемалывала всех и вся. Кто не вписывался в новые рамки, должен был молчать или умереть. Станислав Миколайчик, бывший премьер правительства в изгнании, решился было конкурировать с коммунистами в легальном поле, но был ошельмован и, заклейменный как агент империализма, едва унес ноги, вывезенный в октябре 1947 года за рубеж американскими дипломатами. Его крестьянская партия (одно время – самая популярная в стране) развалилась, не в силах противостоять грубому нажиму и подтасовкам на выборах. В том же году было раздавлено и вооруженное подполье, чью трагедию описал тогда Ежи Анджеевский в знаменитом романе «Пепел и алмаз», экранизированном спустя годы Анджеем Вайдой.
Водораздел проходил через семьи и дружеские связи. Попал за решетку основоположник Унии Ежи Браун, оказался в тюрьме руководитель «Студии 39» Тадеуш Кудлиньский. Ежи Клюгер, школьный товарищ Войтылы, покинув СССР вместе с армией Андерса, решил не возвращаться в новую Польшу, как и около полумиллиона граждан страны, выброшенных войной в Западную Европу135.
Гимназию Мартина Вадовиты переименовали в честь покойного Эмиля Зегадловича. Театр рапсодов, начавший было открытую деятельность в Кракове (и даже поставивший «Евгения Онегина», чтобы угодить новой власти), спустя три года подвергся обструкции со стороны лояльного режиму критика, который прошелся по Котлярчику за его «интеллигентский мистицизм» и заявил, что пора уже решить вопрос с этим театром136. Вынужденный идти навстречу соцреализму, прогибаясь и лавируя, театр дожил до февраля 1953 года, когда был закрыт властями.
Зато университетские приятели Войтылы Войцех Жукровский и Тадеуш Голуй увидели в переменах долгожданное торжество справедливости: первый возглавил механизированный батальон, подчинявшийся влиятельному коммунистическому бонзе Александру Завадскому, а второй, уже маститый писатель, начал делать большую карьеру в партийных и государственных органах. Многие студенты (а их уже в 1945 году было больше, чем до войны) приняли коммунизм как новую религию. Поэт Эрнест Брылль вспоминал об однокурснице в Варшавском университете, которая доводила себя до истощения, чтобы стать похожей на Николая Островского137. Христианская экзальтация на новый лад!
Да что студенты! Казимир Выка, преподаватель Войтылы в университете, был так упоен революцией, что призвал не восстанавливать старую Варшаву, а построить новый город в духе коммунистических утопий. И такой город вскоре действительно начал расти, только не в Варшаве, а в Нове Хуте, рядом с Краковом, где возводился металлургический комбинат.
Но кровь на алтаре революции не должна была высыхать. Боги прекрасного завтра требовали постоянных жертв. После расправы с «эксплуататорскими классами» и «бандитским подпольем» настал черед самих коммунистов. В 1948 году отправили в отставку слишком самостоятельного Гомулку, а затем, на волне внутрипартийных чисток, оказались в немилости и Жукровский с Голуем: первый – за свое аковское прошлое, второй – за отказ осудить «клику Тито». Министр обороны Михал Роля-Жимерский, открывавший учебный год в Ягеллонском университете, попал в тюрьму, а на его место Сталин поставил маршала Константина Рокоссовского, который заполнил высшие командные посты советскими офицерами. В Польше утверждался сталинизм.
Краковские семинаристы не могли остаться в стороне от этих событий. У всех перед глазами стояла картина бедствий, обрушившихся на римско-католических и униатских священников после присоединения восточных земель к СССР, – часть их выслали в Сибирь, некоторых расстреляли вместе с офицерами в 1940 году. Греко-католическая (униатская) церковь в 1946 году была и вовсе упразднена советской властью в наказание за якобы поголовную поддержку УПА138.
Подобно многим ксендзам, Сапега, если верить польской госбезопасности, активно сотрудничал с боевым подпольем, передавал за рубеж документы, касавшиеся катынского преступления, и даже утвердил устав новой конспиративной организации «Свобода и независимость», пришедшей на смену Армии Крайовой139. Сапегу не трогали – польские коммунисты вообще до 1948 года не рисковали связываться с костелом. Однако госбезопасность установила наблюдение за ним и рядом семинаристов, в число которых попал и Войтыла (к нему даже приставили особого сотрудника)140.
Кароль Войтыла к тому времени был уже не только семинаристом, но и вице-председателем «Братской помощи учащихся Ягеллонского университета» (в просторечии «Братняк») – общественной организации, занимавшейся поддержкой нуждающихся студентов. Должность эта отнимала у Войтылы так много сил, что однажды, просидев всю ночь на заседании, он попросил преподавателя в семинарии не экзаменовать его – настолько был вымотан141.
Благотворительностью «Братняк» не ограничивался. В феврале 1946 года его члены вместе с прочими краковянами триумфально встретили возвратившегося из Рима Сапегу, наконец получившего кардинальскую шапку. А 3 мая, в День Конституции, «Братняк» организовал праздничную манифестацию, которая была жестоко разогнана органами правопорядка.
День Конституции наряду с Днем независимости – важнейший государственный праздник Польши. Каждый поляк знает, что Речь Посполитая – вторая страна в мире, где появилась конституция. Это произошло в 1791 году, через четыре года после США и за пять месяцев до Франции. Есть чем гордиться!
Однако коммунисты отменили этот праздник, чтобы он не затмевал первомайские торжества. Власти заранее уведомили сограждан, что не допустят никаких шествий. «Братняк» не смутился запретом и вывел людей на улицы. Закончилось все стрельбой с убитыми и ранеными. Сотни манифестантов были задержаны (в том числе младший товарищ Войтылы по семинарии Анджей Дескур, с которым он позже сведет близкую дружбу)142.
Принимал ли Войтыла участие в этом? Едва ли. Он горел в тот момент другим: обжигающими строками Иоанна Креста, самоотречением брата Альберта, медитативными стихами, которые как раз начал публиковать «Голос Кармела».
А снаружи кипела совсем иная жизнь: с развешанных повсюду портретов взирали коммунистические вожди, внедрялись новые праздники с их парадами и красными флагами; певцы социализма, вроде Адама Важика, читали пламенные вирши.
Мало радостных слов нам оставило прошлое нашеОтдадимте ж устанастоящего радостным гудамЖаждет радость советская звуков как полная чашаДа пробьется на свет красотачто в забитых народах веками лежала под спудомИзвлекайте ж народываших пашен слова трудовыеваших песен слова хоровыемолодые словаодыразвернувшейся долгим о!Песни юношей в мореДа участвует в хоребодрой юности торжествоЕсть прекрасные звукиСколько зим они втайнепростояли в гортанижен под черной чадройВ море сброшены чадрыи не высохли руки!Лижет львом прирученнымвольным вольные рукивал впервые зеленыйпеной белой впервойНо тех звуков прекраснейзвук дыхания: ах!в час как счастья избытокпроступает в слезах… 143Войтыла впитывал эту новую действительность, чтобы потом включить ее в переработанный вариант пьесы об Адаме Хмелёвском. Но внешне оставался безучастен, больше увлеченный «берегами, тишиной напоенными». Поляки назвали бы это «внутренней эмиграцией». «Брата нашего Бога» Войтыла закончит в 1950 году и отнесет в «Тыгодник повшехны» – католическую газету, созданную под эгидой митрополита Сапеги его знакомыми по Унии Яном Пивоварчиком и Ежи Туровичем144. Но «Тыгодник», как и весь польский католицизм, будет переживать в тот момент не лучшие дни, придавленный коммунистическим прессом. Творение Войтылы с его кредо «Я выбрал высшую свободу» придется явно не ко двору и будет отложено на тридцать лет.
***Первого ноября 1946 года Сапега рукоположил Войтылу в священники (первого среди участников «Живого розария»). День всех святых в 1946 году оказался совмещен с Днем памяти жертв войны: через Краков на Раковицкое кладбище в тихой торжественности везли останки заключенных Аушвица. Впереди двигалась рота почетного караула со знаменем, освященным краковским архиепископом, потом шли выжившие узники концлагеря, которые несли урны с пеплом сожженных, а вокруг двигались польские «комсомольцы» с факелами. С ратуши на площади Главного рынка звучал трагический хорал «С дымом пожарищ» – память об истреблении галицийских поляков украинскими крестьянами во время восстания 1846 года, закончившего недолгую историю Краковской республики145.
Этот день, как и последующие, когда Войтыла будет служить мессы в вавельской крипте святого Леонарда, в дембницком храме святого Станислава Костки и в вадовицком соборе, превратился для него в одну сплошную заупокойную службу по тем, кто не дожил до конца оккупации: по отцу, по однокурсникам, по салезианцам и по школьным товарищам. Он будто прощался с прошлым, перелистывая очередную страницу своей жизни. Из родных на его первую мессу пришла лишь крестная, Мария Вядровская, старшая сестра матери, а из «Живого розария» – Мечислав Малиньский, представлявший Яна Тырановского, который умирал от чахотки и гангрены в госпитале. Пришли актеры Театра рапсодов, но не было ни Кыдрыньского, ни Остервы (последний скончается в мае 1947 года от рака). Зато присутствовал верный ксендз Фиглевич, которому выпало счастье стать руководителем бывшего ученика на его первой литургии. В Вадовицах новоявленного священника приветствовал с амвона его гимназический законоучитель ксендз Захер. Одиннадцатого ноября, в День независимости, Войтыла провел первое крещение – омыл в купели дочку Галины Круликевич.
Католический священник в те времена – не то же самое, что сейчас. Еще не прошел Второй Ватиканский собор, и ксендзы пока не привлекали народ к служению, а стояли к ним спиной и произносили молитвы на непонятной никому латыни. Духовенство выглядело особой кастой, имеющей привилегию на общение с Богом. Актриса Данута Михаловская вспоминала, что в ее глазах «ксендз был человеком, слепленным из другой глины. Нас, девушек, мучил вопрос, носят ли священники под сутаной штаны. Ведь это был некто из параллельного мира!»146 Вероятно, потому взрывник Лабусь и советовал Вотыле принять посвящение: неприспособленному к жизни человеку оставался, по его мнению, только один путь – в ксендзы.
Войтылу рукоположили в срочном порядке, куда раньше, чем его однокурсников по семинарии. За месяц он прошел «стаж» субдьякона и дьякона. Расчет был на скорейшую отправку его в Рим, чтобы успеть к началу осеннего семестра147. Марек Лясота, автор книги о слежке «чекистов» за Войтылой, предположил, что таким образом архиепископ выводил нескольких своих клириков из поля зрения спецслужб148. Возможно, так и было, но это не объясняет, почему для отправки в Рим архиепископ выбрал именно Войтылу и его сокурсника Станислава Старовейского (которого, между прочим, рукоположили уже после возвращения из Италии).
Войтыла был не лучшим учеником в своем потоке и вообще выражал желание уйти в кармелитский монастырь. Вдобавок во время торжественной встречи вернувшегося из Рима митрополита Войтыла опростоволосился, когда декламировал одну из проповедей ксендза-писателя Иеронима Кайсевича (1812–1873) о любви к родине и сбился, точно ребенок, забывший стихотворение149.
И все же архиепископ выбрал именно его. Откуда такая благожелательность? Чутье? Или Сапега запомнил этого парня еще по его приветственной речи в Вадовицах? Точных причин мы не знаем.
Война нанесла польскому костелу страшные раны. Из 10 500 священников погибло более 2000, в их числе пять епископов150. Коммунистическая власть тоже, мягко выражаясь, не питала симпатий к церкви: уже в сентябре 1945 года она разорвала конкордат с Ватиканом. Клир пока не трогали, но печальная участь католического духовенства на кресах показывала, что церемониться с ним марксисты не будут. Надо было срочно восполнить убыль в ксендзах, а восполнять было некем. Выпуск Войтылы насчитывал всего десять человек151. Будущее рисовалось в мрачных тонах. Митрополит, видимо, спешил отправить на учебу в Рим хотя бы двух самых старших семинаристов, пока Польша совсем не закрыла границы.
«Время убегает, вечность ожидает», – эту надпись на стене вадовицкого собора маленький Кароль видел всякий раз, выглядывая в окно квартиры152. Время пришло – и он узрел Вечный город, чтобы начать свой поход в вечность.
Европа
Любой испытывает волнение, первый раз выезжая за границу. Что уж говорить о 26-летнем Войтыле, который до того вообще не бывал дальше Кракова и Бескидских гор! Со своим товарищем, 24-летним Станиславом Старовейским, он сначала добрался до Катовиц, а оттуда крюком через Париж выехал на поезде в Рим.
Итальянская столица в то время являлась средоточием польских военных, еще недавно сражавшихся под командой Владислава Андерса в составе войск союзников. Это были люди, имевшие за плечами печальный опыт советского плена и ссылки, а потому не питавшие любви к коммунистам. Одним из этих военных был Ежи Клюгер, с которым Войтыла разминулся самую малость – школьный товарищ как раз выехал в Турин, чтобы поступить в политехнический институт. Здесь же, в Риме, с официальным визитом к понтифику находился в тот момент и примас Хлёнд. Пока он вел переговоры с ярым ненавистником коммунизма Пием XII, верный последователь Сталина Болеслав Берут, возглавлявший временный парламент Польши, дал интервью, где обвинил Ватикан в симпатиях к немцам, а церковь – во вмешательстве в дела государства. Приближались выборы в Сейм, которые должны были определить, кому править страной – коммунистам или их противникам, сплотившимся вокруг Польской крестьянской партии Миколайчика. Симпатии епископата к Миколайчику ни для кого не были секретом.
Хлёнд, возможно, не являл собой образец храбрости, но в личном общении оказался человеком доступным и простым. Войтылу он совершенно очаровал своей доброжелательностью и отсутствием всякой надменности153. Среди тяжких забот примас нашел возможность устроить обоих клириков на жительство в Бельгийскую папскую коллегию, недалеко от старого дворца римских первосвященников и королей, а главное – рядом с церковью святого Андрея, где покоятся мощи Станислава Костки, небесного покровителя министрантов. Когда-то в другом костеле Станислава Костки, на Дембниках, Войтыла познакомился с Тырановским и примкнул к «Живому розарию». Теперь же он мог прикоснуться к останкам этого удивительного юноши, который прожил всего восемнадцать лет, но успел совершить духовный подвиг.
Выбор примаса пал на это место, конечно, не случайно: рядом находился теологический факультет атенеума154 святого Фомы Аквинского, в просторечии – Ангеликума, где предстояло учиться обоим гостям. Вообще-то обычно поляков направляли в Григорианум, к иезуитам, но Сапега предпочел Атенеум, возможно чтобы укрыть своих семинаристов от доносчиков – таковых наверняка было немало среди учащихся из стран советского блока. Поселили обоих клириков тоже не там, где обычно жили приезжие с берегов Вислы: вместо Польской коллегии или Польского церковного папского института их разместили поближе к Атенеуму, у бельгийцев.
На юго-запад от Ангеликума, если пройти между форумом Траяна и Пантеоном, возвышается польский костел святого Станислава Щепановского – там служил тогда главный капеллан вооруженных сил Польши за границей Юзеф Гавлина. Его юрисдикции подлежали все прибывающие из Польши духовные особы. Костел святого Станислава являлся осью, вокруг которой вращалась жизнь польских солдат в Риме155. Но Войтыла и его товарищ заходили туда нечасто, поглощенные иными заботами156. Может, и к лучшему: как раз в это время польские власти лишили гражданства семьдесят пять офицеров зарубежной армии, в том числе покорителя Монте-Кассино Владислава Андерса, руководителя варшавского восстания Тадеуша Бура-Коморовского, героя боев в Арденнах Станислава Мачека и одного из командиров североафриканской кампании Станислава Копаньского. Иметь дело с неприкасаемыми было чревато. Осторожность, правда, не помогла: в 1952 году Старовейскому, вновь выехавшему за рубеж, все же запретили возвращаться в Польшу – быть может, в наказание его тетке, известной католической активистке. Оставшуюся часть жизни он провел в Бразилии.
Из более чем двадцати человек, проживавших в Бельгийской коллегии, больше всего было, естественно, бельгийцев, на втором месте шли американцы157. Английским на тот момент Войтыла не владел, потому вряд ли мог вести оживленные дискуссии с приезжими из Нового Света. Зато французский его был на высоте, и он наверняка услыхал немало интересного о том, что будоражило умы католиков Западной Европы: о «новой теологии», о движении священников-рабочих, о секуляризации и т. д. Французский, несомненно, понадобился ему и для общения с научным руководителем, выдающимся доминиканским богословом Режиналем Гарригу-Лагранжем. А диссертацию, которую он должен был защитить в конце обучения (все о том же Хуане де ла Крусе), польский гость писал по-латыни.
Поразительно! Человек без высшего образования, последние годы трудившийся в каменоломне, объяснялся с иностранцами на их языках и читал в оригинале труды испанских мистиков. Кто мог предвидеть такое еще семь лет назад, когда студент-первокурсник брал уроки у Ядвиги Левай? Знаки, знаки! У Господа ничего не бывает случайно.
Между тем задача перед ним стояла невероятно сложная. До сих пор его единственным достижением в богословии было эссе на тему взглядов Иоанна Креста, о котором семинарский рецензент отозвался неблагосклонно: «Анализ текстов недостаточен. Кроме того, некоторые из них совершенно не подходят для доказательства поставленного тезиса»158. И это в Кракове! Чего же ожидать от такой глыбы, как Гарригу-Лагранж?
Ангеликум пестовал в своих стенах защитников схоластики от нападок прогрессистов. «Новая теология», которая спустя пятнадцать лет превратится в магистральное направление католической мысли, тогда лишь торила себе путь, выдерживая натиск последователей неотомизма во главе с римским папой. Суть «новой теологии» сводилась к поиску согласия между богословием и достижениями науки, а также к открытости церковной доктрины современным философским течениям. Учитывать индивидуальный опыт веры, а не только сверять каждый свой шаг со Священным преданием, говорить на понятном всем языке – вот к чему призывали апологеты новой теологии (имелся в виду отказ от сложных схоластических формул, а не от латыни). По убеждению ортодоксов подобные взгляды разрушали веру в абсолютную и непреходящую значимость слова Божьего, а также расшатывали авторитет отцов церкви. Труды прогрессистов (Мари-Доминика Шеню, Амбруаза Гордея, Анри де Любака и других) периодически оказывались в списке запрещенных Ватиканом книг, а в 1950 году Пий XII особой энцикликой осудил вообще все «новые тенденции» в богословии.





