 полная версия
полная версияВсенародная Книга Памяти Светлогорского городского округа
А с шестнадцати лет доверили Анне лошадь, так на этой лошадке и работала, по осени возила зерно в район. Мешки больше своего веса таскала на своих хрупких плечиках девушка. «Было очень тяжело, – делится воспоминаниями Анна Михайловна. – За любую работу бралась, шла туда, куда направят, делала то, что поручат: и на заготовку торфа посылали, и в лес дрова пилить. Старалась работу на совесть выполнить, чтобы заработать побольше трудодней – надо было кормить большую семью. Нас у матери было четверо, в самом начале войны на фронт призвали отца, потом и брата забрали. Отец с войны не вернулся».
Война закончилась, а жить легче не стало, по-прежнему тяжелый крестьянский труд лежал на плечах женщин и детей, а продуктов за трудодни давали все меньше. В начале пятидесятых в деревню приехали вербовщики, они рассказали, как хорошо жить в новой Калининградской области, на каждого иждивенца обещали хорошие подъемные, вот в 1951 году 3 марта семья и перебралась в Калининградскую область. Поселились в колхозе им. Крупской в Зеленоградском районе в немецком бараке. Работали в колхозе.
Позднее Анна Михайловна переехала в Светлогорск, много лет работала в местной автоколонне кассиром. Вырастила трех дочерей.
Анастасия Зуйкова
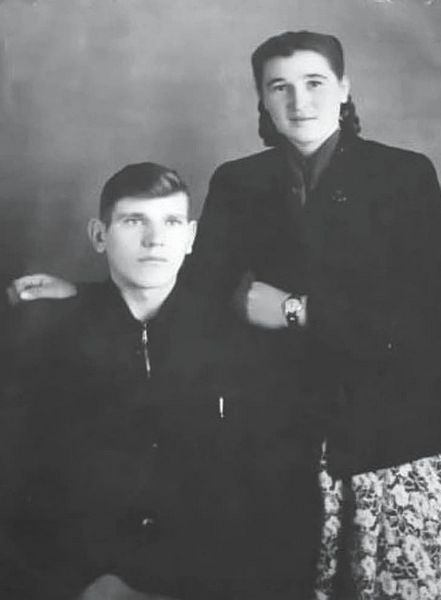
Анастасия Васильевна Зуйкова хранит воспоминания о послевоенной жизни: в Калининградскую область она приехала 17-летней девчонкой вместе с родителями в 1948 году. А родилась Настя, теперь труженик тыла Анастасия Васильевна, в Орловской области, в древнерусском городе Новосиль. Город был захвачен врагом в начале войны, осенью 1941, и два года оставался прифронтовым. «Когда началась война, мне было 10 лет. Конечно, и голодные были, и холодные, прятались по подвалам, ведь мой родной город разрушили практически полностью», – рассказывает Анастасия Васильевна. Девушка Настя выучилась и сама стала педагогом, преподавала математику ребятам школы, ставшей первым организованным в Калининграде после войны учебным заведением и по сей день сохраняющим свой номер – гимназии № 1. Затем вышла замуж за моряка и переехала жить в Светлый. Сейчас живет в Светлогорске. Анастасия Васильевна награждена медалью «70 лет Калининградской области». Учительский талант и энергия Анастасии Васильевны передались внучке, которая стала кандидатом экономических наук, преподавателем КГТУ.
Е. ГовороваАнна Кирикович
Анна Александровна Кирикович, бывший несовершеннолетний узник фашистских концентрационных лагерей, родилась в Пинской (теперь это Брестская) области Белоруссии, в деревне Дубновичи. На начало войны ей было от роду всего шесть «с хвостиком» месяцев.

– Возвращаясь к теме войны, мама нередко вспоминала те или иные эпизоды военного периода, – рассказывает Анна Александровна. – Вот один из таких фрагментов.
…Как-то партизаны взорвали крупный железнодорожный мост между Дубновичами и областным центром – Пинском. Партизан обнаружить немцам не удалось. И тогда они отыгрались на мирных жителях. Всю нашу деревню сожгли дотла. Жителей, а они успели к тому времени покинуть деревню, немцы разыскали в лесу и согнали к местной церкви.
Все были уверены, все, их, мирных людей, просто расстреляют. Нет, не расстреляли. Погрузили в эшелоны и отправили в западную Германию.
Мне было два года всего. Но я помню, как тщательно нас мыли в госпитале. Как я сейчас понимаю, – это чтобы ни один микроб на территорию Германии не попал.
Запомнила я одну станцию. Очень хотелось пить. Мама вынесла меня из вагона и показала жестом гитлеровскому патрулю, мол, девочка хочет пить. Фашист грозно помахал пальцем: «Нихт, партизанен»… А какой из меня партизан в два-то года…
Поколесили мы по Германии: Магдебург, Ганновер, Франкфурт, Брауншвейг, Вольфенбюттель, Шупельштедт. Мама с отцом работали на бауэра – Германа Варскена – на сельскохозяйственных работах.
Отец вообще был мастер на все руки. Евреи научили его шить. Так что все мои девичьи одежки он шил сам. До войны научился «рвать» больные зубы: вся деревня к нему ходила, у него щипцы специальные были.
А улицы того немецкого городка я помню до сих пор, привези меня сейчас – точно бы все узнала.
…В 1960-м я окончила техникум, направили меня в Гродненскую область в один из банков. В это время в Полесске работала моя подруга, ей сразу дали комнату. Она меня этим и «сманила»: приезжай, у нас появилась новая единица бухгалтера, и тебе комнату дадут при госбанке. В общем, в 1963 году я приехала в Полесск, потом был Славск, а с 1970 года живу в Светлогорске.
Мария Ковалева
Ее университетами стала сама жизнь
Мария Николаевна Ковалева родилась в 1934 году в селе Шартыкей, что на юге Бурятии. Село раскинулось на левом берегу реки Джиды, и именно эта водная артерия связана у Марии Николаевны с воспоминаниями о войне.

Ее отец был призван в ряды Красной Армии, но в европейскую часть России не попал – на Дальнем Востоке в то время находилась мощная группировка. Японцы дважды были готовы напасть на СССР – в декабре 1941 года, когда судьба нашей страны решалась в сражении под Москвой, и спустя несколько месяцев во время весенне-летней наступательной кампании гитлеровцев.
Дома с мамой остались восемь ребятишек: четыре сына и четыре дочери. Восьмилетняя Мария помогала взрослым наравне со всеми. Ее определили в бригаду по заготовке леса. Шустрая девочка помогала поварихам на подсобных работах: картошку начистить на всю бригаду, мелкий хворост на костер насобирать, отнести-принести что-то посильное.
– Жили очень голодно, – вспоминает Мария Николаевна. – Мама отправляла нас, детей, в поле собирать колоски уже после того, как был убран урожай. Доставалось немного, охотников за колосками хватало. Пшеница потом перетиралась, и из нее варилось нечто, напоминающее затируху. Бывало, и лепешки готовили из этой смеси. Чувство постоянного голода сохранилось надолго.
Поварихам Мария помогала до тех пор, пока не подросла. А потом таким девчонкам, как она, выдали тяжелые багры, чтобы подталкивать громадные бревна, которые сплавляли по реке. Главное – не допустить затора, что считалось чрезвычайным происшествием.
– Мама всегда хотела учиться, – вступает в разговор дочь М. Ковалевой Татьяна. – Но это было не так просто. До школы – больше трех километров, а обувь у мамы была одна на двоих с братом. Бывало, если он учится в первую смену и заиграется с мальчишками, то маме приходилось пропускать уроки.
Домашние задания с осени до середины весны делали при свете коптилки – электричества в Шартыкее не было. Бабушка наматывала какую-то ветошь на лучину, чем-то поливала, и тусклый свет позволял писать в тетрадках или читать учебники.
– Несмотря на трудности, маме удалось закончить семилетку, – продолжает Татьяна. – А вот дальше продолжить учебу не довелось: нужно было помогать родителям поднимать младших. Дедушка вернулся с войны с Японией раненым и контуженным. Умер он в 1964 году, в последние месяцы не вставал с постели.
Мама работала в колхозе, насколько я помню, дояркой. Она мечтала учиться, но ее университетами стала сама жизнь. Из Бурятии она давно уехала. Сейчас живем в Светлогорске.
Нина Ковалева:
«Война была далеко, но мы чувствовали ее дыхание»
Нина Григорьевна родилась в селе Медвежка, что в двух километрах от райцентра Булаево, в Северо-Казахстанской области 10 мая 1926 года. Годом позже родился брат. Они так и росли вместе, поддерживая друг друга.
Когда началась Великая Отечественная война, их отец, Григорий Кондратьевич, как и многие мужчины из села, был призван в действующую армию, а весь тяжелый крестьянский труд лег на плечи подростков.

– Наш совхоз «Чистовский» специализировался на выращивании зерновых культур, – возвращается в прошлое Нина Григорьевна. – Климат позволял это делать – весна и лето были сухими и жаркими, но и зима длилась около 5 месяцев в году.
Когда в середине 50-х годов началось освоение целинных земель, от станции Булаево построили узкоколейку, чтобы можно было возить хлеб. Но в годы войны этого ничего не было. Возить зерно приходилось на телегах.
Хорошо еще, что у нас в совхозе оставили несколько тракторов, которые вспахивали поля, но все остальное делали вручную. Сколько себя помню – помогали взрослым, а в войну, как мне сейчас кажется, мы и вовсе поля не покидали – пололи особо тщательно, чтобы урожай был больший.
Что еще запомнилось? Выдавали нам казенные мешки, куда мы собирали колосья, сносили на специальную площадку, сушили его, потом приступали к молотьбе.
Особо тяжело приходилось в жаркую погоду, спрятаться от палящего солнца было негде. Силенок было маловато, а тяжелые мешки нужно было носить в пакгауз, на второй этаж и чердак, где воздух был раскаленный, как на сковороде.
Война продолжалась, а потому нас, девчонок, призывали на месячные курсы в Петропавловск, но к тому времени Красная Армия уже освобождала Европу, так что нас на фронт так и не отправили.
Отец вернулся с фронта израненный, больной, долго восстанавливался. Но все же стало как-то полегче. А потому я решила осуществить давнюю мечту – стать учителем.
Поступила в педучилище, получила специальность учителя начальных классов.
Вышла замуж, родился сын. А моя подруга уехала в Калининградскую область.
Все время меня звала – приезжай, Светлогорск зеленый и красивый город, климат замечательный.
Своей педагогической специальности не изменила – работала в детском санатории в Отрадном, учила деток, которые находились на излечении.
Мой муж оказался долгожителем – прожил 94 года.
В нынешнем году и мне исполнится столько же. Даже не верится, что столько уже времени прошло с того июньского утра 1941 года. В следующем году уже 80 лет будет с начала войны.
Живу я, как и все пенсионеры, дети, внуки помогают. А еще я радуюсь каждому дню – жить прекрасно…
Ю. МоскаленкоНина Козлова
Когда окопы копали, нам обещали «Вас не забудут»!
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Велижский район в Смоленской области стал ареной ожесточенных боев. С самого начала войны все свободные от производства жители города и ближайших деревень были мобилизованы на строительство противотанковых рвов, траншей, дзотов и землянок. Пятнадцатилетняя Нина Козлова жила в деревне Горки неподалеку от районного центра города Велиж. «Копала окопы, траншеи, – вспоминает Нина Николаевна, – руки были все в кровавых мозолях».

Фронт приближался стремительно, советские войска отступали, уже в середине июля Велиж бомбили фашистские самолеты, а еще через несколько дней немецкие танки вошли в город. Начались годы оккупации. «Кругом были немцы, – продолжает рассказ Нина Козлова, – а у нас в деревне Горки свои красноармейцы. Оказалось, дивизия попала в окружение, они не сдались, а ушли в лес, на болота и там было еще много мужчин, которые не успели уйти на войну». Мобилизация с первые месяцы войны проводилась в спешке. Работники военкоматов, не успевали оформить и отправить всех мужчин, которые подлежали призыву. «Моя старшая сестра дважды с мужем приезжали в военкомат, но его не успели забрать, а потом приехали еще раз, а там уже замки висят и немцы ходят, – рассказывает Нина Козлова.
Все, кто не успел влиться в ряды Красной Армии ушли в леса, стали партизанить, именно их силами в условиях оккупации и беспрерывных боев осуществлялась эвакуация мирных жителей из Смоленской области. Спасали прежде всего детей. «Немцы засыпали листовками, что никуда не уезжайте, мы вас в Германию повезем, обещали райскую жизнь, – вспоминает женщина, – встанешь утром, вся земля усеяна листовками, обещали сильно много».
Два вагона с мальчиками и девочками были вывезены из оккупированного Велижского района в Киров. Среди эвакуированных детей оказалась и юная Нина. Жить было негде, расселять ребят почему-то не стали, так и жили они в теплушках на вокзальном тупике. Топились печкой, ели что придется, ходили на работу, куда пошлют. Зимой чистили на аэродроме от снега взлетную полосу, снег складывали на сани и отвозили подальше, там разгружали. Одежды теплой не было, обносились так, что страшно было смотреть. «Если мою одежду сейчас одеть на огородное пугало, ни одна ворона не сядет» – смеется Нина Козлова.
Домой Нина вернулась в конце войны, то что она увидела в родной деревне повергло молодую девушку в шок: от родного дома осталась одна печь, жить было негде. Старшая сестра с семьей уехала в другую деревню, некоторое время девушка жила у нее.
У меня была подруга, – вспоминает Нина Николаевна, – у нее в Полесске в воинской части работала сестра. Писала ей, звала, говорила, что тут хорошо, тепло, работа есть, подруге одной ехать было страшно, вот она меня и подговорила в Полесск отправиться, и мы с ней пошли в Калининградскую область пешком, через всю страну, ехать было не на чем».
1800 километров прошли пешком две молодые девушки, в Полесск добрались к февралю 1946 года, с этого момента и началась жизнь Нины Николаевны на калининградской земле, много всего пришлось пережить ей. На работу устроилась в воинскую часть, на кухне кормила солдат, которые работали на пекарне и на складах, они не могли ходить в полковую столовую, хлеб в печку поставят и не могут отойти. Девушка готовила и приносила солдатам еду, впервые за много лет люди ели без нормы, и рыбы было вдоволь, и хлеб был. Полесск был сильно разбит, поэтому долгое время Нина Николаевна ютилась в развалинах, спала на полу. А в 1949 году Нина Николаевна вышла замуж и переехала в Светлогорск. Здесь родился сын, затем дочь, здесь и прошла вся ее жизнь.
Н. ШтернНиколай Колесников
Война. Какое страшное значение несет в себе это слово, сколько жизней забрала, сколько судеб перемолола, сколько счастья и радости отняла у тех, кому посчастливилось вернуться живыми. С каждого война собрала свою жестокую дань, отняла самое дорогое – у кого жизнь, у кого здоровье, у кого любимых.

Юного Колю Колесникова Родина призвала под свои знамена в 1942 году, впереди было много жестоких боев за жизнь и свободу страны. В военкомате города Токмак, что в Киргизской ССР, таких мальчишек, готовых сражаться за Родину до последней капли крови, было много. Сначала всех направляли в Ташкент учиться военному делу. Николай попал на ускоренные курсы миномётчиков, после обучения была сформирована батарея. Мальчишек погрузили в теплушку и отправили на передовую. Летом 1942 года советские войска защищали Сталинград, шли тяжелые бои. Вновь сформированные воинские подразделения, включая батарею минометчиков, где служил Николай Колесников, вошли в состав 62-й армии генерала Чуйкова. Необстрелянные мальчишки практически сразу пошли в бой, приходилось туго, совершали большие марш-броски, форсировали Волгу. В ноябре 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
«Отец рассказывал, что освобождал Нижнюю и Верхнюю Ельшанку, село Бекетовку, – рассказывает Татьяна Николаевна, дочь ветерана. – В одном из боёв рядом взорвалась мина». Юному минометчику выбило глаз, он получил тяжелую контузию, множество проникающих ранений. С поля боя раненого Николая направили в прифронтовой госпиталь. Лечиться пришлось долго, долечивался в госпитале в Ташкенте. После тяжелой контузии Николай ничего не помнил, долго не разговаривал, поэтому родные ничего не знали о его судьбе, стали разыскивать и нашли его уже в госпитале в Ташкенте, забрали долечиваться в Токмак. В больнице Коля встретил свою судьбу – будущая жена работала медсестрой. Так и нашли друг друга. Больше шестидесяти лет прожили в любви и согласии, воспитали двух дочерей.
Всего несколько месяцев провел на передовой юный минометчик Николай Колесников, но война не отпускает ветерана всю жизнь.
Клара Коурова:
«У нас корова была, благодаря ей и выжили»
Клара Васильевна Коурова родилась в Удмуртской Республике в деревне Стеньгурт. Семья была большая, крестьянская отец, мать, шестеро детей. Отец был работящий, семья, можно сказать, была зажиточной. Беда грянула в 1937 году по чьему-то недосмотру зерно, которое сушилось на элеваторе, сопрело и сгнило, отца Клары Васильевне обвинили в умышленной порче колхозного имущества. По совету друга он не стал дожидаться ареста, собрал вещи и уехал в Свердловскую область, там устроился работать на завод. Семья осталась в родной деревне. Из колхоза мать выгнали, землю отобрали, не оставили даже клочка земли картошку посадить, вспоминает Клара Васильевна. «У крыльца стоял столб, как граница, дальше этого столба мы не имели права заходить, – рассказывает женщина.

К началу войны, старшие сестры и братья подросли, на руках у матери остались младшие: восьмилетняя Клара и ее брат. Мама устроилась в школу уборщицей, дочка охотно помогала убирать классы. Эта работы была очень нужна, ведь в школе давали талоны на муку, а еще в хозяйстве была корова, благодаря ей мы живы остались, а без нее все бы умерли, уверена Клара Васильевна.
Война перевела размеренную жизнь в деревне на военные рельсы, один за другим ушли на фронт мужчины, для нужд фронта забрали всех лошадей. Женщины пахали тяжелую землю, сами впрягаясь в плуги, нашлась работа и для детей. «Делали что могли, – рассказывает Клара Коурова, – я пастухом была, полола грядки, сено собирала, работу тяжелую выполняли женщины. Они пахали на себе, боронили, а земля была тяжелая, большими комками, а нам давали такие колотушки, мы шли следом за ними и разбивали эти комья земли. Так вот мы и работали, «Все для фронта, все для Победы». Никто не мог сказать, что он не хочет, заболел или что-то еще».
Учебный год у школьников военных лет начинался с 1 октября или даже ноября, как закончится уборка урожая. Но дети все равно учились, несмотря ни на что. «Уроки делали при лучине, а когда не было даже лучины, старались сделать уроки засветло, – вспоминает Клара Васильевна. – Классы в школе были парные, первый с третьим, второй с четвертым, учительница была одна.» В 1945 году Клара Васильевна закончила семилетку с отличием. Закончилась война, в деревню стали возвращаться мужчину, их было всего пять человек, вспоминает Клара Васильевна, двое без одной ноги, третий контуженный, мужчин катастрофически не хватало, тогда председатель колхоза разрешил вернуться отцу, который всю войну трудился на военном заводе.
Десятилетку Клара Васильевна Коурова с отличием окончила в 1950 году, в том же году поступила в Ижевский государственный медицинский институт, старалась учиться хорошо, ведь за отличную учебу платили стипендию, а родители-колхозники были далеко и особо помогать не могли, приходилось полагаться на собственные силы. Через 6 лет окончила учебу и по распределению попала в Пермскую область, в районную больницу и не кем-нибудь, а сразу главным врачом. «Я была и хирургом, и врачом гинекологом, и терапевтом, и неврологом. Ничего не было ни электрокардиографа, ни лаборатории, работали, как говорили тогда, «ГУПом» (голова, уши, пальцы). Через несколько лет вышла замуж, вместе с мужем переехали жить на Украину.
Затем по приглашению приехала работать в Военный санаторий в Светлогорске. Работала врачом в Военном санатории, в «Янтарном береге» на пенсию вышла в 70 лет.
Н. ШтернРената Кочуро
Рената Францевна Кочуро, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей.
Сколько дней и ночей провела в оккупированном Витебске четырехлетняя Рената? Сегодня она не может об этом точно сказать. Такие малыши недостаточно точно разбираются во времени. Но один день врезался в память девочки, как осколок снаряда.

Рената Францевна вспоминает:
– С раннего утра фашисты с полицаями стали гнать людей на железнодорожный вокзал, мы были просто в необъяснимом шоке, нужно брать вещи, куда нас везут? В вагоны нас загоняли как скот, под ругань фашистов и полицаев нас старались загнать в вагоны отдельно от взрослых. Дети цеплялись за подолы платьев матерей, но гитлеровцы безжалостно отрывали малышей. Крик, плач, ощущение вселенского ужаса.
Почему убийцы поступили именно так, выяснилось уже на следующей железнодорожной станции. Взрослых вывели из вагонов. Вначале они решили, что фашисты одумались и решили вернуть их в родной Витебск. Их построили в колонну, подвели к какому-то рву на заднем дворе станции и … расстреляли. А нас повезли в Германию.
Когда нас привели на территорию лагеря, который находился в городе Гривений недалеко от города Циттау (Германия), то мы увидели: по усыпанным щебнем дорожкам куда-то торопились одетые в серые робы люди. Вокруг двора в три ряда симметрично расположились низкие бараки.
На территории лагеря нас поразило невиданное зрелище. Здесь вертелась живая карусель из заключенных. Узники с носилками бегом передвигались по большому кругу и безо всякой надобности на носилках переносили грунт с одного места на другое. Гестаповец следил презрительным взглядом за этим бессмысленным занятием и время от времени покрикивал: «Шнель, шнель». И люди бежали. Потные, худые, измученные.
Вокруг колючей проволоки были установлены наблюдательные вышки, на которых зловеще поблескивали стволы пулеметов и немецкие каски. В центре стояла высокая наблюдательная вышка, с которой весь лагерь был виден, как на ладони. На ней тоже стоял охранник с пулеметом. Нас провели на площадь перед зданием комендатуры лагеря. Там стояло несколько столов, за ними сидели гестаповцы, которые проводили регистрацию прибывших. Громко крича и ругаясь, гестаповцы выстраивали в очередь людей, столпившихся перед зданием комендатуры. Началась регистрация прибывших.
От каждого требовали паспорт. Наши личные вещи и продукты, привезенные в машинах, были сгружены в одну большую кучу. Тех, кто прошел регистрацию, отправляли забирать свои вещи из этой кучи. Столпилась масса людей, каждый искал свои вещи, а они оказались разбросанными. Найти свои вещи не было возможности. Договорились, что будем забирать вещи, а там разберемся.
Нас привели в один из бараков. Поскольку в бараке должна была производиться дезинфекция всей одежды, то было приказано продукты и табак сдать. Лучшие продукты попали на кухню коменданта и охраны. Приказали раздеться всем догола, разложить свои вещи по нарам и пройти санобработку. Вскоре появились парикмахеры с машинками и ножницами. У девушек обрезали косы, мужчин подстригали под «кочан» и брили усы.
После санобработки всех вместе – детей, мужчин и женщин – голыми, без одежды, погнали в баню. Баня была малопропускная, а нас было несколько сотен человек. За несколько часов все должны были пройти через баню.
…Рената с самого детства видела лишь страдание, болезнь и смерть. На ее хрупкие детские плечи легло тяжелое рабское бремя. Можно было только представить, какой ужас перенес ребенок, даже взрослые не могли пройти через муки ада концлагерей.
Этот концлагерь, в котором она содержалась, назывался женским. В начале марта сюда пригнали и мужчин. По дороге немцы расстреливали тех, кто падал и не мог идти. Когда привели в лагерь, часть отобрали, а остальных погнали дальше.
Поселили в каменном здании, где раньше были немцы. Женщины были огорожены колючей проволокой. А мужчины сидели и спали прямо на цементном полу. 10 апреля 1945 года, чтобы не тратить патроны, их поставили между двух зданий на большом сквозняке и держал часа четыре. Многие теряли сознание и падали.
Пробыли узники в этом лагере до 8 мая. А утром 8 мая в лагерь въехали наши танкисты. Увидев своих соотечественников, солдаты и офицеры, прошедшие с боями половину Европы, не скрывали слез. Потом танкисты сказали: «Кто может сам идти, тот пусть идет в Циттау, в госпиталь…».
А еще воины-освободители не могли понять, почему малолетние узники не плачут от радости. А они выплакали все слезы от мучений.
27 августа 1945 года восьмилетняя Рената вернулась в город Витебск. На этой страшной войне погибли все ее родные и близкие, дом, в котором жила их семья, был разрушен. Ренату, как сироту, поместили в детский дом.

