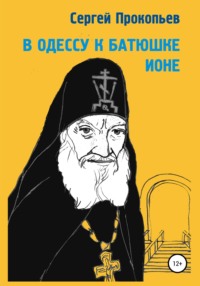полная версия
полная версияНа фронт с именем отца
Галка после этого к маме Лиде не захотела идти. Как ни звала ещё слив поесть, побежала домой…
Я прихожу, крёстная спрашивает: «Отогнала?» – «Ага», – вру. «Нехай они ряску покушают». «Нехай», – соглашаюсь. Крёстная спрашивает: «Давай, дося, картошку тебе спеку?» Ох, какая у неё была картошка объеденье. И всё казалось мне у крёстной вкусным. И картошку её любила, и вареники… Сейчас понимаю, крёстная маслица побольше для меня положит, сметанки не пожалеет, сахарком посыплет те же вареники… Как я ни проголодалась, воюя с утятками, как ни хотелось поесть мамы Лидиной картошки, отказалась: «Не, мама Лида, побегу уже к бабушке».
Боялась – пока ем, свечереет, крёстная пошлёт обратно утяток гнать, а кого я пригоню, если они все лежат на травке, прутиком пересчитанные. Поэтому я ноги в зубы и через луг к бабушке. Прибегаю. Бабушка: «Где была?» – «А у мамы Лиды». – «Шо ты там робыла?» – «Сливы ела». – «А ещё шо?» Бабушка чувствует: темнит внучка. Спрашивает: «Шкоду робыла?» Я в слёзы: «Бабушка, знаешь, шо я сделала. Там были такие противные утятки. Мама Лида заставила угнать их на речку. А я их прутиком чуть-чуть ударила, они все умерли». «Ах, ты бисова зилля! – бабушка всплеснула руками. – Ах, ты бисова насиння! Не можешь без шкоды! Ты же их поубывала! Убийца ты, Надька!»
Поругала, я, как полагается, поплакала и успокоилась. Летом день большой, я уже забыла про тех утяток, играю себе, тем временем крёстная пошла птицу домой гнать. Она-то думает, утятки поели ряски, пора им что-то существенное давать из пропитания. И обнаружила, что им уже ничего не надо. Крёстная собрала в подол весь павший от моего прутика выводок и к нам. Показывает бабушке: «Мария Фёдоровна, вот, что ваша внучка зробыла». – «Знаю, Лидочка. Это бисово зилля мне казала. Ладно, Лида, я посажу курочку на утиные яйца, выведу и дам тебе утяток с курочкой вместе. С курочкой сохранней будет. Такое бисово насиння у нас растёт». – «Ты уж, Марья Фёдоровна, сильно не ругай Надю», – крёстная за меня заступилась.
Посадила бабушка курочку на утиные яйца, та вывела шестнадцать утяток. Бабушка взяла корзиночку, дедушка сплёл, он красивые корзиночки плёл. И на продажу, бывало, плёл, и себе. Посадила туда курочку и утяточек, тряпицей сверху накрыла, суровой ниточкой зашила, чтоб я не растеряла по дороге. «Надечка, ты смотри, внученька, отнеси маме крёстной. Ты же убила её утяточек. Ей же надо отдать теперь». – «Бабушка, я больше не буду». – «Ты аккуратненько неси, не бегом». – «Не, бабушка, я тихонечко».
Кажется, я хорошо пошла. И хорошо бежала. Ходить шагом не умела. Всё бегом. За что уж запнулась… Корзинка вперёд меня полетела, и об землю… Покатилась. Господи, мама родная. Курочка кричит под тряпицей, утята пищат. Поднялась я, отряхнулась, взяла в руки корзиночку, побежала дальше. Крёстной говорю: «Мама Лида, бабушка тебе утяточек прислала». Она снимает тряпицу, а в корзинке шесть утяток мёртвые. «Да как же ты их поубывала?» – «Я, мама Лида, упала».
Больше она нам с Галкой не поручала утяток гнать на речку.
Кроме Гали, у дяди Степана было ещё две дочери. В войну жили они в землянушке. Дом заняли немцы, дядя Степан оборудовал землянушку. Над селом у нас постоянно летали самолёты. И немецкие, и со звёздами на крыльях. Станцию не один раз бомбили. Налетят советские бомбардировщики, и только грохот стоит… В тот день дядя Стёпа вернулся домой, а на месте землянушки воронка. Снаряд угодил точно в неё. Вся семья до одного находилась там. Никого в живых не осталось. И Галю, мою подружку, и сёстрёнок её (одна была старше Гали – Маша, вторая годовалая Нина) поубивало…
Дядя Стёпа повернулся от воронки и пошёл назад в гестапо, к собакам. И говорит маме: «Вера, уходи! У тебя двое детей, уходи, я тебя выведу!» – «А вы?» – «Я останусь здесь». – «Они ведь вас и всю вашу семью уничтожат!» – «Моих, Вера, никого после снаряда не осталось!»
Дядя Стёпа знал, как немцев перехитрить, вывел маму. Снял с себя безрукавку меховую, дал маме, и она, полураздетая, полуголая, избитая, пошла. Дядя Степа подсказал ей идти в Ивановку, маленькую деревеньку. Немцы в ней не стояли. Места там лесистые, глухие, партизаны не один раз лупили в районе Ивановки фрицев. Поэтому те наездами появлялись. В Ивановке жила мамина двоюродная тётка. К ней мама пришла. В деревне остались одни женщины с детьми и уж совсем древние старики. Тётка маму одела во что-то, обутку нашла и выдавала за погорельца. Мама в Ивановке скрывалась, покуда немцев не погнали. Только после Курской дуги вернулась домой.
А дядю Степу повесили. Выпустив маму, он убежать не мог, знал, что немцы в отместку всю семью нашу уничтожат.
Застав у собак дядю Стёпу, немцы разъярились: «Ты выпустил?» – «Я»… Вырезали дяде Стёпе на спине звезду, мучили, а потом всё село согнали на казнь, чтоб стар и млад смотрели: вот партизан, и так будет со всеми, кто начнёт помогать коммунистам.
Почему-то мне босые ноги повешенного дяди Степы запомнились с широкими ступнями и сивые неживые волосы надо лбом, которые трепал ветер…
Вот такое натворила тётка Эмка.
Как ещё эта идиотка не догадалась, что тётя Ада еврейка. Если бы она это сказала немцам, нас бы всех прикончили. Бабушка говорила тётке Эмке, что Ада её троюродной сестры дочь. Тётка Эмка приняла это за чистую монету. Я уже старая, восьмой десяток идёт, думаю: нам ещё было всем жить, раз Бог лишил её разумения. Заподозри она что, пророни хоть слово, намекни… Тётя Ада, вроде как по болезни своей, сторонилась тётку Эмку. И та с опаской смотрела, старалась подальше держаться. Дедушка постоянно давал тёте Аде мазь тайком от тётки Эмки: «Адочка, ты мажь понемногу, чтоб короста была на лице, руках…»
А когда немцев погнали, тётка Эмка побежала за ними. Где она тыкалась, где скиталась по свету, Бог её знает. Мы её не разыскивали, она сто лет нам и не нужна была.
В 1956-м восьмого февраля я Толика родила… Лето в тот год жаркое стояло. Жили мы в Донецке. Папа уже поправился от тяжёлого ранения, работал в отделе технического контроля. В августе под вечер зной спал, я выхожу из дома… В своём доме жили, его дедушка после войны построил, из отца плохой помощник был… Толика грудью накормила, он надудонился и заснул, думаю: пока спит, нарву огурцов на засолку…
Только из веранды вышла, за спиной калитка стукнула, поворачиваюсь… И кипятком обдало… Тётка Эмка… Столько лет её не видела, постарела вся, усохла… Но я сразу узнала… «Ой, Надечка!» – сладким голосом запела. А во мне будто коршун взмыл в атаку… «Что вам надо?» – зашипела на неё. «Илью Ильича, – отвечает, – хочу увидеть, или Марию Фёдоровну, или Веру Ильиничну».
Женщина я была неробкого десятка. К тому времени на шахте два года отработала. Шахтёры ещё те мужики – зеки вчерашние, фронтовики, а боялись меня… И комплекцией в молодухах была нехуденькой… Широкой кости, при росте метр семьдесят два килограммов восемьдесят во мне. Как ринулась на непрошеную гостью, как схватила за плечи. Да и кого там хватать-то? Высохла тётка, сморщилась… Она мне безропотно так: «Надя, я пришла прощения просить. Простите, Христа ради».
А я кричу: «Убью, немецкая овчарка!»
Отец выскочил: «Надя, не надо! Надя, перестань!» Кого там «перестань»: «В милицию сейчас отведу!»
Одновременно и «убью», и «отведу». В таком состоянии какая там логика… Дедушка вышел, меня за руку схватил: «Перестань, Надя! Пускай идёт!.. Бог ей судья…»
А мама была в летней кухне, в глубине двора дедушка выстроил летнюю кухню, мама готовила ужин, услышала шум, вышла, и ноги у неё подкосились, два шага сделала и упала без сознания, отпаивали лекарствами, «скорую» вызывали…
Дочь тётки Эмки – Катя – после войны артисткой стала. Тёмная история, Катя в семнадцать лет в тридцать девятом родила. Нагуляла, но тётка Эмка утверждала родственникам, что это она сама родила, а не Катя. Хотя люди говорили: врёт, дочь покрывает. За неделю до войны Катя с ребёнком поехали в Астрахань к родственникам тётки Эмки. Там и жили до сорок пятого. Ребёнок умер в сорок шестом, дед Борис сгинул в концлагере, Катя погибла в начале пятидесятых. Она стала актрисой в Киеве, снималась в кино на киностудии Довженко. Женщина аристократической красоты. Есть старый-старый фильм, иногда показывают, в титрах – Екатерина Елисеева. Не главную роль исполняет, но и не короткий эпизод. Ей пророчили блестящее актёрское будущее. На киносъемках упала декорация, Катю одну убило.
Что стало с тёткой Эмкой – не знаю. Больше её не видела. Дедушку я не один раз укоряла: «Зачем мы на неё не заявили? Зачем?» Молодая была, хотелось кары судебной… Вспомню того эсэсовца, что маму, как скотину, плёткой по спине, и во мне всё переворачивается… Дедушка успокаивал: «Всё правильно, Надя, сделали, всё правильно…»
Самого вскоре, Царствие ему Небесное, парализовало. Сейчас уже всем Царствие Небесное: маме, бабушке, папе, тёте Аде… Да и тётке Эмке… Что уж теперь…
Интервью перед смертью
Ветеран, Иван Денисович Гавричков, умирающим никаким боком не выглядел. Сухонький, подвижный дедок. Глубоко сидящие глаза смотрели мудро и озорно. Ни за что не скажешь: жизни человеку отмерено всего три месяца.
– С вашего позволения закурю, – обратился к корреспонденту и достал из кармана клетчатой рубахи пачку «LM», – балачка без сигареты – время на ветер.
– Потерпел бы коптить гостя никотином! – заглянула жена, в её объёмы как раз два мужа войдут. – Когда только бросишь?
– Молчи, ребро адамово! – шутливо пристукнул по столу кулачком супруг. – Везде надо влезть! Вот женщины! Не зря говорят: дьявол семидырый!
Сидели они за столом в большой комнате.
– Зима у нас в Омске с сорок первого на сорок второй год лютовала. Я прямо в цехе спал. Один раз вот также устроился поближе к калориферу, вдруг среди ночи пинок в бок. Открываю глаза – Господи, воля твоя – сам Туполев надо мной. Главный конструктор. Это потом стал он многажды раз Герой Соцтруда, полный иконостас премий, но и тогда был мужчина в теле. Невысокого роста. Напустился на меня: «Зачем валяешься, как беспризорная собака?» «Дак, – говорю, – в бараке дубарина, аж голова к подушке примерзает!» «Что у вас за начальник цеха, – Туполев раскипятился, – рабочие у него хуже скотины спят! Ну-ка, быстро поднимайся – в его кабинете будешь ночевать!» Я и не подумал разбегаться. «Не пойду! – говорю. – Силком не заставите!» «Это почему?» – Туполев чуть не затопал ногами от наглости: работяга поперёк главного конструктора. «Да у него, – говорю, – кто поспит – не проснётся, холоднее, чем в собачьей будке. Сам никогда не сидит там». Туполев матюгнулся и ушёл. Мог крепкое словцо вставить. Рассказывали, на совещании как загнёт матом, а потом обернётся к стенографисткам: «Девчонки, это писать не надо». Зама Туполева по вооружению, Надашкевича, мы звали Козлиная борода. Смешную такую бородёнку носил. Точно как у козла козлевича. Тоже потом стал лауреатом премий. И Королёв у нас в цехе часто бывал… Небогатырского роста, крепыш. Сосредоточенный всю дорогу. Кто же знал, что на весь мир прогремит. Веришь-нет: я его сразу признал, как фотографии после смерти в газетах появились. Так это, говорю, наш Королев… Господи, воля твоя… Давным-давно умерли все… А я живу.
«Недолго осталось», – подумал Евгений Теребилов, корреспондент заводской многотиражки.
Как тут не станешь мистиком, Евгений заметил: стоит написать о ветеране, тут же некролог на героя вывешивают на проходной. Не так, чтобы совсем один в один попадание, однако смертельный процент получался подозрительно высокий. Первым на это обстоятельство главный редактор обратил внимание, как-то он зимой в мороз зашёл с улицы и сразу к батарее руки греть:
– Абрикосов твой умер, я как чувствовал – в прошлом номере дал очерк, откладывал два раза, тут, думаю: хватит. Тютелька в тютельку успели. Завтра похороны. В такой-то мороз. Прочитал или нет ли о себе дедок? Ты прямо как точки им с памятниками ставишь. Николаев тоже после твоего материала умер…
– Больше не давай дедов с бабушками, а то перехороню весь ветеранский корпус завода.
– Не дождёшься. Давай-ка к Дню Защитника напиши о Чеченеве, он всю войну прошёл.
Евгений оперативно написал очерк, главный редактор в праздничный номер поставил, а через неделю отдел кадров звонит, просит оперативно написать текст некролога на Чеченева.
В десять минут Евгений справился с заданием, после чего взял подшивку газеты за прошлый год. О восьми ветеранах писал, четверо умерло. Конечно, возраст у дедов не юношеский, тем не менее…
Главному редактору нравились очерки Евгения, хвалил его:
– Лучше тебя никто не сделает, умеешь из дедов выудить нужное. И пишешь не левой пяткой, с душой.
Директор завода поощрял ветеранскую тему в газете, поэтому главный редактор частенько мобилизовал ведущего корреспондента на рубрику «Планета людей».
Евгений не отбрыкивался, хотя инициативу не проявлял. Беседы со стариками опустошали. Во время разговора заводился, с неподдельным интересом слушал, не закруглял беседу, если чувствовал: материала с головой хватит, давал старикам всласть выговориться. После чего ходил разбитым. Старики вытягивали энергию. И писалось не на одном дыхании, тяжело. Плохо не мог, а хорошо требовало попотеть, отнимало много сил. Без острой нужды никогда не открывал дверь в заводской совет ветеранов. Там неистребимо пахло старостью. Раньше как-то не замечал… Лишь когда своя осень замаячила, за пятьдесят перевалило… А не хотелось осени…
…Главный редактор вызвал его в кабинет, протянул листочек с телефоном:
– Женя, дорогой, сгоняй к Гавричкову. Человек известный, заслуженный ветеран завода. Мы, конечно, писали о нём. Я посмотрел, семь лет назад, ещё до тебя, прошёл большой материал, но слабенький. Работала у нас одна свиристелка, строчила по схеме: родился, женился, победитель соцсоревнования… Гавричков всегда крепкий был старик. На последнем митинге на День Победы выступал, как развёл бодягу минут на пятнадцать… Вчера позвонила жена, рак у него обнаружен, последняя степень. Врачи дают максимум три месяца. Он ничего не знает. Жена слёзно просила, чтобы кто-то от нас пришёл, поговорил. Ему будет приятно… Человек он интересный, мы как-то вместе были в подшефной школе… Ты, конечно, осторожнее, вида не подавай…
– Нет, я с порога бахну: «Вам жить осталось на две пердинки».
Вместо измождённого болезнью человека увидел Евгений шутника и балагура.
«Неужели в нём на три месяца здоровья?» – исподволь разглядывал Гавричкова, настраивая диктофон.
В квартире стояла современная мебель. У Чеченева, о котором писал в номер к Дню Защитника Отечества, словно в середину шестидесятых годов прошлого века угодил. В свое детство. Комод. Сервант с посудой, круглый стол с точёными ножками. Показалось, даже кот Тишка оттуда. В родительском доме такой же белый пушистый разбойник и ворюга жил.
У Гавричковых ничего подобного – современная мебель, пластиковые окна, дорогие шторы, стильная люстра
В разговоре выяснилось: сын работает в Москве, хорошо помогает.
– У меня в цехе дружок был Витька Стеблин, – рассказывал Гавричков. – На фронт решил убежать. «Лучше, – говорит, – от пули умереть, чем с голоду сдохнуть». Еда у него из головы не выходила, постоянно на уме, не давала покоя. Конечно, голодно жили, особенно в первый год войны. Я старался не думать о жратве. Заработаюсь и забуду. У Витьки все мысли, все разговоры, где бы поесть достать. Удрал на вокзал, откуда на фронт отправляли. В вагон погрузили. Но тут секретарь парткома нашего завода примчался. Давай орать на военкоматовских: почему забираете у кого бронь? Военкоматовским тоже план надо выполнять, они по городу ловили парней, а Витька сам пришёл: берите меня. Не один такой с нашего завода был. В тот раз обдурили дезертиров трудового фронта, которые хотели поменять его на боевой. Секретарь парткома настоял, чтобы военкоматовские объявили во всеуслышание перед эшелоном: такие-то на выход, вам другим составом ехать. Эти простофили и клюнули на мякинку, вышли, Витька среди них. Его за шкварник и на завод – паши за станком, кто будет самолёты для фронта выпускать. Вот он крайний на снимке
В ожидании корреспондента Гавричков достал пару шикарных, горящих глянцем фотоальбома, внутри были сплошь архивные фото. У развёрнутого знамени (на котором во всё полотно изображён комсомольский значок со звездой посередине и крупной надписью «ВЛКСМ») стоит группа серьёзных парней, среди них Стеблин.
– Витька бригаду комсомольцев организовал, передовиками были всю войну. Орден Трудового Красного Знамени получил в сорок пятом.
«А хорошо или плохо, – подумал Евгений, – что дедок не ведает о смертельной болезни? Может, знай – как-то по-другому прожил бы оставшееся время? Простился с миром. Может, нельзя врать? Говорят: болезнь – Божья милость. А смерть?»
Заглянула жена ветерана:
– Чай будете?
– Подавай, – скомандовал дедок, а Евгению сказал: – В ноябре шестьдесят лет, как вместе. Нацепляла кучу болезней. И давление, и сахарный диабет. То в почках колики, то печень хренькает. Таблетки горстями ест.
Жена вошла с подносом, уставленном тарелками с колбасой, сыром, ломтиками сёмги…
– Тебе бутерброд с рыбой? – спросила мужа. – Сахару две ложечки?
Соорудила бутерброд, размешала сахар и подала чашку мужу.
– Как жена вас любит! – с восхищением сказал Евгений.
– Он перед полной тарелкой битый час просидит, – с доброй улыбкой сказала жена, – не встанет за ложкой: подать надо. Ночью пить захочет, сам не поднимется: принеси… Суп только свежий, разогретый не будет. Рубашку больше одного раза не наденет…
В том, как «жаловалась», как угождала за столом мужу, читалось: все шестьдесят лет с любовью потчевала супруга свежим супчиком, стирала ему рубашки, подавала ложку за столом, насыпала в чай сахар.
– Надо тебя менять! – подмигнул Евгению ветеран. – Без болячек возьму. Во втором подъезде Катька живёт, молодуха – всего шестьдесят четыре. Как ураган наскипидаренный носится, не то, что ты – тумба неповоротливая.
– Чё с ней делать будешь, жених сивый? – спросила «тумба».
– Как чё? В куклы играть!
Перебирая фотокарточки, ветеран наткнулся на фото шестидесятых годов. Подал Евгению. Демонстрация. Парнишка держит над головой большую пятиконечную звезду на древке, мужчина, две женщины в шляпках и пальто. Все улыбаются. Мужчина протянул, дурачась, руку к фотографу: ну, снимай быстрее.
– Господи, воля твоя! Судьба у Лёшки! – ткнул в мужчину пальцем Гавричков… – Шутник! В последние пять лет, как звонит, обязательно с подковыркой: «О, – скажет, – ты ещё живой, старый хрен! А я замахнулся табличку тебе гравировать. С крестиком или со звездой делать?» Всё повторял: «Ваня, ты первым должен на кладбище дорожку проторить. Без меня кто табличку тебе путную напишет?» Я, бывало, подыграю: «На кой она сдалась, памятник каменный дети поставят». «Нет, – возразит, – сначала крест, а через год памятник. Ты насчёт креста в бутылку не полезешь? – спросит. – Тогда на него и сделаю. Сам посуди, всю жизнь господин Гавричков с металлом работал, а ему табличку пластмассовую, как конторской крысе. Позор на весь завод». И поторопит: «Не тяни с похоронами, уже не те глаза у меня, руки пока не трясутся, но иди знай…» Я ему: «Лучше я у тебя на поминках фирменных блинчиков твоей Галки поем, компота вволю попью». Хороший был мужик. Воевал геройски. В сорок четвёртом в течение трёх месяцев два ордена Великой Отечественной войны получил. Танкист. Но в сорок пятом ордена не выручили: пленного в Берлине застрелил, Лёшку под трибунал и на зону. Спасло там – руки золотые имел. Освоил за колючкой ножи делать. Да не бабам картошку шинковать или рыбу потрошить. Произведения выставочного искусства. Министр какой едет на наш завод, директор Лёшку вызывает: «Сделай нож подарочный». Смастерит такой, не то что министру, президенту вручи – обрадуется. И рукоятка, и гравировка…
– Табличку на крест, – продолжал ветеран, – Лёшка бы сделал эксклюзивную… Получилось – он первым ушёл, да так, что не хоронил я друга. На охоте подстрелил Лёшка утку. Та в камыши на островок упала. Лёшка полез за ней. Собаки не было. Оказалась, майна – плавучий остров. Лёшка встал на край и ухнул с головой… Зять нырял-нырял, не достал. Привёз водолазов, не нашли. И только на следующий год всплыл. По ножу фирменному признали. Состояние тела такое, хоронить по-человечески невозможно. Можно сказать, закопали. Доставили из района и прямиком на кладбище, где могилу загодя приготовили… Ни тебе похоронной процессии, ни родственников у гроба, ни залпа ветерану войны…
– На кладбище у Лёшки разу не был, – закурил ветеран. – На будущий год обязательно съезжу, сговорюсь с Тамарой, дочерью его… Сам-то не знаю, где могилка. На родительский день бы поехать или на День Победы… Вот зиму переживём…
И посмотрел в глаза корреспонденту, тому показалось с вопросом: «Переживу ли?»
Гавричков рассказывал о послевоенных годах, как строили Ил-28, в день по самолёту, ракеты. Перебирал фотографии.
– Во, – оживился, перевернув страницу альбома, – Пригода. Заместителем главного технолога был у нас. С Туполевым приехал. Зеком. В Омске освободили. Мы с ним в пятидесятых сдружились. Тоже хлебнул… В тридцать восьмом году его забрали. Следователь замучил допросами: сознайся в шпионаже. Он ни в какую. Неделю мурыжат – не бьют, но спать не дают – вторую мучают. Взмолился: «Дайте отдохнуть». Следователь, молодой лейтенантик, выдвигает встречное предложение: «Сознайся в шпионаже и отдохнёшь». Пригода возьми и скажи: «Я передал немцам секретную информацию: величину давления в правом шасси бомбардировщика при левом вираже». Ух, следователь обрадовался: «Молодец, давно бы так! А то упирался упрямым козлом». Запротоколировал показания. «Шпион» подписал. Дня два его не таскали на допросы. Выспался. Потом вызывают. Лейтенантик, ни слова не говоря, как врежет по морде, как заорёт: «Я тебе покажу давление в правом шасси при левом вираже!» Лейтенантик рассчитывал за шпиона звёздочки на погоны отхватить, да начальство прочитало галиматью с давлением в шасси при левом вираже, и такой нагоняй устроило безграмотному следователю. Срок Пригода всё равно получил. Повезло, не в лагерь попал, Туполев забрал в шарашку… Эх, Господи, воля твоя…
Иван Денисович поднялся, походил по комнате:
– Смазка в суставах загустела.
Разминаясь, рассказал, как учудил сын Пригоды, он на заводе в военной приёмке работал. На Новый год пригласил полон дом гостей, гуляли громко, весело – пели, танцевали, наряжались в зверей и клоунов. В третьем часу ночи хозяин говорит: «Сейчас я вам фокус покажу!» Зашёл в спальню и застрелился.
– Что к чему, – сел в кресло ветеран, – никто не знает. Пригода после того быстро сдал, из одного инфаркта выбрался, а второй доконал его… А у меня за всю жизнь ни инсульта, ни инфаркта…
«Зато рак», – подумал Евгений. И представил, как будет стоять гроб в квартире. «Кресла, стол вынесут, телевизор можно не убирать… Если домой, конечно, занесут. Сейчас нередко гроб полчаса постоит у подъезда. А ведь должен покойник ночь переночевать у себя дома…» И чуть не слетело с языка: «Вас из дома будут хоронить?» Даже спина похолодела. Вот бы сморозил.
– Чаю горяченького подлить? – заглянула жена Ивана Денисовича.
– Не откажусь, – утвердительно кивнул головой Евгений.
«Интересно, – подумал он, помешивая ложечкой чай, – за сколько времени до смерти, её печать появляется на лице? По Гавричкову ровным счётом ничего не видать. Обычное выражение лица».
Евгений порядком утомился от беседы, тогда как смертельно больной Иван Денисович вспоминал и вспоминал.
«Неужели никак не чувствует приближение конца? Или только мужественным даётся такая информация?» Вспомнил соседа по подъезду, тот, получив направление на обследование в онкологию, запаниковал и после результатов первых анализов, ещё не окончательных, повесился.
Очерк Евгений написал быстро, подгоняла мысль: успеть порадовать героя. Главный редактор сразу поставил в номер.
Ивану Денисовичу передали газету. Ветеран растрогался едва не до слёз.
– Хорошо написал, – сказал жене. – Очень хорошо.
– Позвони человеку, поблагодари.
– Всенепременно!
Ветеран пододвинул к себе телефонный аппарат, набрал номер, подержал трубку у уха, положил и сказал жене с потерянным видом:
– Корреспондент, вчера упал на работе и всё. «Скорой» было нечего делать. Мгновенный инсульт. С виду цветущий мужчина. А я скриплю и хоть бы что.
Исповедь отца
Отец, сколько помнила Марина, на ногу всегда лёгкий, стремительный. И в сорок таким был, и в шестьдесят, и в семьдесят пять. Но в последние два года куда что девалось – спина по-стариковски сгорбилась, ходил тяжело… Оглядываясь в детство, Марина первым делом видела отца на волейбольной площадке. Работал он на деревообрабатывающем заводе, коротко – ДОЗе. Там девочку Марину всякий раз охватывал восторг: пилорама распускала брёвна на плахи, станки превращали их в гладкие тёплые доски… Визжали циркулярные пилы, от сушильных камер веяло жаром… И вкусно пахло свежими стружками, опилками…