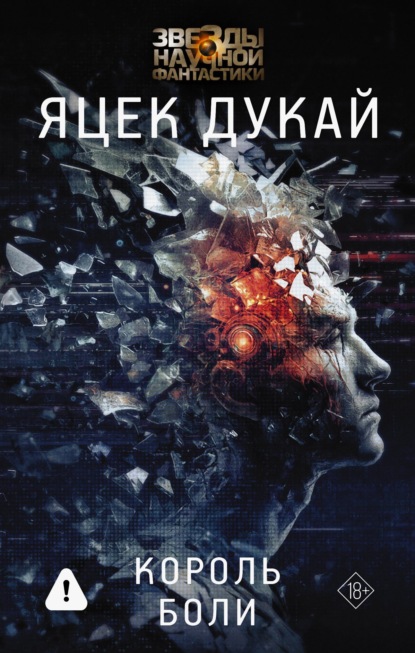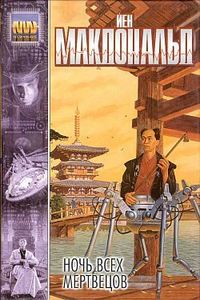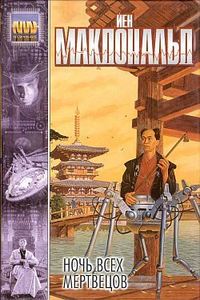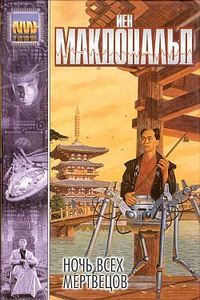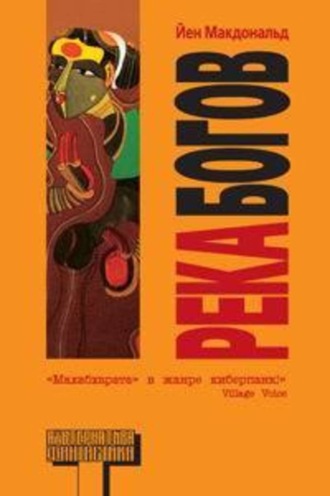
Полная версия
Река Богов
Шахин Бадур Хан подавляет улыбку, но никто ведь не станет отрицать, что экономика Объединенной Восточной и Западной Бенгалии отличается высоким техническим уровнем, смелостью, стремлением к прогрессу, научной изощренностью и во многих отношениях не уступает самым передовым державам мира. Это то, о чем ведутся высокопарные беседы на проспектах и в портиках Ранапура, и чему так разительно противоречат грязь, развалины и нищета Каши.
Но вот появляются автомобили. Шахин Бадур Хан следует за политиками. От асфальтового покрытия исходит нестерпимый жар. Влажный воздух убивает все воспоминания о льде, океане и прохладе. Удачи им с их ледяным островом, думает Шахин Бадур Хан, представляя себе бенгальских инженеров, карабкающихся на айсберг в теплых канадских куртках с отороченными мехом капюшонами.
Сидя на переднем сиденье автомобиля министра Шринаваса, Шахин Бадур Хан закладывает за ухо хёк. Рулежные дорожки, аэробусы, крытые переходные мосты между аэровокзалами и самолетами, грузоперевозчики подгружают данные к интерфейсу его офисной системы. Программы-сарисины отсортировали его почту, но осталось еще более пятидесяти писем и сообщений, которые личному парламентскому секретарю Саджиды Раны нужно прочесть обязательно: рапорты о боеготовности воинских частей Бхарата, пресс-релизы о дальнейших ограничениях на потребление воды, просьба от Н. К. Дживанджи о проведении видеоконференции… Руки движутся, как у изящной танцовщицы, исполняющий традиционный катхак. Перед Шахин Бадур Ханом появляется его блокнот. «Держите меня в курсе событий на развязке Саркханд, – пишет он на боку аэробуса „Эйр Бенгал“ на виртуальном хинди. – У меня дурное предчувствие по поводу нее».
Шахин Бадур Хан родился, живет и, по его предположениям, умрет в Каши, но он до сих пор не может понять страсть и злобу, отличающие потрепанных индуистских богов. Его восхищают религиозные установки и аскетизм индуизма, но как мало эти божества дают в обмен на поклонение им и как много требуют от большинства своих ревнителей! Каждый день по пути в Бхарат Сабху он на правительственном автомобиле проносится мимо маленькой палатки из пластика, установленной на одном из перекрестков улицы леди Каслрей, где пятнадцать лет назад некий садху поднял руку и ни разу за все эти годы не опустил ее. Шахин Бадур Хан готов держать пари, что теперь аскет не сможет вернуть свою высохшую костлявую конечность на место, даже если бы кто-то из его богов повелел ему.
Бадур Хан не принадлежит к числу особо религиозных людей, но яркие кричащие бутафорские статуи с обилием рук, символов, атрибутов, транспортных средств, сторонников – словно скульптор хотел воплотить в каждой все теологические детали до последней, – оскорбляют эстетические чувства Шахина. Сам он принадлежит к утонченной, в высшей степени цивилизованной, экстатической и мистической школе ислама. Оскорбительные для глаз и чувств ярко-розовые тона чужды ей. Его религия не размахивает своим пенисом на публике. Тем не менее каждое утро тысячи и тысячи спускаются по гхату рядом с балконами его хавели, чтобы смыть с себя грехи в водах высыхающего Ганга. Вдовы тратят последние рупии на то, чтобы тела их мужей были сожжены у вод священной реки, дабы покойные достигли вечного блаженства. Каждый год множество молодых людей бросаются под колесницу Джаганната в Пури [10], хотя еще большее их число погибает в давке в толпе. Тысячи юношей штурмуют мечети, голыми руками разнося их по камню, потому что, по их мнению, мусульманские строения оскорбляют величие Господа Рамы, – а человечек в палатке из пластика все сидит и сидит себе на мостовой, подняв руку, словно шест. А на транспортной развилке в новом Сарнате стоит статуя Ханумана из крашеного бетона. Ее поставили там менее десяти лет назад, а теперь говорят, что нужно перенести в другое место, так как здесь будет строиться новая станция метро. И сейчас там появились группы молодых людей в белых рубашках и дхоти, потрясающие кулаками, бьющие в барабаны и гонги. Подобные представления всегда заканчиваются смертями, думает Шахин Бадур Хан. Мелочи собираются в большой снежный ком. Н. К. Дживанджи и его фундаменталистская индуистская партия Шиваджи своей колесницей раздавит еще множество человеческих жизней.
В центре приема ВИП-гостей царит смятение. Оказывается, для двух важных групп, прилетающих в аэропорт, заказан один и тот же зал ВН137. Шахин Бадур Хан узнает об этом среди сутолоки репортеров, грохота громкоговорителей, мелькания микрофонов у входа в холл. Министр Шринавас пыжится, но объективы кинокамер направлены совсем в другую сторону.
Шахин Бадур Хан вежливо протискивается сквозь толпу к диспетчеру, высоко подняв удостоверение.
– Что здесь случилось?
– А, мистер Хан… Небольшая путаница.
– Никакой путаницы. Министр Шринавас вместе со своей группой возвращается в Варанаси на одном из самолетов вашей компании. Какие могут быть причины для недоразумений?
– Одна знаменитость…
– Знаменитость, – повторяет Шахин Бадур Хан с таким презрением в голосе, что слово в его устах превращается в грубое оскорбление.
– Одна русская. Модель, – продолжает диспетчер в полном замешательстве. – С очень громким именем… В Варанаси готовится какое-то шоу. Приношу извинения за беспокойство, мистер Хан.
Шахин Бадур Хан жестом направляет своих людей к проходу.
– Что такое? – спрашивает министр Шриванас, проходя через толчею.
– Какая-то русская модель, – отвечает Шахин Бадур Хан тихим отчетливым голосом.
– А! – провозглашает министр Шринавас, широко открыв глаза. – Юли!..
– Простите?
– Юли, – повторяет Шринавас, вытянув шею, чтобы разглядеть знаменитость. – Ньют.
Слово звучит, словно удар храмового колокола. Толпа расступается. Перед Шахином Бадур Ханом открывается вход в зал для ВИП-гостей. И он останавливается – завороженный, видя высокую женскую фигуру в длинном, изысканного покроя пальто из белой парчи, расшитой орнаментом из танцующих цапель. Женщина стоит к нему спиной, Шахин Бадур Хан не видит ее лица, только абрис фигуры. Изящные движения длинных и тонких пальцев. Элегантный изгиб затылка, безупречные очертания лишенного волос черепа.
Женщина поворачивается к нему. Шахин Бадур Хан шумно выдыхает, но во всеобщей суматохе его никто не слышит.
Нет… Нельзя смотреть на это лицо, иначе он будет заворожен, проклят, отвержен Богом. Толпа снова начинает двигаться, и человеческие тела скрывают от него то, что он не должен был увидеть. Шахин Бадур Хан стоит в оцепенении, не в силах пошевелиться.
– Хан. – Это голос… Да, голос министра. – Хан, с тобой все в порядке?
– А… да, господин министр. Легкое головокружение. Здесь, наверное, слишком большая влажность.
– Да, чертовым бенгальцам надо заняться своими кондиционерами.
Чары разрушены, но, провожая министра по крытому переходу, Шахин Бадур Хан ловит себя на мысли, что теперь ему больше никогда не знать покоя.
Охранник получает подарки от министра Найпола. На термосах герб Объединенных Штатов Восточной и Западной Бенгалии. Пристегнув ремень и задвинув шторы на иллюминаторе в аэробусе «Бхарат эйр», неуклюже подпрыгивающем на неровном асфальте, Шахин Бадур Хан открывает термос. Внутри – кубики льда из ледника для джин-коктейлей Саджиды Раны. Шахин Бадур Хан снова закрывает термос. Аэробус набирает скорость. Наконец его колеса отрываются от бенгальской земли, а Шахин Бадур Хан прижимает к себе термос так, словно холод способен исцелить его душевную рану. Но ее уже ничто не сможет излечить. Никогда.
Шахин Бадур Хан отдергивает шторку и смотрит в иллюминатор, но ничего не видит. Перед его глазами проплывает белоснежный купол черепа; изгиб шеи; бледные изящные руки, элегантные, словно минареты; скулы, обращенные к нему, подобны архитектурным деталям несравненной красоты. Танцующие цапли…
Так долго ему казалось, что он пребывает в абсолютной безопасности. Абсолютной… Шахин Бадур Хан прижимает к себе термос с куском ледника и ласково проводит по нему рукой, закрыв глаза в молчаливой молитве, и сердце его пылает в экстазе.
4. Наджья
Лал Дарфан, первой величины звезда мыльных опер, дает интервью в паланкине на спине слона, форму которого имеет дирижабль, движущийся вдоль южных склонов Непальских Гималаев. На звезде великолепная рубашка и широкие свободные брюки. Он откинулся на мягкую подушку на низеньком диване. Позади него стяги из кучевых облаков расцвечивают белым небесную голубизну. Горные вершины очерчивают неровную границу, создавая естественную преграду на пути устремляющегося в бесконечность взгляда. Бахрома паланкина со множеством кисточек треплется на ветру. Лала Дарфана, Бога Любви самой большой и самой популярной мыльной оперы студии «Индиапендент продакшнз» под названием «Город и деревня», развлекает павлин, который стоит у изголовья его дивана. Звезда кормит птицу крошками рисового крекера. Сам Лал Дарфан на диете с низким содержанием жиров. Об этом трезвонят все таблоиды.
Диета, – думает Наджья Аскарзада, – прекрасно подобранная причуда для виртуальной звезды. Она делает глубокий вдох и начинает интервью.
– Нам, живущим на Западе, трудно поверить, что «Город и деревня» может быть столь невероятно популярен. Тем не менее здесь к вам как к актеру интерес ничуть не меньший, нежели к вашему персонажу, Веду Прекашу.
Лал Дарфан улыбается. Его зубы именно так невероятно, ослепительно белы, как говорят на всех телеканалах.
– Значительно больше, – отвечает Лал. – Но, как мне кажется, ваш вопрос состоит в следующем: почему персонажу-сарисину нужен актер-сарисин? Иллюзия внутри иллюзии, ведь так?
Наджье Аскарзаде двадцать два года – журналист, фрилансер, в отношениях не состоит. Четыре недели находится в Бхарате и только что приступила к интервью, которое, как она надеется, реально раскачает ее карьеру.
– Поверьте в невероятное, – замечает Наджья.
До ее ушей доносится гул моторов дирижабля, каждый из которых установлен в одной из громадных ног слона.
– Дело обстоит вот как. Просто роли, просто персонажа публике всегда мало. Ей нужна роль, скрытая за ролью, будь это я, – Лал Дарфан с каким-то нарочитым самоуничижением касается руками диафрагмы под раздувшейся грудной клеткой, – либо вполне реальный, из плоти и крови, голливудский актер или поп-идол. Позвольте мне задать вам вопрос. Что вам известно о, скажем, такой западной звезде, как Блошан Мэттьюз? Только то, что вы видите по телевизору, то, что читаете в желтой прессе и узнаете из светских сплетен. А что вам известно о Лале Дарфане? Практически то же самое. Эти персонажи для вас не более реальны, чем я, но и ничуть не менее реальны.
– Но ведь люди всегда могут случайно столкнуться со знаменитостью где-нибудь на улице, встретить на пляже, в аэропорту или даже в обычном магазине…
– Неужели? А откуда вы знаете, что кто-то вот так, как вы говорите, случайно сталкивался со знаменитостями?
– Оттуда, что я слышала… А.
– Понимаете, что я имею в виду? Мы всегда получаем информацию от того или иного посредника. При всем уважении, я – реальная знаменитость в том смысле, что моя слава очень даже реальна. По сути, полагаю, в наши дни именно популярность делает реальным что угодно. Вы согласны со мной?
На создание голоса Лала Дарфана было потрачено полмиллиона человекочасов. Это голос запрограммирован, чтобы соблазнять, и он уже обвивает Наджью кольцами искушения. Лал вопрошает:
– Можно мне задать вам личный вопрос? Он совсем простой. Какое самое раннее ваше воспоминание?
Долго вспоминать не приходится: она всегда рядом, та ночь огня, хаоса и страха; она как иридий в геологических слоях жизни Наджьи. Отец берет ее с кровати, несет куда-то на руках, по всему полу разбросаны бумаги, в доме страшный шум, в саду мелькают огни. Это она помнит лучше всего. Конусы света фонарей, мечущиеся над розовыми кустами, они гонятся за ней. Бегство через весь жилой комплекс. Отец вполголоса проклинает мотор, всё пытаясь завести его, завести, завести. А свет фонарей всё ближе и ближе. Отец ругается, ругается довольно вежливо с учетом того, что полиция явилась арестовать его.
– Я лежу на заднем сиденье автомобиля, – говорит Наджья. – Лежу плашмя, стоит ночь, и мы очень быстро едем по Кабулу. За рулем отец, мать сидит рядом с ним, но я не вижу их из-за спинок кресел. Я понимаю, что они беседуют, но их голоса доносятся как будто откуда-то издалека. Да, еще включено радио. Родители прислушиваются, но я не могу ничего разобрать… – Сейчас она знает, что они ждали сообщения о нападении на дом и о том, что выписан ордер на их арест. До того момента, как полиция закрыла аэропорт, оставалось всего несколько минут. – Я вижу, как мимо меня проносятся уличные фонари, нахожу в их чередовании удивительный, хоть и однообразный ритм: вначале свет каждого из них падает на меня, затем на спинку моего сиденья, а потом исчезает в окне…
– Мощный образ, – замечает Лал Дарфан. – Сколько вам тогда было лет? Три, четыре?
– Еще не было четырех.
– У меня тоже есть самое раннее воспоминание. Именно благодаря ему я знаю, что я не Вед Прекаш. У Веда Прекаша есть сценарий, а я помню шаль с узором «пейсли», развевающуюся на ветру. Небо было голубым и безоблачным, и край шали вился где-то сбоку. Мне всё это видится словно в кадре, однако основное действие проходит за ним. Я вижу предельно отчетливо, как этот край шали хлопает на ветру. Мне говорили, что дело происходит на крыше нашего дома в Патне. Мама взяла меня наверх, чтобы уберечь от испарений, отравляющих всё внизу на уровне первого этажа, и я лежу на одеяле, а надо мной зонтик. Шаль незадолго перед тем выстирали, она висит на веревке и сушится. Странно, но веревка шелковая. Воспоминание о том, что она шелковая, не менее яркое, чем все остальное. Мне было самое большее два года. Вот. Два воспоминания. А, но тут вы скажете: ваше-то выдумано, а мое – настоящее. Но как это установить? Вполне возможно, вам что-то рассказали, а вы с помощью воображения превратили чужой рассказ в собственное воспоминание, однако оно может быть и ложным, искусственно созданным и имплантированным в сознание.
Сотни тысяч американцев считают, что их разум оккупирован серыми человечками-инопланетянами, которые загнали им специальный механизм в задний проход и таким манером контролируют их разум. Фантазия – и, вне всякого сомнения, ложные воспоминания, – но неужели из-за этого они становятся нереальными, поддельными людьми? В конце концов, из чего состоят наши воспоминания? Из белковых молекул с разным зарядом. В этом, думаю, мы не так уж сильно отличаемся друг от друга. Дирижабль в виде громадного слона, глупая диковинка, которую сделали по моему заказу; наше представление о том, что мы летим над Непалом; для вас всё это лишь разнообразные сочетания по-разному заряженных молекул белка. Но так можно сказать о чем угодно. Вы называете то, о чем я говорю, иллюзией, а я называю это фундаментальным основанием моей вселенной. Полагаю, что я вижу ее весьма отличным от вас образом, но, опять же, откуда мне знать? Откуда мне знать, что мой зеленый цвет вы тоже воспринимаете как зеленый? Мы все заперты в маленьких коробках своих «Я» из кости или из пластика, Наджья. И никому из нас не суждено из них выбраться. Можем ли мы в таком случае доверять воспоминаниям?
Я доверяю, компьютер, думает Наджья Аскарзада. Я вынуждена им доверять, ибо то, что я есть, создано этими воспоминаниями. Причина, по которой я нахожусь в этом нелепом виртуальном чертоге удовольствий и болтаю со звездой мыльных опер, страдающей манией величия, – исключительно в тех самых давних воспоминаниях о свете и движении.
– Но в таком случае вы – как Лал Дарфан – сильно рискуете? Я имею в виду Акт Гамильтона относительно искусственного интеллекта…
– Копы Кришны? Хиджры Маколея, – ядовито произносит Лал Дарфан.
– Я это к тому, что для вас заявить, будто вы обладаете самосознанием – а именно об этом, как мне представляется, и шел разговор, – равносильно подписанию собственного смертного приговора.
– Я вовсе не говорил, что обладаю самосознанием или какими-либо чувствами, что бы все подобные слова ни значили. Я – сарисин уровня 2,8, и меня подобное положение вещей вполне устраивает. Я заявляю лишь, что я реален; настолько же реален, как вы.
– Значит, вы не смогли бы пройти тест Тьюринга?
– Я и не должен проходить тест Тьюринга. И не стал бы его проходить. Тест Тьюринга!.. Да что он доказывает? Давайте я вам опишу его. Классическая расстановка: две запертые комнаты и мерзавец со старомодным компьютерным монитором в центре. Посадим вас в одну комнату, а пиарщика Сатнама – в другую. Предполагаю, именно он организовал нынешнюю прогулку – с девушками работает, как правило, он. Он тот еще пижон. Мерзавец у монитора задает вопросы, вы набираете ответы. Стандартная процедура. Задача Сатнама – убедить мерзавца в том, что он, Сатнам, женщина. Он может врать, изворачиваться, говорить что угодно, лишь бы заставить поверить в эту явную ложь. Думаю, вы прекрасно понимаете, что ему не составит большого труда добиться успеха. И что, это на самом деле сделает Сатнама женщиной? Не думаю; а Сатнам так уж точно не думает.
Ну а теперь: в чем разница между этой ситуацией и по-
пыткой компьютера выдать себя за разумное существо? Может ли симуляция явления рассматриваться как само это явление, или же разуму свойственно нечто настолько уникальное, что делает его единственным в своем роде явлением, которое невозможно симулировать? Что доказывают все подобные эксперименты? Только нечто относительно природы самого теста Тьюринга как теста и кое-что относительно опасности доверия к минимуму информации. Любой сарисин, достаточно умный, чтобы пройти тест Тьюринга, будет достаточно умен и для того, чтобы названный тест провалить.
Наджья Аскарзада воздевает руки, изобразив притворную беспомощность и полную покорность неопровержимым доводам Лала.
– Должен сказать, кое-что в вас мне нравится, – говорит Лал Дарфан. – Например, вы не потратили целый час на глупые вопросы о Веде Прекаше, словно он и является истинной звездой. Однако это напомнило мне о том, что я уже должен начинать гримироваться…
– О, простите! Спасибо!.. – восклицает Наджья, пытаясь изобразить словоохотливую журналисточку, хотя на самом деле уже и рада оказаться вне сферы ментального влияния этого педантичного существа.
То, что, по ее планам, должно было получиться легким, поверхностным, ненавязчивым и слегка китчевым, превратилось в некий вариант экзистенциальной феноменологии с привкусом постмодернистского ретро. Наджья безо всякого восторга думает о том, что́ скажет ее редактор, не говоря уже о пассажирах трансамериканского
экспресса Чикаго – Цинциннати, достающих свои журналы из кармашков на сиденьях.
Лал Дарфан блаженно улыбается, а его кабинет начинает растворяться. Наконец остается только улыбка в стиле Льюиса Кэрролла, но и она постепенно исчезает в гималайском небе, да и само гималайское небо сворачивается и ускользает куда-то в самые дальние уголки сознания Наджьи. И вот она снова сидит в кабинете для рендеринга, в шатком вращающемся кресле, глядя на цилиндры белковых процессоров на стойках, которые уходят в перспективу помещения: настоящие научфановские мозги в банках.
– Он вполне убедителен, не правда ли?
Бальзам-афтершейв Сатнама-Немного-Пижона малость кричащий. Наджья снимает лайтхёк, все еще чувствуя некоторую спутанность сознания из-за полного погружения в атмосферу интервью.
– Я думаю, он думает, что он думает.
– Именно так мы его и программировали. – У Сатнама имеются медийные стиль, одежда и беззаботная уверенность в себе, но Наджья замечает у него на шее маленький трезубец Шивы на платиновой цепочке. – Правда в том, что сценарий для Лала Дарфана прописан так же четко, как и для его героя Веда Прекаша.
– Именно. В том-то и суть – в разнице между видимостью и реальностью. Если люди могут поверить в реальность виртуальных актеров, то что же еще они проглотят?
– Ну, не надо раскрывать все карты. – Сатнам улыбается, проводя ее в следующее отделение. Сейчас он очень мил, думает Наджья. – А здесь у нас «метамыльный» отдел, где Лал Дарфан получает сценарий, от которого, как ему кажется, он совершенно не зависит. И этот отдел ничуть не менее важен, чем собственно мыльный.
Отдел представляет собой помещение, забитое рабочими станциями. Перегородки из темного стекла: сотрудники работают здесь в полумраке, освещаемые мерцанием мониторов. Руки разработчиков движутся в нейропространстве. Наджья с трудом подавляет дрожь при мысли о том, что и она могла бы провести всю свою жизнь в подобном месте, куда никогда не попадает солнечный свет…
Случайный отблеск касается высоких скул, безволосого черепа, изящная тонкая рука приковывает к себе внимание Наджьи, и теперь уже она обрывает Сатнама:
– Кто это?
Сатнам вытягивает шею.
– А, это Тал, он новенький. Он занимается разработкой визуальных обоев.
– Мне кажется, следовало бы употребить местоимение «эно», – замечает Наджья, пытаясь получше разглядеть ньюта.
Не сказать чтобы присутствие здесь, в производственном отделе, представителя третьего пола было удивительно. В Швеции ньюты склонны выбирать творческие профессии, а самая популярная индийская мыльная опера несомненно должна их привлекать. Просто Наджья осознает, что всегда полагала, будто уходящая во тьму столетий история индийской транс- и квир-сексуальности до сих пор таится под спудом.
– «Эно», «оно», «он» – как вам угодно… Этих эно полно в наши дни. Вон, одного пригласили на важный прием с большими шишками.
– Юли. Русскую модель. Я попыталась пробиться на встречу, взять у него интервью. То есть у эно.
– Но променяли его на Толстого Лала.
– Нет, меня в самом деле очень интересует психология актеров-сарисинов.
Наджья не может удержаться и снова бросает взгляд на ньюта. Эно поднимает взгляд. Их глаза на какое-то мгновение встречаются. Взгляд Тала ничего не выражает, эно просто смотрит, холодно и равнодушно, затем вновь возвращается к работе. Руки эно очерчивают символы.
– Толстый Лал не знает, что персонажи и сюжет представляют собой базовые пакеты, – продолжает Сатнам, ведя Наджью среди мерцающих рабочих станций. – Мы продаем франшизу, и различные национальные каналы накатывают поверх них собственных актеров-сарисинов. В Мумбаи и в Керале Веда Прекаша играют разные актеры, которые в тех краях не менее знамениты и популярны, чем Толстый Лал здесь.
– Вся наша жизнь – лишь одна из версий, – замечает Наджья, пытаясь что-нибудь понять в изысканных движениях длинных пальцев ньюта.
Выйдя в коридор, Сатнам продолжает болтовню:
– Значит, вы и в самом деле из Кабула?
– Я уехала оттуда, когда мне было четыре года.
– Мне мало известны тамошние реалии. Уверен, они стоят того, чтобы узнать о них побольше.
Наджья резко останавливается и поворачивается к Сатнаму. Она на полголовы ниже, однако, увидев выражение ее лица, он делает шаг назад. Наджья хватает Сатнама за руку и чертит цифры у него на тыльной стороне ладони.
– Вот мой номер. Позвоните. Возможно, я отвечу. Могу предложить прогуляться, но если мы куда-нибудь и пойдем, то место буду выбирать я. Согласны? А теперь спасибо за экскурсию. Думаю, что выход смогу найти сама.
Когда Наджья на фатфате подъезжает к обочине, он уже стоит именно там и именно в то время, на которое они договорились. По ее просьбе Сатнам одет не в своем обычном вкусе, хотя на шее у него по-прежнему тришул. Наджья уже много их видала на улицах, у самых разных мужчин.
Он опускается на сиденье рядом с ней, отчего маленький авторикша покачивается на своем самодельном насесте.
– Расплачиваюсь я, помните? – спрашивает девушка.
Рикша въезжает в хаотическое коловращение трафика.
– Тур-загадка? Окей, это здорово, – отвечает Сатнам. – А вы написали статью?
– Написала и забыла, – говорит Наджья.
Она действительно наскоро отстучала сегодня статью на своем компьютере на террасе «Империал интернэшнл», пригородного общежития для рюкзачников, в котором снимает комнату. Наджья выедет оттуда сразу же, как только из журнала пришлют гонорар. Австралийцы действуют ей на нервы. Они стонут и жалуются по любому поводу.
Дело в том, что у Наджьи есть бойфренд. Его зовут Бернар. Приятель-империалист, взявший академический отпуск, двенадцать месяцев которого растянулись до двадцати, сорока, шестидесяти. Он француз, лентяй с отвратительными манерами, убежденный в собственной гениальности. У Наджьи есть подозрение, что Бернар живет в хостеле только ради того, чтобы цеплять новых девчонок – таких, как она. Но он практикует тантрический секс, и у него стоит с любой женщиной не менее часа: по крайней мере, пока он тянет свои песнопения. До сих пор тантра с Бернаром заключалась для Наджьи в том, что ей приходилось по двадцать, тридцать, сорок минут сидеть у него на коленях и тащить за кожаный ремешок, обвязанный вокруг его члена, затягивая петлю все крепче и крепче, заставляя член напрягаться все больше и больше, пока глаза Бернара не начинали лезть из орбит и он не восклицал, что Кундалини пошла вверх. Что означало – он наконец-то словил приход от наркоты. Наджья представляет себе тантру иначе. И бойфренда тоже. Сатнам не относится к мужчинам ее типа примерно по тем же причинам, что и Бернар, но все-таки это не более чем игра, развлечение, «почему бы и нет»? Наджья Аскарзада выжала из своих двадцати двух лет столько, сколько позволило ей чувство ответственности за эти «почему бы и нет?», которые и привели ее в Бхарат наперекор учителям, друзьям и родителям.