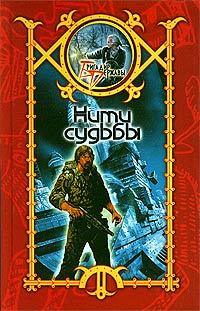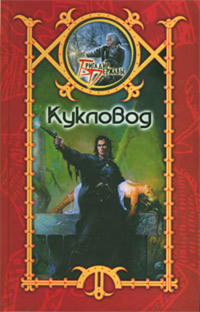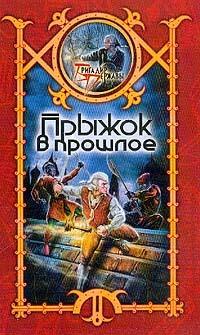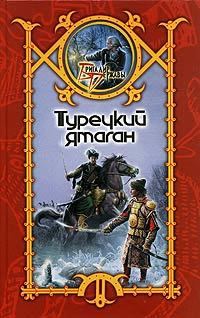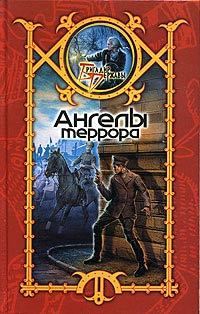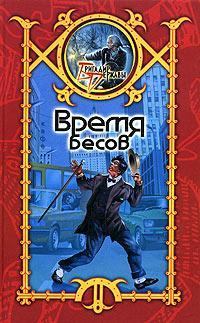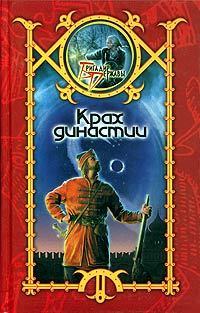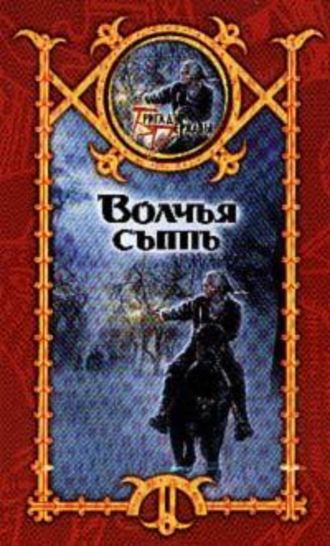 полная версия
полная версияВолчья сыть
Гроза продолжала бесчинствовать. Молнии освещали комнату неверным ярким светом. При раскатах грома Аля вздрагивала, прижималась ко мне, не забывая при этом подставить моим жадным губам то одну, то другую грудь.
Я совсем осатанел от буйства природы и остроты желания. Моя прекрасная богомолка начала сама сдирать с меня прилипшую к телу мокрую футболку. Она вся была как натянувшаяся струна, звенящая, голая и бесстыдная.
Мы рухнули на кровать, в податливую мягкость перины. Я с языческой яростью взял ее жаждущее слияния тело. Все протекало сумбурно, грубо и остро. Аля из девочки превращалась в сильную женщину, жаждущую любви…
До этого в наших соитиях было больше духовного, чем физического. Я все время боялся причинить девушке боль и нанести душевную травму. Теперь мы стали равными партнерами, сильными и жадными.
Я с остервенением неутоленной страсти до конца входил в нее, заставляя извиваться в объятиях, с безжалостной силой раздвигал ее тугую девичью плоть. Мне было тесно в ней, но эта теснота создавала ощущения нашего единства, полноты слияния.
Она хотела меня не меньше, чем я ее, и с таким же, если не большим исступлением, ласкала мое тело. Она не давала мне выйти из себя, удерживая мои бедра сплетенными ногами, и обручем сильных крестьянских рук сжимала меня, мешая дышать.
Она не дала мне отдалить завершающий аккорд, дать ей большее наслаждение, когда я, изнемогая от остроты ощущений, не в силах был отсрочить наступающий оргазм. Нас обоих взорвала горячая струя любви, и мы остались лежать обессиленными…
Страсть делала меня жестоким, и в то же самое время я испытывал к моей любимой нежность и жалость, мне хотелось укрыть ее от всевозможных огорчений и бед.
Мне все время было страшно за нее. Я начинал бояться всего, что могло быть для нее опасным: болезней, эпидемий, всяческих социальных передряг, дурного глаза…
…Мы лежали на боку, лицом друг к другу. Я так и остался в ней, горячей и трепетной. Острота желания притупилась, вместо нее меня волнами заливала нежность. Не было никакого эмоционального спада. Просто одно из состояний любви перетекло в другое.
– Я люблю тебя, – шептал я ей в лицо. – Любимая, единственная!
– Я люблю тебя, – говорила она, непонятно, отвечая мне или не слыша меня, выплескивая этими обычными, банальными словами то, что чувствовала сама, и то, что чувствовал я.
..Гроза уходила, напоминая о себе отдаленными раскатами грома. В сенях перед нашей дверью слышались шаги. Время шло к ужину, и я заставил себя преодолеть истому и оторваться от девушки.
Аля все еще лежала нагой и обессиленной, когда постучали в дверь. Она мгновенно вскочила, натянула на себя деревенскую рубаху и поправила всклоченные, непросохшие волосы. За дверями оказалась хозяйка, пришедшая узнать, можно ли накрывать на стол. Аля пошепталась с ней и куда-то ушла.
Я подошел к окну. Низкие тучи неслись над самой землей, роняя тяжелые редкие капли дождя. На улице было серо, сыро и мрачно.
Девочка, прислуживающая на кухне, принесла наш ужин. Аля молча ела, почему-то избегая смотреть на меня. Я, напротив, старался привлечь ее внимание, старательно шутил и сам себе казался не интересным.
Обитатели дома разбрелись по своим углам, вечеряли сообразно собственным вкусам и нас не беспокоили. Теперь самое время было продолжить медовый месяц, но у Али окончательно испортилось настроение. Она начала дуться, капризничать и декларировать свои высокие нравственные принципы.
Я на нее обиделся и усадил за грамматику. Она начинала учиться писать гусиным пером. Сначала я сам опробовал этот романтический «инструмент».
Писать им оказалось очень неудобно, оно все время тупилось, и пришлось несколько раз перетачивать конец. С него то капали чернила, то оно слишком быстро высыхало. Промучившись с четверть часа, я проникся уважением к многословным авторам этой эпохи, написавшим толстенные романы таким несовершенным инструментом.
Сначала я проверил, как Аля усвоила предшествующий материал, и создал новую галерею рисунков, долженствующих изображать корову, лошадь, месяц, ногу, оглоблю и дальше по алфавиту.
Наконец, впервые в жизни, мои художественные способности нашли горячего поклонника. Глядя на мои рисунки, Аля развеселилась, утратила бдительность и чуть не была обманом завлечена на ложе любви. К сожалению, в последний момент ее благоразумие и стыдливость восторжествовали над моей тонкой политикой соблазнения. Причем, на мой взгляд, совершенно напрасно: весь дом погрузился в дрему, и нам бы никто не помешал.
Итак, Аля продолжала изучать азбуку и пачкать пальцы чернилами, а я томился от безделья. На мое счастье, на улице немного развиднелось, и в доме вновь началось шевеление.
Я вышел из комнаты и встретил Фрола Исаевича. Мы перекинулись дежурными фразами о погоде, и я поделился с ним своим планом легализовать Ивана. Он долго не мог взять в толк, зачем я вообще связался с беглым солдатом, но потом благоразумно решил не встревать в барские прихоти и мой план одобрил. Тем более что у него оказался запас не выкупленной заказчиками одежды, и мое предложение продать подходящее платье Ивану его весьма заинтересовало.
Котомкин отвел нас с Иваном в мастерскую, и мы легко подобрали ему подходящее по статусу платье. Из него получился типичный лакей небогатого барина, носящий разномастную одежду с чужого плеча.
Теперь главной проблемой была обувь, причем не только для солдата, но и для всех нас. Гениальный сапожник, обещавший мне «к завтрему» сшить сапоги, сгинул с концами, и ждать его появления было бы верхом наивности.
Этот вопрос я попробовал решить, не откладывая на понедельник. Из разговора с портным выяснилось, что лавки в воскресенье работают до темноты, так что заняться поисками обуви можно было еще сегодня.
Единственная загвоздка была в одежде. После утраты халата мне, как я уже говорил, было не в чем выйти из дома. Оставалось одно: надеть недошитое изделие халтурного качества. Обиженный давешней критикой, Фрол Исаевич поначалу выдать мне «полукамзол» отказался, но, в конце концов, поддался на уговоры и принес обновку. В основном одежда была сшита, оставались недоделанными мелочи: вроде обметки петель и швов.
Я примерил сооружение народного умельца. Увы, даже мое вмешательство в конструкцию изделия ничего положительного не внесло. Выглядел я, прямо сказать, не ахти. Однако выбирать было не из чего.
Глава пятая
Идея отправиться в торговый центр вы звала общий ажиотаж. Вместе со мной вызвались пойти почти все основные персонажи. Начались суетливые сборы: нас поджимало позднее время. Наконец все, даже дамы, были готовы, и импозантная группа вышла на главный проспект города.
Шествие возглавляли мы с хозяином. Я был одет в новый «полукафтан», кроссовки и мурмолку Фрола Исаевича, залихватски торчащую у меня на макушке. Котомкин нарядился в новую поддевку со сборками на талии, пошитую из дорогого аглицкого сукна, сапоги бутылками с лакированными голенищами и в малиновый картуз.
Хозяйка шла чуть позади Фрола Исаевича в красном сарафане, под который была поддета желтая шелковая рубаха с хлопчатобумажными рукавами согласно последней моде.
Я поинтересовался у портного, почему у рубахи такие странные рукава из х/б. Оказалось, что хлопок много дороже шелка, и целую бумажную рубаху могут позволить себе только очень состоятельные люди.
За матерью выступала Дуня в синем сарафане и розовой рубахе с красными рукавами. Ноги ее украшали красные же сапожки с бантиками. Коса у девушки была заплетена очень слабо, что также было в моде, а в нее она вплела шнурки и ленты.
Аля оделась так же, как и днем. Я опять решительно воспротивился смешению стилей, и ей пришлось смириться. Единственное, что ее радовало – это одолженный Дуней «печатный» цветастый платок.
Шествие замыкали разряженный во все новое Иван и Дунин полуофициальный жених Семен.
На Ивана стоило посмотреть. На нем были надеты синие чиновничьи панталоны, купеческий армяк из толстого сукна, из-под которого выглядывала европейского фасона рубаха с высоким воротником. Довершали композицию донельзя сношенные сапоги, одолженные ему кем-то из подмастерьев.
Дорога, по которой мы шествовали, после недавнего ливня стала мокрой и грязной. Ноги тут же испачкались, но торжественности у нашей процессии не убавилось. Мы, не торопясь, продвигались к центру, раскланиваясь со всеми встречными.
Главная улица, о которой я уже неоднократно упоминал, пустынная в будни, была заполнена людьми. Я с интересом рассматривал прохожих. Люди в «немецком» платье почти не попадались, в основном прогуливались обыватели «простого звания» в русской одежде.
Женщины сплошь были одеты в сарафаны. Преобладал красный, реже – синий цвет. Рубахи были более разнообразны по цвету, но все одного фасона.
Общее впечатление было не очень хорошее. Яркость одежд была не праздничная, а аляповатая. Так же, как и нарочитая чинность и показное самодовольство большинства гуляющей публики.
Несколько раз нам повстречались чиновники в светло-голубых мундирах со светлыми же пуговицами и дамы в городских нарядах. Это были мелкие уездные чиновники, не имеющие собственного выезда. Вся гуляющая публика с большим любопытством рассматривала меня.
Вопреки ожиданиям, откровенно пьяных почти не попадалось. Гуляющие чинно раскланивались, некоторые лобызались друг с другом. Народ, в основном, был малорослый и тучный. Я по сравнению с большинством выглядел гигантом и, вероятно, этим привлекал к себе повышенное внимание. В упор меня рассматривали редко, но вслед смотрели все без исключения.
Продвигались мы очень медленно. У портного была масса знакомых, и мы все время останавливались для приветствий. Я уже перестал надеяться когда-нибудь добраться до торговых рядов. Однако, в конце концов, мы до них дошли.
В центре города сновало множество самого разнообразного, как трезвого, так и пьяного люда. Сказывалась близость трактиров. В сутолоке мы стали не так заметны, и я перестал ощущать себя моделью на подиуме.
Местный Бродвей выглядел не очень презентабельно. Лавки, кабаки и подсобные рыночные строения были рублены из кругляка и не радовали глаз разнообразием архитектурных форм. Под ногами чавкала растоптанная грязь. К тому же воняло падалью.
Кабаков для такого небольшого города было много: пять или шесть. Около них периодически начинали кипеть страсти, и возникали заварушки, усмиряемые, как мне показалось, самими обывателями. Ничего похожего на полицию я не усмотрел. Возможно, ее функции выполняли пожилые солдаты в мундирах с красной перевязью, в небольшом количестве вкрапленные в толпу.
Мы с Фролом Исаевичем договорились, что торг и расплату он возьмет на себя, и начали обход лавок. Меня в первую очередь интересовала обувь.
Новый позорный прикид в виде «полукафтана» и мурмолки – шапки с высокой, суживающейся кверху тульей и широкими отворотами – изменил и мой общественный статус. Теперь меня не именовали «сиятельством» или «превосходительством», как раньше, а обращались демократично: «сударь» или «ваше степенство».
Так как видимым спонсором был Котомкин, то основной напор лести приходился на него, остальных, включая меня, ушлые приказчики ласкали словом мимоходом. Утомительный выбор между плохими и отвратительного качества товарами скрашивали наши спутницы, с детской непосредственностью дикарей восхищающиеся всякой яркой и пестрой дрянью.
Жене и дочери портного я с удовольствием дарил приглянувшиеся им безделушки, но Але не позволил купить ни одного папуасского украшения. Оснащали мы с Фролом Исаевичем ее только самыми необходимыми, универсального пользования вещами.
Мне еще было не ясно, в каком социальном статусе она сможет наиболее комфортно существовать. Сделать сразу из скромной деревенской девушки дворянскую барышню было невозможно, получилась бы просто ряженая.
Але еще долго предстояло, пользуясь выражением А. Чехова, выдавливать из себя рабыню, крепостную крестьянку, учиться не заискивать перед окружающими, быть естественной в общении и обрести самоуважение. Пока не тушеваться ей удавалось только в моем присутствии.
Котомкин, войдя во вкус богатого покупателя, выбирал Але одежду сообразно своим эстетическим пристрастиями. Так как они не разнились с Алиными, то, в конце концов, выкристаллизовалась обеспеченная мещаночка с претензией на провинциальный шик. Мне осталось только надеяться, что этот образ не соответствует Алиной ментальности.
По мере продвижения по лавкам мы обрастали покупками, а мой лексикон – новыми словами. Так я узнал, что «юфт» – мягкая хромовая кожа. Из него были точены сапоги с короткими голенищами, которые я с трудом себе подобрал.
Настю мы обули в красные сафьяновые сапожки на каблуке. Однако, если названия сортов кожи я хотя бы слышал, то какие бывают (или правильнее, бывали) виды материи – узнал впервые.
Вряд ли найдется много людей, слышавших о казнете, драдедане, монке или китайке. Аля, в отличие от меня, несмотря на свою дремучесть, вполне сносно ориентировалась в отечественных текстильных изделиях.
В конце концов пытка хождения по магазинам подошла к концу. Вся наша компания оказалась с обновками. Для меня приобрели на сюртук и панталоны тонкой английской шерстяной ткани синего цвета, на рубашки белого голландского полотна и треугольную шляпу. Ивану купили сапоги и мурмолку.
Кроме того, я высмотрел в одной из лавок подержанный набор медицинских инструментов, невесть как туда попавший.
Набор, судя по реакции хозяина на нежданного покупателя, пылился у него без спроса много лет. Цены на него он не знал и, заломив вначале пятьдесят рублей, отдал с радостью за рубль серебром.
Возвращались мы полные впечатлений. Порядок следования был такой же, как и при пути сюда, только теперь за нами еще следовали мальчишки разносчики с покупками, и шествие получилось совсем торжественное.
Чувствовалось, что моих спутников распирала гордость перед встречным людом. К тому же женщины были в полном восторге от «богатых» подарков. Кроме бижутерии, им еще обломились полушалки, медовые пряники и немецкие «конфекты». Портному я подарил две курительные пенковые трубки и фунт турецкого табака, а жениху Семену – красную рубаху.
Остаток вечера все рассматривали подарки и обновки, а я разбирался с медицинским инструментом. В наследство от неведомого лекаря мне досталась костяной фонендоскоп – в просторечии слуховая трубка – и набор хирургических инструментов, в который входил ланцет, скальпель, щипцы, пила для ампутации, пинцеты и несколько металлических крючков непонятного назначения.
Я предположил, что они служат для извлечения ненароком проглоченных предметов из гортани, но до конца в этом не был уверен. Кроме того, набор инструментов венчала оригинальная клизма в виде воронки.
Хирургические инструменты были сделаны из обычной стали и порядком заржавели, так что мы с Иваном остаток вечера чистили их песком и толченым кирпичом. Зато теперь я был готов к любым подвигам на стезе народного здравоохранения.
От генеральского гонорара после всех покупок осталось всего пятьдесят рублей с копейками. Расходов мне предстояло еще много, и я поневоле задумался о заработке. Главная надежда была на медицинскую практику. Другие возможности вроде разбоя или рэкета я пока не рассматривал.
Спать мы улеглись довольные и счастливые. Аля была так переполнена впечатлениями, что на меня эмоций у нее не осталось. Поэтому мои тайные планы на предстоящую ночь оказались нереализованными. Меня лишь нежно поцеловали в щеку и что-то невнятно пробормотали, после чего бог Морфей унес мою любимую в свою загадочную страну.
Нет худа без добра, впервые за несколько последних ночей я сумел нормально поспать. Ибо, как давно известно: «В вечном споре бог Морфей с богиней Афродитой».
Проснулись мы рано от начавшегося топота хозяев и их домочадцев по общему коридору. Утро было ослепительно яркое и праздничное.
Спали мы с Алей на узких полатях, поэтому невольно всю ночь трогали друг друга, что в молодости приводит к прогнозируемым последствиям. Впервые любовную инициативу проявила раньше меня проснувшаяся Аля. Я, естественно, с энтузиазмом поддержал народный почин.
После разрыва с Ладой у меня не было ни одного романа. Никаких смертельных мук я при этом не испытывал. И всегда считал, что у меня очень средненький темперамент, и теперешний взрыв африканской страсти меня даже смущал.
По науке, такой половой прессинг Але, только начинающей половую жизнь, должен быть не только неприятен, но и подавить ее сексуальность.
Девушкам больше нравятся долгие ухаживания, романтическое поклонение, объяснения в любви, прогулки при луне, а не постоянные «сексуальные домогательства». Однако когда инициатива исходила от нее, то оскорбить любимую женщину холодностью я, естественно, не мог.
Я где-то читал, что до того, как в Европу был завезен из Америки сифилис, и эта страшная болезнь начала косить ее население, отношения между мужчинами и женщинами были очень простыми.
Потрясающее воображение школьников, изучающих историю средних веков, правило первой ночи, когда сюзерен имел привилегию провести первую брачную ночь с женой своего вассала, вряд ли в те времена было большой трагедией для супруга.
При упрощенных отношениях, когда половая связь не освящена ореолом таинства, к таким вещам относятся спокойно. При нищете большинства населения и отсутствии других развлечений секс был одной из немногих, если не единственной, радостью.
Судя по свидетельствам очевидцев, которые я читал (как и любые свидетели, они могут и врать и преувеличивать), в доколумбовые времена наши далекие предки оттягивались, как только могли. Сифилис, как нынче СПИД, вынудил ввести большие ограничения, что нашло свое отражение в борьбе церкви за моногамную семью, против блуда.
Восемнадцатый век, «век просвещения», решил, что человечество достигло совершенства, познало все тайны природы и даже научилось лечить болезни. При том, что эпидемия венерических заболеваний пошла на спад, свободные половые отношения опять достигли большого размаха.
В нашем отечестве почти все монархи, оставившие после себя память, начиная с Петра Алексеевича, отличались повышенным распутством и тем подавали пример подданным. Думаю, что развратные нравы помещиков не могли не перейти из дворянских гостиных в лакейские, приняв, как водится, карикатурно, гипертрофированно гротескную форму.
Але, скорее всего, удалось сохранить до встречи со мной девственную невинность только потому, что она внешне не соответствовала сельским стандартам красоты. Думаю, что никакой романтики в отношениях между полами при жизни в одной тесной избе нескольких поколений быть просто не могло. Между взрослыми все делалось, скорее всего, на глазах у всей семьи и, должно быть, воспринималось с интересом, но без особого ажиотажа.
Такой «гласный» секс мог существовать только в упрощенной форме. К тому же, при общей безграмотности, дискриминации женщины, религиозных запретах не могла не сформироваться только убогая модель сексуальных контактов.
Впрочем, все мои предположения не имеют никаких документальных подтверждений. К тому времени, когда россияне стали достаточно образованными, чтобы оставлять письменные свидетельства своего быта в виде воспоминаний, дневников, писем, общественная мораль изменилась, и это были уже другие люди. То же, что делалось не в спальнях, а на печах в избах, вообще осталось только в «сокровенных сказках».
Все это говорится к тому, чтобы стало ясно, как сложно было Але преодолевать условности и запреты. Я не берусь судить, чудесное ли это свойство большинства женщин приспосабливаться под стереотип поведения своего мужчины, или только Аля оказалась такой замечательной, динамичной натурой.
…Все, что в этот раз происходило между нами, было ярко, празднично и откровенно. Мы начинали делаться паритетными партнерами.
После любви мы лежали рядом, и я целовал ее шершавые руки, с которых до конца еще не сошли цыпки. Я целовал ее закрытые глаза и приоткрытые губы. Нам было все время хорошо вдвоем. Потом мы вновь уснули.
В начале восьмого утра нас разбудил Котомкин. Я вышел в коридор. Вид у портного был смущенный и встревоженный.
– Барин, к тебе от самого архиерея пожаловали, просят побыстрее.
– Скажите, что уже встаю, и пришлите умывание, – не очень любезно откликнулся я.
Предположительно, священники, как и чиновники, очень уважают халяву, а меня в тот отрезок времени больше интересовал приличный гонорар, чем знакомство с неведомым мне церковным чином.
Однако я быстро умылся, надел пресловутый полукафтан, новые сапоги, треуголку и вышел к посыльному.
– Ну, что у вас там случилось? – спросил я служку в узком черном подряснике.
– Его преосвященство просят пожаловать. Все мы, батюшка, под Богом ходим. Прости, Господи, грехи наши тяжкие! Отец Никодим сказывал, что архиерей помирают, – путано ответил посыльный.
Я выругался про себя и пошел собираться. Слава вещь приятная, но в любой момент можно попасть в неприятную ситуацию. Рано или поздно я проколюсь со своими хилыми медицинскими познаниями, и придется брать на совесть человеческую жизнь.
Моя практика армейского санинструктора была основана на наглой самоуверенности и безответственности молодости, а также использовании широко применяемых относительно безобидных лекарств.
Мой подвиг с удалением аппендикса был вынужденным. Из-за нелетной погоды больного не смогли эвакуировать в госпиталь, у него уже начинался перитонит, и был реальный шанс умереть. Так что мне самому пришлось делать операцию под радиоруководством военного хирурга, рискнувшего своими погонами ради спасения жизни солдата.
Как ни странно, все прошло довольно гладко, но страха мы с этим военврачом натерпелись великого.
Главное правило, которому я мог следовать с открытой душой, было: «Не навреди!». С «вылечи» дело обстояло значительно сложнее.
– У вас что, кроме меня, в городе лекарей нет? – сердито спросил я служку.
– Есть, батюшка, немец один есть, так его не сыскали. Уехали они, а куда – неведомо.
Про Винера я и сам был в курсе дела. Архиерейская коляска, на которой за мной приехал чернец, оказалась большой, неуклюжей, но на мягких рессорах и с полотняным тентом.
Я сел на кожаную подушку, набитую, как было принято, конским волосом. Служка скромно пристроился рядом, и тучный кучер тут же тронул лошадей. Мы не спеша покатили к большей из двух городских церквей. По дороге я спросил служку, что случилось с архиереем.
– Занедужили они ночью. Очень маются, – неопределенно ответил он.
Что такое архиерей, я знал весьма приблизительно. Ясно было только, что это какой-то церковный начальник. Просить разъяснения у служки я не рискнул, чтобы не вызвать подозрений своей странной теологической безграмотностью.
Мы подъехали к одноэтажному кирпичному дому под зеленой крышей. На крыльце меня ждал дородный священник, по-видимому, отец Никодим. Был он очень взволнован.
– Горе-то какое! – сказал он низким, зычным голосом, припадая на букву «О». – Володыко, дай Бог ему здоровья, помирает.
Священник перекрестился, перекрестил заодно меня и, суетясь, пошел вперед показывать дорогу. Мы вошли в большую, светлую комнату, где на широкой деревянной кровати, утопая в перине, лежал худощавый пожилой человек с искаженным от боли лицом.
Я для порядка перекрестился на иконостас, украшающий красный угол. Сделал я это, по недостатку опыта, не очень ловко, однако, на это никто не обратил внимания.
– Что случилось, ваше преосвященство? – спросил я, подойдя к постели больного.
– За грехи мне муки, – ответил архиерей слабым голосом, – помираю…
Я взял старика за запястье и проверил пульс. Он был вполне приличный для его возраста, с хорошим наполнением.
– Сесть сможете?
– Шевельнуться не могу, не токмо, что сесть.
– Болит-то у вас где?
– Везде болит, сыне.
Я чуть не засмеялся, вспомнив анекдот про боли во всем теле. «Куда ни ткну пальцем, везде дикая боль», – жалуется больной доктору. «Это у вас палец сломан», – поставил диагноз врач.
– Батюшка, – обратился я к отцу Никодиму, – помогите снять с владыки рубашку.
Мы осторожно приподняли архиерея и стащили с него рубаху. Старик мученически стонал, призывая Господа укрепить его силы и прервать мучения.
У бедолаги оказался зверский опоясывающий фурункулез. Я с облегчением вздохнул. Болезнь эта неприятная, но не смертельная. В нормальной амбулатории справиться с фурункулами было бы плевым делом: УВЧ, ультрафиолет, антибиотики… Я поднял глаза к потолку и задумался. Фурункулез только начинался, и, пока чирьи не созреют, и их можно будет вскрыть, владыке придется лежать на животе неделю в мучениях и униженной зависимости от судна и утки.
Больной и свидетели с благоговением следили за моими раздумьями.