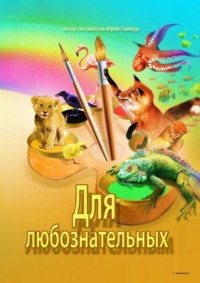Полная версия
Потом пришли буржуины
Москва происходит от старо-марийских слов «моска» – «медведь» и «ава» – «мать». Медведица – большая охотница рода. Так называли это первое городище древнейшие обитатели этих мест.
Поздняя версия «моства», местность, имеющая множество мостов. Мост – общеславянского происхождения, буквально – «переброшенное через что-то». Только в пределах города Москва-река делает 11 больших петель, и без мостов не обойтись.
Многое чего увидел и узнал Андрей даже за несколько дней, проведённых в столице. А ещё посетил провинциал кооперативный туалет. Словно в музее побывал.
Спешит московское лето в сарафане. Сочная грудь подпрыгивает, молоко прокисает. Жара.
А в кооперативном туалете прохладно и чисто. Салон раскрыт, как рояль – отполированный кафельный блеск и перламутровое сияние унитазов. Музицируй, маэстро. Шаркнул ножкой и заскользил по стерильному кафелю. Извлек, то что необходимо, исполнил журчащее адажио. Полюбовался чарующей флейтой. Фаянсовый унитаз золотую струю поглотил. И не отрыгнул даже. Пальцы на кнопки пуговиц нажимают с удовольствием. Завораживающее вдохновение. Мраморные бюсты писсуаров заголились и бьют хрустальными родниками. Зеркальный мираж струится ангельской симфонией.
Жабрами души вздохнули ягодицы. Высовываясь взволнованно из приспущенных штанов, озирая сияющую галерею. Дыша духами и туманами. Пьяные от запаха счастья. Какая голова не мечтает быть задницей в кооперативном туалете? Вышел Андрей из подземелья – поклон впечатлениям. Спросил, когда еще приходить можно. Любезному швейцару на чай оставил. И ушёл, как господин.
Казалось, какие замечательные перемены готовит будущее.
Но всё окажется с точностью до наоборот. Страна сама превратится в сортир и польются туда помои и отбросы, и с голой задницей останется снова одураченный обыватель.
Полыхали в христианских кострах идолы язычников. И отпевали алые звёзды Кремля христианство. А пятиконечный крест под куполом неба возводили советские зодчие, под созвездием Серпа и Молота. А потом сбрасывали и серпасто-молоткастых идолов.
Каждого принимала земля своими ладонями. Всё видела. В памяти её, как в святом писании – дремучей мудростью пролегла судьба человеческая – не разгадать, а как на ладони. Чёрным по белому. Не переписать начисто, не вычеркнуть вещего слова. Каждая литера тяжела прожитым бременем.
Грешна она или праведна – всему судья истина. Будет распятие и воскресение. Грехи и покаяние. Будни-свята. Праздники-праздность. Святотатство-святость. Каждый, живя сейчас, уже не помнит, что жил вчера. Это помнит его память – загробная жизнь человечества. Что уготовано ему там – то, что было. Эдем и проклятия – кошмар и гений. Много тому примеров, как совершалость человеческое предательство: Каин и Авель, Иуда и Христос, Брут и Цезарь. И делают это плечом к плечу стоящие за спиной. Так было… и будет, потому что не мы придумали мир. Всё видела земля. Ничем её не удивишь. Погружается она в летаргическую вечность.
Близился 1991-й год.
А Роза Андреевна, R/A9kmm, заглянула на 1000лет назад.
991-й год от рождества Христова
Выкукарели петухи солнце. Старательно, голосисто, как архиереи. Появилось оно – кроваво-чистое и свежее под лазурными образами, как петушок на палочке. И сладко засияло.
Облизало влажными лучами деревянные резные узоры крыш. Умыла лаской, склонившись над былинкой. Сочно брызнуло в глаза спелостью и растеклось малиною по слюдяному оконцу. Забродило ажурной пеною солнечных пушинок, пригревая.
Розовый день заворочался, как первенец в колыбели, готовый чирикнуть первое слово, ещё сонный и неразбуженный.
Проклюнулось к свету око божьей пташки. Глотнуло небесную росинку. Напилось. Щебетанием прополоскало горлышко. Родничком забилась пернатая душа. И вырвалась на больших крыльях.
Спала, как дитя Ягода, жена зодчего. Молодая, сахарная, с губами-вишнями. Сама невесомым пёрышком соскользнула на перину. А оттуда – в поднебесье. Где на легкокрылых челнах утопают в воздушных озёрах сны, выплывая на зорьке… А внизу Волхов, ак зеркало сияет. Блёска серебристым животом рыбки играет. Жмурится Ягода. Запуталась в расплетённой косе горячая ладонь, как невольница. Утро парное, с белой пеной облака, неволит лишь лаской. Разливается безбрежностью. Небо в окошко проливает. Настаивается день. А сон ещё нежностью балует. Солнечный лучик – прыг на щёку рыжей мысью, пушистым лучом щекочет веснушки. Смотрит зодчий Лодь на свою жену, улыбается.
С неё деревянную статуэтку княжны Лыбедь резал, и жёнки лик вправил туда, как яшму. Фигурки: Кия, его братьев и его жены, Ягоды, теперь у Владимира Киевского в хоромах. В светлице у лучезарного. Вдохновляют Великого князя. Побежала юркая тень по резному подоконнику, проваливаясь в рассохшиеся прожилки. Заскользила по срубу выше, где золоченые петушки и рыбки на солнце в бликах нежатся.
Сотворял Лодь резные узоры, словно пальцами лепил. Человеческих богов вырезал.
И сейчас в чуткой ладони мастера, как воск изгибалось мягкое тело дерева. Набухало жизнью, как янтарным соком смолы. Открывалось глубокие веко, будто под рукой целителя. Светлый лик расправлял крылом брыли, наполняя чело мыслью. Скользила ладонь по пасхальному лбу, шевельнулась под ней морщинка-жилка, зазвенела тонкой паутинкой луча.
Прорастала сухая сердцевина мадонной. Потянулась лебяжьей шеей, распустилась бутоном пальцев, лепесток мизинца оделся в полированный ноготок. Вздохнуло чело младенца душой мастера. Как от подземных вод пуповиной тянется бьющийся родничок. Как вечевой колокол вдыхает душу исполина в бубенчик-первенец, поделившись жизнью.
Выставил фигуру Лодь. Налетела стайка солнечных зайчиков. Бросил им лучей Ярило на подоконник, успокоились.
Снял он фартук. Завернул в холщёвину детище. И к воеводе подался. Суров был боярин. Не любил ждать. Велел с петухами пред ясны очи расшаркаться. День набирался сиянием. Полноводило голубизной небо. В воздушной глубине парила сойка. Босое бабье лето ступней катало росу. Дышала облаками земля. Из-под камня выбирался подорожник, расправляя жилистый передник, подсобив придавленной травинке выправить тщедушный стебель.
Заспанный злыдень подставлял под хмельную рожу пригоршню, умываясь грязью. За изгородью задирала подол баба, справляя нужду под лопухом.
В боярских хоромах просыпались, шлёпая подошвой. Не спал воевода новгородский. Не ложился в опочивальне, лишь пояс расстегнул. Лёгкая дрема под утро нырнула в слезящийся глаз и веком укрылась. Как порубал Добрыня деревянного идола на Перинь-горе, красные петухи теперь кукарекали зарю. Рябиновые капли с неба склёвывали. Крыши от огнища коробились. Востро глаз держал он. Да кровоточило сердце, железными шпорами терзало грудь, как кочет.
Посадские разбойничью башку поднимают. Человек на тайную подлость способен. Не верил Добрыня ни в Перуна, ни в Христа. Верил в князя Владимира. Да, далеко Киевский.
Скрипит половица. Мысль подтачивает душу. Лихое время… В палате душно. Зачерпнул кринкой воды, вылил на пол. Пыль прибил. За окном посадская площадь. Распахнула людное место пчельницей. Гулом наполняется. По терему смерды шастают. В палатах жены тихо. Воробей солнцу чирикает – жив, жив! Улыбнулся он малой птахе. Вольницу горлом празднует. Тяготят раздумья. Не люб Добрыня Новому городу. Знает о том. Хрустнул перстами. Прошёлся. Опрокинул тёплый глоток ковшом.
Вошел тиун: – Мастеровой прибыл.
Дверь за собою по-хозяйски плотно прикрыл, оставив отрока.
Слышал боярин про ремесленника. Знатен был Лодь рукодельной резьбой. Хоча лицом юн. Резал, посадским и боярским зодчим подсоблял. Подошёл к мастеровому воевода. Заглянул на отрока. Перстень с малахитом на сухой деснице каменной прожилкой играет. Ухватил он цепко лучик – из него сияние брызнуло. Рукав расписной, красной змейкой вьётся, с глазами-бусинками. И рыкающий зверь на медной бляхе. Великим князем жалован за крещение Новгорода.
Подивился Лодь осторожно. Свою работу распеленал из тряпицы. Глаза поднял.
Резной работы фигурки матери и дитяти. Чадо она свое пестует. В ладони мастера будто дышит грудь её и младенец чмокает. Божья мать – ак человечья. Дитя своё, Иисуса пестует.
Взял воевода, отошёл. Присел на скамью. Усадил крепкое тело и на фигурку пялится. Водит глазом ласково. На скамье поручень резной. Дракон заглатывает жалом заплетенный в косу солнечный луч. Затейливо выполнено.
Коснулся мастер головы змия. Щупает незрячими пальцами, будто видит ими. Зыркнул воевода оком на зодчего. На белом челе жилка пульсирует теменным родничком. Очи блаженные. Перстом придавить может жизнь вельможа. Сломать, как деревянную скорлупу.
А на божьей матери плащаница уложена складочками, словно в китайский шёлк одета. Личико младенца нежно-крохотно резьбой исписано – подлинно жизнь в нём. Зодчий будто из дерева вынул человеков. В Византии таковых нет.
– Чудно режешь, хлоп. Лепо. Не обидел Перун тебя рукоделием.
Забылся отрок. В глазах синица щебечет.
– Так нету бога нашего, Перуна, воевода. Порубал ты его.
Боярин поделкою тешится, а ухо вострую дерзость выхватило, как пичужку. Фьють, из клети не выпорхнуть.
– Сказывай, зодчий, что в Новом городе промеж себя бают?
– Мой сказ обменяешь на голову, боярин, так ведь?
– Твоя башка не лисья шапка, руки дороже. За них гривнами платят. Это язык дурь баламутит.
Не тать аз Новгороду – дремучесть его. Волхвы сулят старую веру. Ромеи – новую. Не в деревянном идоле вера, отроче, но в сердце. Аз есмь пёс княжий и человек ратный. А в Новгороде воевода и власть. Бог отныне – Христос у нас. Сам ведаешь. Он господь всея Руси. Из-за моря прибыл с Великим князем. Посему – токмо тому и быть. Промолвлю вот что. Справедливо сие или нет – воля Великого Киевского. Ни тебе дерзость мне молвить, ни мне словом прелестным тебя угощать. А как изделать, чтобы этот бог до сердца дошёл, ежели порублен Перун в сердце твоем – сам намысли.
Встал воевода, заскрипела половица… Буд-то по телу прошкребла.
– А язык проглоти, паря, не то быть тебе в железе. А укажет на тебя холуй или ябедник по доносу – не помилую. Хоча среди мастеровых сам ты княжич.
– Живи многие лета, боярин. Спаси тя твой бог.
Вышел Лодь от воеводы, будто вдругорядь народился. Кому помолиться: Перуну или Богоматери? 3а милость боярскую. Лют был воевода, а слово держал.
Только всадил мастеру нож помеж лопаток соплеменник. Кровный новгородец, не тать, не печенег. За вероотступническое рукоделие. Оплакала его Ягода. Губами-вишнями холодные уста запечатала. Очи мужа перстами закрыла. Похоронила по-христиански мастера. Время ковыльный сугроб намело. Поросло памятью. В её утробе ворочается душа зодчего. Режет христианского идола Лодь.
Не отворяет воевода крамницу, где из срубленной головы Перуна резная Дева Мария с младенцем Христом народилась под святой рукой вольного мастера. Томится пленницей.
Дрожит над льдом Волхова кровавый сгусток солнца. Сам себя не греет. Закат студеные зарницы наливает в небесный купол. Угасает белёсый день вечером. Чадит лампадой жидкий месяц. Хрустит крещенский мороз. Озябший воробей не долетел под тепло крыши. Упал комок перьев, закоченел. Подняла его Ягода, в рукавицу сунула. Пусто, уже нет жизни. Мороз и в её черную косу пробрался. Седину лентами вплел.
Сочно заискрили звезды. Неволит тайну небесный купол. Невидим глаз божий, а сила чёрного неба душу высасывает, влечёт, как дьявол в прорву – не оторвать очей. Крестят купола храма небо.
Стольничий в енотовой шапке по улице едет. Ноздри всадника и коня дымят густым паром. Копыта в снег, как в полыньи проваливаются, увязают в сугроб. Паршивый пёс для порядка увязался лаем. Понёс злобу по улице и сник. В оконцах тепло ёжится.
Въехал на подворье служивый, спрыгнул, бряцая железом. Захрустела под сапогом снежная пороша. На порожек впрыгнул по-молодецки. К воеводе с депешей из столичного града. Носки от снега оббил.
Старость боярскую бороду приморозила. Бляху с восковицей зеленью покрыла. Не смотрится боярин грозно. Кожаные ремешки дряблостью схвачены. Морщины, как по вязу прошли. Изрубили лицо шрамами. В руке немочь, но пергамент держит твердо. В стариковском зрачке свеча мерцает. С божницы Иисус склонился – Читай, отче. Читает воевода губами, как молитву. По изразцам печи тени бесами пляшут.
– Скончался Великий князь Киевский.
Сложил сухую ладонь перстами. Помолился образам Добрыня.
– Земля ему пухом.
По половице мышь к теплу юркнула. Последней вознёю угомонилась челядь. Достал старец статуэтку. Огонь пробежал по морщинистым жилам дерева, прячась в резных складках. Осветилось чело. Рассохлось, но не утеряло свежести земляное лицо богоматери. Почернел лишь амулет. В глубоких глазах мадонны та же скорбь. Обнимает чадо деревянными ручонками мать. Будто нету времени для младенца Христа. Смутно вспомнил Добрыня серебряные глаза Перуна на Перинь-горе. И чело мастера-зодчего с синей жилкою на лбу. И лик Великого князя Владимира. Замерцал стариковский глаз.
Режут язычники идолов. Оставляя в дереве кусочек жизни. Богомазы пишут Иисуса…
– Княже, княже, раб божий. В сердце угасает жизнь, а в деревяшке живет.
За окном поутру вновь раззолотится куполами храм. И ангелы будут перья чистить на солнце. Осеняют себя крестом новгородцы. Раб вымаливает у скудной жизни кроху. Господин бавится роскошью, как дитя игрушкой. Воевода хлебное место псом стережет. Мастер славу кистью пишет. Все берут бога за горло – Дай!
Только смерть христианская и уравняет щедро: равенством и братством, чёрной землею насытит. Тогда побратаются усопшие вечной любовью к ближнему.
Густая ночь выдавила каплю-звезду на чёрном лике неба. Мороз-златокузнец сковал её в обруч ледяным сиянием – в мерцающую свечу – за упокой. Чадила тёплым угаром печь. Дышал на ладан Христос. Новгородский воевода скончался поутру.
А день снова рождал и отпускал на волю, как пташек, души божьи. Выплескивала множество жизней земля. Они суетились молодостью, глупостью, прыгали, щебетали, прорастали, зрели. Напивались сил, лакая из пригоршней, из луж, из блюдца, черпая из ковша и чмокая из материнской груди.
Колосилось время. Срубили пятиконечный крест палашом перестройки. И заново крестили Новую Русь в Старую веру. Но геральдический знак советской пентаграммы, отпечатавшийся в душе, кому-то был свят и дорог. И тот тоже произносил: «Спаси и сохрани».
Выпорхнула душа воеводы Новгородского через тысячу лет из вечности. Вызвали её демоны терзать. Вечно маяться ей между чьим-то грехом и своим покаянием. В час, когда совершается измена.
Предательство Руси не раз будет совершено её верховной властью. Но это было одно из самых подлых и изощрённых – измена своей веры и веры пращуров.

1991 год от рождества Христова
И снова масштабное предательство, совершённое изменниками, стоящими у власти, спустя 1000 лет… Для истории это не срок – мгновение…
Тогда, всё усиленно поливалось помоями, удобряя почву для новой идеологии управляемого идиотизма. Всё шло на свалку истории во имя светлого будущего паразитов. А на подмостках вертепа разыгрывались сцены абсурда. Эпоха недолгого правления первого и последнего президента Советской державы была стремительной и мрачной. Горбатый меченый разрушитель, наломал прилично дров, так ничего не построив и не перестроив… и подалось это ничтожество на запад, торговать мордой и пицой…
R/Вm, т.е., рабочая биомасса, а тогда ещё свободные граждане свободной страны, были готовы не щадить себя, во имя светлого будущего. Готовы сражаться и умирать за свою Родину, готовы верить в чистые идеалы. Готовы ждать эру светлых годов.
Но их предали. Изменниками оказались те, которые вели к этому «светлому будущему». К концу 80-х прошлого столетия, моральное разложение номенклатурной элиты достигло своего апогея.
Владельцами фабрик и заводов, которые строили поколения трудящихся, стала кучка начальников и функционеров ВЛКСМ и КПСС, были такие лже-патриотические общины. Численность партийной номенклатуры в те времена составляла 3 000 000 паразитов! Ничего не делающих болтунов, протирающих штаны и юбки в уютных креслах. Они превращались из «товарищей» в господ феодалов. Они и стали первыми капиталистами активно участвовавшими в собственном обогащении и развале страны.
«Во имя чего и зачем разрушена и моя жизнь, и уничтожено миллионы других судеб?
Во имя блага паразитов?! Зачем же этих паразитов взращивали, как в инкубаторе? Может, тоже диверсия?» – с опаской подумала R/A9kmm…
Советская сверхдержава, канула в вечность, подобно легендарной Атлантиде. Гибель этой великой цивилизации стала трагедией планетарного масштаба, сравнимой лишь с падением Римской империи. И страна была не просто уничтожена врагами, но посмертно оболгана, обесчещена, утоплена в грязи и помоях.
Десятилетиями людей грабила сидящая у них на головах власть, а точнее, колониальная администрация, а они радовались, что наступила свобода и можно делать всё, что хочется. Из страны выводились миллиарды, потому что всё стало можно. Для того и дали свободу…
И нынешние R/Вm – рабочая биомасса, радовалась, хотя никто наверху их не слушал, наоборот это они слушали, что им говорят сверху.
Сначала, рабочая толпа, с маркировкой R/Вm, ходила на какие-то выборы, выбирая, как ей казалось, добрых своих пастухов… Потом, толпу просто загнали в стойло, вернее, они сами туда зашли… как послушное стадо, идущее за сладкой морковкой…
А смотрящие буржуины даже дали определение этому послушному стаду, с маркировкой на запястье, R/Вm – «умное копыто»…
Вот так… Хотя, падение Великой державы, СССР, началось задолго до этого… медленное и не заметное для обывателя, приближая крах советской империи. Шаг за шагом теневые структуры будут разрушать науку и культуру, промышленность, экономику и идеологию, а главное, ломать психику советского человека. И в итоге, чтобы наконец-то вылепить из советского гражданина совкового дегенерата, который за джинсы и жвачку будет унижаться перед западом… людей приводят к оскотиниванию. Население в 200 миллионов людей будут ходить в одних и тех же носках, инженерная элита будет одета в тряпки, подтираться газетами, единственный холодильник на всю страну выходит с ручкой от ЗИЛа… Диверсии на предприятиях приводят к техногенным катастрофам, таким как Чернобыль.
Страна будет трещать по швам…
Однако, чем дальше от Советской эпохи, тем более очевидной становится простая истина: СССР был не империей зла, как шипел запад, а потерянным раем…
Роза Андреевна, R/A9kmm, остановила просмотр. Достаточно… слишком опасно заглядывать в запрещённое прошлое… Настоящее было совсем другим. Но она знала, что история государств скрытна и запутана и пишется в угоду сильному. Потому всегда очень сложно докопаться до подлинной сути вещей. Но есть логика и здравый смысл – путеводная звезда идущего вперёд.
Кавалеры ордена Лукоморья
«У лукоморья дуб зелёный,Златая цепь на дубе том…»А. ПушкинВ этот день Андрей не пошёл шляться по достопримечательностям. Впечатлений было достаточно. А духота отупляла сонное тело ленью. Только беспокойная Лейла сновала туда и сюда по комнате.
Квартира Лейлы представляла собой гардеробную, в которой она всё время занималась подборкой всевозможного женского белья, для выхода в свет. Постоянно она притаскивала в дом какую-то вещь и вещичку, и примеряла обновку. Потом забывала о ней и тянула в гнёздышко новую блестящую цацку-пецку и штучку-дрючку.
А женщина, особа эмансипированная, поэтому носить может всё. И даже мужские семейные трусы. Мужик же бабское бельё напялит, в сексуальное меньшинство запишут. И где половое равенство?
Парадигма женского равенства – проталкивание им шмоток. Результат: вы заходите в магазин и видите горы никому не нужного барахла, никому непотребного.., кроме впечатлительных и возбуждённых очей ваших милых созданий. И это не барахло вовсе, а ценные шмотки, принадлежности аксессуаров бесчисленного дамского туалета, изыск галантерейного вкуса и писк души. Но дамские трусишки в две полоски стоят, как шуба, а о шубе вообще забыть…
А империалисты предприимчивые и тут сообразили – «Добро пожаловать в секонд хэнд».
Традиция эта появилась в старой доброй Англии, вельможа прислуге, с барского плеча, жаловал кафтан. Вот и к нам такая роскошь заехала. С барской дамской задницы – трусишки-неделька. Солидно и дёшево. Фифа заграничная, должно быть, их всего-то неделю и тягала.
Другое дело восток, где женскому персоналу выдаётся одноразовая паранджа.
И… будьте любезны, носите, хоть недельку, хоть пожизненно. И не потому, что жмотистые эмиры или шейхи. Восток – дело тонкое. Порядок любит.
Андрей зачитывал Лейле «кодекс женщин востока»
– Зато мужики ихние водку «дринкают» изредко и по ночам, чтоб аллах не видел, а не «глушат» круглосуточно и еженедельно, как наши.
Вот и вся женская логика.
Сегодня снова Лейла занималась подборкой вечернего туалета.
– Ты помнишь, куда мы вечером идём?
– Конечно, к Фире Самуэйловне, на спиритический банкет.
– Тёте Фире приснилось вчера нечто неприличное. Словом, кал. Я посмотрела по соннику, это к деньгам.
– И снится чудный сон Татьяне…
– В гостях не паясничай.
Андрей повернулся к телевизору. По ящику выступал колоритный юморист, пародируя то ли лингвиста, то ли юриста. Он виртуозно цитировал поговорки на разных языках, блистая учёностью. Заступался за бедных и журил богатых, и наоборот. Говорил о законе и беззаконии. По ходу, на повышенных тонах, обзывал «подонками» и «негодяями», воображаемых и несогласных оппонентов. То ли бранился по-отечески, то ли чувственно переживал от сердца, было не понятно. Оратор увлекал толпу крепкими выражениями, театральной мимикой и жестикуляцией, входя честно в образ по системе Станиславского.
Это Жириковский, «новый русский» политик – пояснила Лейла.
Всё было необычно и зрелищно, забавно и интересно, потому, что такого ещё не было. А глава государства, напротив, излучал глубокое добродушие и, находясь хорошо под мухой, пародировал сам себя, к удовольствию публики.
Позже поймёт Андрей, что на цирковой арене страны, каждый по-своему изощряясь, привлекал внимание к собственной персоне. Изобретательно демонстрируя новую мораль: «Всё, что плохо – это очень хорошо, а если гадко – вовсе замечательно! А мерзко – брависсимо!!!»
Аплодисменты.
В гостях Лейлу встречали, как японского дипломата. Она любезно жеманилась. Цвела и пахла веткой сакуры. Подставляла целовать ручку Марку Израйлевичу. Важно нашёптывала тёте Фире грандиозную чепуху и по-приятельски хихикала, выпрыгивая плечиками из блузы.
Фира Самуэйловна жаловалась на суровую жизнь, накрывая на стол. Увесистые фарфоровые блюда музейными экспонатами возникали на белой скатерти. Глубокую китайскую салатницу с ажурными кружевными боками окружили разнообразные формы живописных тарелок, раскрываясь фарфоровыми бутонами. Демонстрируя столовую роскошь.
– Хорошие сны снятся тёте Фире, – шепнул Андрей Лейлочке.
С китайской улыбкой она теребила отполированным коготком золотую цепочку с кулоном. Хозяйка выплывала из кухни с хрустальной вазой.
Андрей вышел на балкон. Выпустила огонёк зажигалка. Язычок облизал сигарету пламенем и спрятался, как маленький злобный демон.
Появился двоюродный племянник Марка Израйлевича, Боба Маркович с супругой Жужей и увесистой золотой цепью на шее.

Андрей заметил, что у всей приходящих и уже пришедших, золотая цепура являлась, обязательным атрибутом, как у дуба, который произрастал у известного лукоморья.
Лейла представила его Андрею – Боба, мой бывший муж.
Боба, в свою очередь, представил бывшей жене нынешнюю супругу. Потом Жужа и Боба обнялись и, как дружная семья, закурили на брудершафт. Супруга Бобы жадно поедала дым, стреляя утомленным глазом. Черная ресница крылом бабочки разгоняла волшебное облако.
– Не могу избавиться от назойливой привычки, – по-приятельски призналась она Андрею, кокетливо выпуская колечко, вертя в пальчиках изящную сигаретку.
– Да, месть индейцев европейской цивилизации. Ничто не проходит бесследно.
Огоньками сигарет замигало небо. Сизый дым млечного пути потянулся от балкона в чёрную таинственную бесконечность геометрических созвездий над головой. А город, отражаясь внизу, раскуривал свои земные жизни. Посыпая голову пеплом.
Тётя Фира еще хлопотала у стола. Он, как ювелирная витрина, наполнялся громадой дефицитного изобилия, накреняясь.
Боба Маркович втихаря потягивал рюмочку. Андрей снова закурил. Нога Жужи, как киска, потерлась о его штанину. Андрей деликатно погладил ее через шёлковую вуаль платьица, и подался с балкона, во избежание недоразумений с хозяином этого домашнего животного.