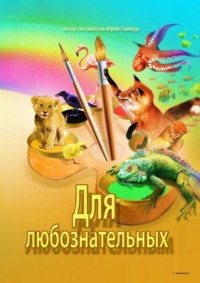Полная версия
Потом пришли буржуины
– Вот гад, меняет нашу картошку на самогон.
Замусоленные и домовитые личности появлялись с чёрного хода, скликая дедка стеклянным перезвоном. Бойкая торговля шла до глубокой ночи. Взмыленный сторож волочил последний мешок, рассыпая репчатый лук по бездорожью. Скользя на раздавленных картофельных огрызках и морковной ботве. Его бросало в стороны, как на штормящем ботике. Скрюченными пальцами он удерживал мешковину, взбадриваясь пиратской бранью. Обменяв удачно сокровища на достойную порцию рома. Украсть уже было нечего. Дядя Алёкся загрустил.
Выкатила жёлтое бельмо луна, подсматривая из-за рваного облака за законным разбоем. Одичавшую песню затянул цепняк, демонстрируя важно новый брезентовый ошейник.
Хищное око дяди Алексии всё же присмотрело добычу – увесистый драный мешок, набитый почти доверху мелкими картофелинками, замаскированный завявшим лопухом. Товар предназначался для домашнего питомца сторожа, хрюкающего в его будочке. Хряк с удовольствием лопал этот деликатес, разбавленный с помоями.
В трезвой башке дяди Алексии снова сработала предприимчивая мысль. Он уже торопился, продираясь сквозь ночь. Ценный чувал пригибал его к земле. Товар предстояло обменять на равноценное количество первача. Дядя Алёкся ликовал, выплетая подошвой мудреный самогонный краковяк.
Он уже будил Пипыча, чтобы похвастаться добычей. Пипыч сунул голову в пыльную мешковину, рассматривая картофельный казус. Щедрый гостинец не внушал серьезной сытости. Он уставился на наставника, тупо изображая глубокую пионерскую преданность. Для гороха это был бы весьма солидный бобовый корнеплод. А для картофеля – земляные орешки.
– Это ж голландский картофель, ценится, как трюфеля.
Пипыч недоуменно зачерпнул и высыпал на ладонь рассыпчатые картофельные шарики, дробные, как горох.
– Одуренная чепуха…
– Приобрёл, по случаю. Товар нормальный.
Дядя Алёкся сам подозрительно рассматривал свою находку. Пипыч недоверчиво перебирал мелкие жёлтые клубни.
– Отлетит, аж бегом, – успокоил дядя Алёкся, потирая красные лапы.
– Чудный картофель. Выпуливайся с товаром.
Пипыч угрюмо нахлобучивал на спину чувал, как верблюд порочный горб, доставшийся по наследству. И шагнул в черную пустоту ночи, гадко сплюнув липким плевком в паутину. Безработный паучок радостно ломанул навстречу болтающейся гуманитарной помощи, доставшейся на шару.
А Пипыч уже шлёпал по улице на ближайший огонёк.
Детство баловало его ленивой роскошью. Из изысканного сервиса вундеркинда он выковыривал свою изюминку.
Отца его знали и уважали. Старый Изумруд вылепливал слепыми пальцами авторитет чудотворца.
За чудеса платили крохи, выжимая из скупости капли. Вся жизнь его протекла сквозь горбатые пальцы, батрачившие на «бедных» толстосумов. Но он её не жалел, раздавая талант близким и незнакомым, детям и просто людям, всем, кому служил верой и правдой.
Выращенный талант, как зерно надежды, он вкладывал в младшего сына. Позднего, доморощенного, с нежной тепличной кожей. Чувствуя слепым зрением, как превращается одомашненный кукушонок с жирными крылышками из нежного стебелька мимозы в бесформенное нутро с именем, прилипшим из блатной подворотни – Пипыч. Похожим на раздавленную клизму.
Когда повзрослевшая дочь выпорхнула в замужество, супруга покинула незрячего инвалида вместе с гениальным отпрыском. Фундаментальное творение слепого зодчего дало первую невидимую трещину. И побежала она, паутиной оплетая дом. Высасывая творчество мастера отовсюду, как раковая болезнь, оставляя скелет рухляди.
Первая молодость Пипыча не была безысходна. Гениальные гены отца ворочались под рёбрами. Пинками побуждая к созидательной конструкции хитрую мозговую извилину.
Пипыч, вышколенный подворотней, степенно превращался в пижона уголовного колледжа, проявляя криминальный талант, не размениваясь по мелочам. Начал он с хрустящей купюры с изображением вождя, достоинством в сто советских рублей.
Из шуршащей груды купюр папаши он собрал одну неподдельно новенькую. С изобретательным хирургическим мастерством разрезая тонкими полосочками и склеивая с последовательным совершенством. Звенящее лезвие скальпеля производило 68 надрезов. Из сотни сторублёвых купюр получалось – сто два денежного знака. Две сторублёвки его, Пипыча! Будто свеженапечатанные они были без видимых изъянов, сохраняя все прежние достоинства, изумляя невооруженный глаз и чувствительный пальчик продавца. Сотки с хрустом отлетали. Маэстро-младший принялся за работу, продолжая опасный опыт, как Нобель над гремучим газом, изобретая динамит.
И оно разорвалось. Бабахнув Пипычу семь лет с конфискацией.
Связи расторопной мамаши, сбережения старого Изумруда и «психически неполноценное здоровье» криминального вундеркинда, которое сфабриковали Пипычу, свели срок до четырехлетнего минимума.
Вышел Пипыч через два года, зашуганный и мрачный. Усердный талант свой навсегда закопав возле мусорной параши, и на могилу помочился. И улизнув по болезни от армейской службы, принял должность отставного коменданта особнячка папани.
Тут и вынырнул старый кореш из глубины детства. С которым они встретились по нечаянной случайности судьбы, как дальние родственники, за железными воротами закона.
Умершего папашу ему безнадежно заменил дядя Алёкся. Примазавшись в крестные отцы уголовного гения. Время снова попустило вожжи. Пипычу удалось отыграть загубленный талант в карты. Но жизнь опять врезала ему локтем в сопатку. И он притих, скатившись до мелких самогонных шулерств. В чём снова проявлял гениальность бакалавра шарлатанства из знатной подворотни.
Тихая ночь оказалась злобной, как шавка, цапнувшая из переулков темноты. Пипыча гнали отовсюду с попрошайным мешком. Он тупо волочил его за собой, как нализавшийся вурдалак грыжу.
И лишь под утро чудная девушка Куличка, сексуально разжалобившись, приголубила его мутными остатками браги. Пипыч нудно изливал горькую гнусность жизни, нализавшись её липкого тела, запивая густо-кофейным жмыхом вонючего пойла. Но, малость протрезвевший подозрительный сожитель шустрой барышни, любезно угостил его дрыном по рёбрам, поймав у секретного бидона с брагой в кладовой. Радушной хозяйке пришлось потурить бухого героя-любовника.
Свежее солнце спелыми ядреными утренними лучами разъедало глаза.
Раскачиваясь, как пьяный вампир, насосавшись смертельной трупной дозы, он возник перед дядей Алёксей, приветствуя светской наглостью шальных кроличьих глаз. Ноги и сознание отказывали ему.
Медная морда дяди Алёкси закипала, как чайник.
– Где чемергез?
Пипыч преданно замычал.
– Самогон где, мелкая сволочь?!
– Всё алес-гут… – последнее, что простонал он, выдавливая нечленораздельное жидкое оскорбление…
– Не гони беса… Алёкся…
И завалился на приёмного родственника. Изнервничавший дядя Алёкся напрасно хлестал его измочаленной бамбуковой тростью, как мухобойкой. Она отскакивала от деревянного тела, как каучуковая дубинка. Андрей отстранил его от экзекуции. Констатировав летальный исход от смертельной дозы жизни.
Сын гениального Изумруда скончался, не приходя к сознательной трезвости. Игнорируя белый свет циничной улыбкой, запечатавшей синие губы.
Одинокая траурная лента, вплетённая в прощальный могильный венок, трепыхалась, как обрывок с бескозырки вольного пирата беспечно «чудной» судьбы… Скупая прозаичная эпитафия – «Игорьку от сестры» – открыла его имя, вытащив из мусора, посмертно.
Дядя Алёкся заливал стеклянные глаза горючей слезой. И после сжатых похорон растворился, как демонический дух – хранитель потухшего самогонного очага.
Что адские муки, которыми стращают религиозно больные старушки, против кромешной жизни? Райское похмелье.
Но и в пекло заберется запойная рыжая субстанция забулдыжного родственника, как трутень в медовый улей, налакаться огненной смолы от пуза. И там найдет упоение.
Пугает сатана, нализавшегося до чертиков, ужасом белой горячки, как младенца. А самого его, должно быть, раздирает в бреду вечная галлюцинация – кошмар человеческой жизни. А белые херувимы в пернатых халатах натягивают смирение на него.
Спокойное лето накрывало чистой простынёй небо, где могла бы отдохнуть уставшая душа, парящая в облаках. Первая жара слизывала с асфальта горячее тепло, дымила прозрачным воздухом. Солнце размазывало по стёклам лучи, художничая зеркальной кистью. Ухоженный кот, на чужом подоконнике, сонно пускал пыль в глаза воробьям, лоснясь сытой плюшевой шерстью. Пёстрая улица встречала и провожала серьезно глупеющих прохожих.
Андрей попал на центральную площадь города. Где шумное время останавливается, застывая в монументальном величии. Она напомнила ему лобное место на перекрестке историй.
На площади Улан-Удэ огромная бетонная голова вождя лежала словно на плахе, обезглавленная. С застывшими гранитными мышцами лица. Город не замечал скульптурной композиции. А Андрей был ошеломлён, как витязь у мёртвой головы великана. Голова титана спала летаргическим сном, отождествляя замороженную вечность остановившегося времени. Охраняя коммунистическое бессмертие.
О чём думает голова каменного идола? Хранит ли камень память пещерной жизни, когда поклонялась ему, как первому богу?
Андрей оторвал взгляд от магнетической силы площади. И снова погрузился в пёстрый шум и гам города. Он искал дочь мастера Изумруда.
В здании исторического музея Андрей наконец увидел её – живой экспонат красоты в образе смертной женщины. Умных посетителей не было. Спокойная музыка тишины разлилась по его залам. И в глубине, как тень монгольской Офелии, бродила над сокровищницей национальной истории, молодая Кира Изумрудовна.
Андрей снова изумился, прикоснувшись зрением к её родниковой чистоте. Как поэт, столкнувшись лоб в лоб с грацией из сонета. Обаятельная грусть миндалевидных глаз излучала невидимое сияние, по которому узнают святых. Чёрная тугая коса завершала образ женщины из потусторонней мечты. Она волшебно проплывала по паркету, как по плоскости льда.
– Кира, – окликнул он девушку из саги. Эхо мраморной тишины разбудило музыкальную залу.
Кира не хотела говорить об отце. Надежда на взаимность растаяла. И она сама растворилась в тяжелых портьерах служебного входа.
В музее он пробыл долго. В храме истории, как в церкви, становишься сопричастным к тайне. Мысли пьют энергию шедевров.
Развоплощённые астральные духи выплывали из экспонатов, совершая прогулку по времени.
Это можно увидеть так же, как дыхание жизни распускающегося утреннего луча. Когда ты и город – один на один. Прощупывая друг друга тайным вниманием.
Покидая пустые залы и направляясь к выходу, Андрей снова заметил зачарованную женщину. Кира смотрела сквозь стекло двери, в задумчивой позе медиума. Остывающий солнечный луч бликовал на перламутровых дольках серебряной сережки. Соскользнув, скатился по щеке… В зеркалах глаз отражалась стеклянная даль неба.
Но не это поразило Андрея. За спиной женщины качнулся контуром призрачный силуэт, прорисовываясь в чёткую бронзовую фигуру с птичьим, орлиным профилем. Человек-птица, сверкнув ястребиным глазом, повернул голову к нему, заглатывая желтым зрачком его трепетную мысль. Вздрогнула хищная ноздря клюва.
Фантом приобретал устойчивость, будто сам египетский бог Ра сошёл на землю.
Андрей продолжал двигаться к нему, но видение не растворялось.
Он наткнулся на Киру. Пальцами входя в невесомую пустоту духа. Пелена всколыхнулась как вода, и призрак исчез.
Глаза Киры склонились над ним, приводя в душевное равновесие. Испуг уже вспорхнул с бледного лица.
– Что так взволновало вас?
– Ничего. Всё равно не поверите.
Андрей приводил в порядок растрёпанные мысли, извиняясь искренней улыбкой.
– Мне показалось, что за вашей спиной сам бог солнца, Ра, опустился ангелом-хранителем.
Правдивая шутка вызвала неподдельный интерес.
– Со мной может такое происходить.
Серьезное лицо Киры раскрылось.
– Древнее божество – человек-птица? Бронзовое тело с орлиным профилем?
Она подробно описала его видение.
– Да.
– Это и был он – Ра. Верховный бог Солнца.
– Не может быть.
– Но ведь может.
На улице галлюцинация не возобновлялась. Возможно, присутствие людей мешало этому.
Они шли по краю серого тротуара, обходя стремительных прохожих. Постигая друг друга доверчивой беседой, откуда произрастает первое понимание.
– Вы мне напоминаете тунгусскую Синильгу.
– Дух женщины ханты-мансийских аборигенов? Длинноносые европейцы считают нас всех на одно лицо.
Андрей улыбнулся, разглядывая её загадочный восточный овал, как простак Буратино японский профиль фарфоровой Мальвины.
Она уже охотно разговаривала, вспоминая отца. Оступившись нечаянно в запретную тему, полетела туда, как в колодезь с живой водой, возникшей из миража. Гостеприимный сквер впустил их в заповедную зону влюбленных, когда легкий летний ветер шёпотом листьев заговаривал сумерки. И вечер зашторил небо.
Смолянисто-чёрная коса скользила в её пальцах. Она перебирала её, приводя воспоминания в живые образы.
– Отец мог видеть то, чего не видели другие. И он пытался открыть этот мир для них.
Воображение и реальность на одной грани возможности. Добровольно пройтись по лезвию бритвы удаётся тем, кто верит в небесную твердь, даже если там бездна.
Мысленный образ ищет пристанище – форму, где он обретёт устойчивость, согласно космических законов. Как форма колеса, в которую загнан энергетически потенциальный дух вращения.
По светлому небу уже плавно покатилась круглая луна. Забуксовала в серебряных облаках, брызнув звёздным сиянием.
Ясная ночь разлилась над городом. Лунное свечение земли излучали фонари.
Кира повернула свое красивое лицо и тени шмыгнули из уголков глаз в густой воздух ночи. Где набухает интимная близость крошечных звёзд неба, мечтающих о галактике. И где суетятся копошащиеся тела Земли, населяющие насекомыми жизнь. И у каждого, свой час времени.
– В каждом заложена реальная возможность сотворить чудо. Как у канатоходца, идущего под куполом, демонстрирующего беспредельную возможность совершенства организма.
В прозрачных облаках таял фосфорный диск и вновь разгорался от лёгкого дыхания ночного неба.
– Тебя больше не посещает видение призрака? – спросила она.
– Можешь говорить спокойно. Все равно он в твоем подсознании. А значит здесь.
Боковым зрением он стал замечать возникающий силуэт божества.
– Ну вот, он уже среди нас. Совсем рядом.
Не поднимая глаз, Андрей рассматривал его крепкие кисти рук, отливающие лунной медью. Пальцы сильные, длинные, заканчиваются металлическими когтями. Вздрогнуло натянутое сухожилие. Он поднял глаза. На него в упор смотрела орлиная голова с янтарным немигающим зрачком. Колыхнулось сердце. Седое перо на его загривке шевельнул ветер. Призрак был величественно спокоен и молчалив.
– Должно быть, он действительно твой ангел-хранитель.
– Мне не до шуток. Все было бы довольно-таки забавным, если б я его не изваяла таким в мыслях, собственноручно выписав на холсте. Что он сейчас делает?
– Ничего. Слушает.
– А понимает?
– Почему нет. Твое творение.
– В оккультизм я не верила, но всё же, интереса ради, вызывала его с полотна.
– Для чего?
– Чтобы получилось.
– Ну вот и пробил звёздный час мастера.
Кира старалась смотреть в пустоту осмысленно.
– Где он сидит?
Андрей рукой прикоснулся к призраку.
– Ну вот, его и нет.
Через время он опять появился.
– Он питается твоим страхом. Напивается агрессивности. Перестанешь нервничать – разрушишь фантом.
– Когда я его увижу снова?
– Не знаю. Может быть никогда. Это не только твой феномен. У каждого их предостаточно.
Золотую пригоршню звезд по-цыгански бросила ночь в небо. И они разлетелись, как искорки от тлеющего костра земли, где кочующая вольность разбила случайный ночлег.
В ладонь Андрею заползли гибкие пальцы девушки. Укрыться от чёрной зияющей пустоты, погреться нечаянной нежностью или спрятаться на время от пугающего одиночества.
– Ра с нами?
– А где же ему быть?
– Идёт?
– Парит.
Галлюцинация размеренно и плавно двигалась за своей хозяйкой.
– Когда умирает близкий, дух его витает среди нас. Только это не душа покойного. Воображение материализует подсознательный образ. Иногда мы сознательно создаём его сами. Наши эмоции рождают демонов.
Силуэт двухэтажного дома вырос из темноты.
В подъезде, в слепом мерцании угорала одинокая лампочка, как погибающая бабочка в стеклянной колбе для опыта… И умирала, слабела её жизнь на вольфрамовом волоске.
Парадная дверь женского общежития, окованная дубовой фанерой, была плотно закупорена надёжным заступом изнутри. Дабы не вломился сюда тать-любовник. И не смог вероломно отобрать девичью честь у слабой женщины в сонном состоянии. Обдурив любовными гнусностями.
Кира тарабанила интеллигентными пальчиками в стеклышко, поднимая бдительно дремавшую вахту по тревоге.
Андрей выдавил любезность грозной старушке, возникшей в зияющей щели дверного проёма. Авторитет Киры Изумрудовны успокоил её. А, может быть, это был гипноз? Бабуля по-кошачьи умащивалась на мягкий диванчик, расправляя белизну простыней и одеял.
– Я работаю здесь по совмещению, воспитателем, – пояснила Кира.
Здесь стерильная моральная чистота девичьей невинности свободно сочеталась с бесстыдством женского борделя. Как уживается барокко и рококо с монументальным социалистическим реализмом в бытовой прозе жизни. Где баба-мутант, произошедшая от непорочной обезьяны, планомерно превращалась в советскую женщину. Наглядно соперничая с буржуазной дамой, посредством политического плаката.
Ажурные пеньюары, пошлые импортные лифчики и прочие западные штучки, исполняли запрещенный стриптиз-балет нижнего белья. Подвешенные комсомолками на бельевые веревки, как души грешниц.
Кира проворно открыла нехитрую щеколду замка.
– Ну, заходите, – обратилась она к странствующему философу-донжуану и призраку за спиной. Включила свет, переступая порожек.
Андрей раздвинул портьеры… И очутился в маленькой комнате, как в историческом прошлом, разглядывая антикварный интерьер. Приданое Изумруда навеяло лёгкую грусть.
Под пластами антикварного хлама лежало мыслящее мастерство. И только пытливый ум сможет проникнуть в тайный замысел гениального творца, совершив эксгумацию таланта.
Глаза привыкали к обстановке, ощупывая предметы и картины. На обратной стороне стены в тяжелом чёрном багете гордо застыл прообраз демонического божества Ра. Таким, каким его увидел Андрей. Одетый в бронзовое тело с медным орлиным клювом. Шёлковое белое оперение отливалось на макушке маслянистой желтизной. Прозрачно-хищное веко было готово мигнуть. Истукан вглядывался в него, словно живой, немигающим восковым зрачком.
Духовная субстанция растворилась в своей матрице.
– Ну вот, он вошёл в свой склеп.
Потом они пили чай. И сонная деревянная кукушка, выползая из служебного домика часов, загоняла их хриплыми намеками в чистую постель хозяйки. Кукуя житейскую мудрость изношенным механизмом часов.
Но Кира исчезла за резной фамильной ширмой, пожелав спокойной ночи беспокойному сердцу странника.
В жидких сумерках плавали призраки нежности. Старой кукушке снился маленький кукушонок, брошенный ею когда-то… А душа, направляясь в полёт ночных грез, расправляла воздушное оперение. Андрей лежал, забросив руки за голову, рассматривая шевелящийся портрет.
А ночь уже отзывала своих вассалов. Седое утро наползало на город. Сон одолел странствующего рыцаря мечты.
Интимная близость бывает всякая. Голодная, хищная, пожирающая любовную падаль. Хитрая и жадная, с лисьей мордочкой и повадками манерного павиана. Важная донкихотская похоть в галстуке с сексуальным обожанием. И, кормящий любовным повидлом, липкий блюз из раздвинутых долек бюстгальтера.
Когда залетает в спальню женственная любовь, распахивая крыльями тело, ты узнаешь её по супружеской родинке. Которую, как штампик, шлёпнул при рождении господь.
Андрей проснулся от прикосновения солнечного луча.
Свежее утро взбодрило, как крепкий чай. По паркету из-за шторы выскользнула Кира.
Световой зайчик приветливо сунул в глаз любопытную мордочку.
Расцвело спокойное воскресное торжество. За окнами распускалось солнечное небо. На сковородке слепая яичница вращала в белке мутным оранжевым зрачком, принося себя в жертву богу желудка. В розовых фарфоровых чашечках выдыхал ароматный дым чёрный кофе.
Хозяйка в домашнем халате кормила гостя любовными бутербродами с зелёной икрой.
А вечером хрустальные глаза излучали глубокое мерцание тайной близости. И белое тело под тонким халатом протягивала к нему её душа. Чтобы мог он насытиться созерцанием. Занимаясь платоническим сексом.
Андрея уже не смущал домовой призрак и белые салфетки за сервированным ужином под китайскими блюдечками с чаем.
Она поправила чёрные волосы, открывая чайную церемонию, посвящая в культ высшего духовного блаженства, медитируя немигающими ресницами. Вызывая духа Дхьяна.
Квинтэссенция мудрости и Пратьяхара – воздержание чувств, как искусство познания истины наслаждения. Проникновение в чуткий чувственный мир тонкой материи мысли грубого телесного инстинкта.
Она, как Ариадна, вела Андрея по критскому лабиринту. А за спиной сопел и шлёпал босыми копытами Минотавр-производитель.
– Когда человек может направить свою мысль на известный предмет, отделив сущность предмета от внешней его части, – форма предмета исчезает. И в сознании остаётся только его смысл. Кто достигает этого умения – все силы подчинятся ему. Обыкновенное колдовство разума. И ты сам превращаешься в полубога.
Это, как душевное похмелье очарованного фанатика-водолаза, напившегося глубинных красот подводного мира океана. Он еще не Ихтиандр, но уже не человек.
Из прозы жизни фильтруется поэтическое адажио. И не на небе исполняется лебединый танец чувств. Всё это происходит на земле – родине журавлиной грусти с ангельскими крыльями и дьявольскими шпорами, жизнеутверждая эстафету уродства и красоты.
– Зачем?
– Чтобы назвать себя Маэстро Человек. Чтобы этим так же могли дышать, как творениями Леонардо. Этому учил отец.
– А что от этого твоему отцу и великому мастеру: Почет? Слава? Роскошь? Быть самой умной обезьяной в джунглях и читать мысли бога? Постамент памяти над гробницей? С эпитафией: «Он жил, как у Христа за пазухой. В сказочной нищете».
Или, может быть, здесь заложен хитрый принцип мутации? Пару сотен тысячелетий и вознесётся Он – бого-сапиенс, разумной стихией, равный космосу. Выделив себя из человеческой расы. Происходя, как из антропоида астронавт.
– Именно так оно и будет, – спокойно ответила Кира. – Как в цивилизации леборийских конегистр праатлантисов.
На мгновение задумалась Роза Андреевна, R/A9kmm…
Сквозь дремучие дебри космического времени продирается идея разума. Бесконечна её цель. Она продвигается, совершенствуясь в организмах. От простого – к немыслимому.
Вот она на балу инфузорий-туфелек – Золушка-замарашка на презентации роскоши. Вот она уже в стае пещерных женщин, а далее – царица Египта. Вырастает, закрывая тенью Землю. В то время, как её подруги амебы с инфузориями, толпой выползают на сушу, из грязной капли.
Проповедуя: Что мир незыблем и стоит на трех головастиках. И вся вселенная – квакающее болото. Поклоняясь власти хозяина пьявок, – Дуримару.
Проносится «она» уже в другом времени и не заметит их. А в «ней» увидят – инопланетную божественность.
Потекли недели испытания искушением грешника. К высшей мере духовного наслаждения приговорила его Кира Изумрудовна. Угощая сладкой беседой и спелой грудью с ягодкой соска, выпадающей из домашнего халата. Куда лениво закатывал Андрей зоркое глазное яблоко, как бильярдный шар. Терпеливо принимая очищение.
Но как-то, в отсутствие хозяйки Киры, решил испытать покаяние бесов души. И прошёлся по комнаткам общежития, словно пробравшись в райский палисадник.
И попал на именины незнакомой цыганки Нади. Вместе с ней гадал по руке её назойливым подругам, осыпая щедро желанной глупостью захмелевших красавиц. Сам он водки не пил. Не хотел, чтобы из него выполз бес, выдавливая нутро рогами.
Черноокая Надя склонилась над ним с пузатым бокалом, где запускали воздушные бульбы колючими брызгами игривые бесы шампанского. Одарила золотой улыбкой. Каштановый локон именинницы упал на щеку Андрея. И заскользил по ней, пушистой паутиной опутывая глаза.
Андрей запечатлел подарочный поцелуй вслепую. Влажные губы ромалэ выхватили его и запили шампанским, отпустив.
Отплясав цыганочку, она подсела к нему, веером разложив шёлковый сарафан с фиолетово-пурпурными павлиньими глазами. Ажурные линии кармина волнами разошлись на коленях. Шаловливые пальчики шельмы пробежались по его виску. А зрачки колдовали на смазливом лице, завлекая поиграть в цыганскую рулетку. Она поднесла прозрачный шкалик. Хрупкая стопочка, потерявшая невинность, колыхалась в её острых коготках. А там, крокодильи слёзы зелёного дракона сияли родниковой чистотой.