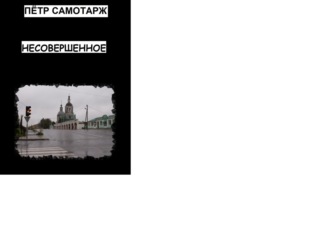 полная версия
полная версияНесовершенное
– Он пришел без охраны?
– Не пытайтесь шутить, пожалуйста. Это у вас получается еще хуже, чем говорить правду.
– Я только пытаюсь вас подбодрить.
– Не надо меня подбадривать, я и так достаточно бодра.
– Ладно, больше не буду. Продолжайте, пожалуйста.
– Я пришла в ресторан без пистолета. А Сергей – без охраны, если это вас так интересует. Встал, когда меня подвели, и предложил мне стул. Сама не знаю, чего ждала. Чего угодно, включая наряд милиции. Я уже успела отойти после истерики, поэтому находилась в состоянии тихого ужаса. Хотя толком не помнила событий в кабинете, точно знала, что они были ужасны. Понятия не имела, о чем Сергей собирается со мной говорить, и страшно удивилась, когда он заговорил о своем сыне. Казалось бы – ничего удивительного, я ведь учительница. Но к тому моменту я про свою профессию уже успела позабыть – будто целая жизнь прошла за один день. Мальчик у Сергея был неплохой, любознательный, с парадоксальным мышлением, начитанный. Говорили мы о нем долго, потом разговор постепенно сошел на литературу вообще, на поэзию в частности и на мои личные пристрастия. О себе я всегда говорю легко, как вы могли заметить, поэтому стала болтать шустро и разболтанно, почти как с подружкой. С мужчинами я тогда так легковесно не разговаривала, потом сам себе удивлялась. Конечно, весь тот день остался в памяти одним большим удивлением – так не должно было случиться, я должна была закончить его хотя бы в милиции, если не в ФСБ. Или что тогда было – ФСК?
– В данном случае – несущественно. Вы закончили вечер не у них, а в ресторане. Или даже не в ресторане?
Овсиевская долго молча смотрела на Самсонова, но тот не отводил взгляд, понуждаемый мужским и профессиональным самодурством.
– Ждете от меня эротической истории? – холодно поинтересовалась примадонна.
– Честно говоря, не надеюсь на такую душевную щедрость.
– Дело не в душевной щедрости. Тем вечером ничего подобного просто не случилось. В конце концов разговор добрался до практических вопросов, и я поведала Сергею о давно мной присмотренном закрытом тире, назвала даже стоимость аренды и переоборудования помещений.
– И он тут же полез во внутренний карман за кошельком?
– Конечно, нет. Мы просто распрощались, и он уехал.
– Очень мило. И не предложил вас подвезти?
– Нет, не предложил. Я бы все равно отказалась – я ведь приехала туда сама, и не набивалась к нему в наложницы. Мне вызвали такси, я вернулась домой, на следующий день уволилась с работы.
– Осенью девяносто восьмого?
– Именно потому и уволилась, что осенью девяносто восьмого. У меня накопились кое-какие сбережения в долларах, и я тогда жутко разбогатела.
– Очень предусмотрительно.
– А вы держали рубли под матрацем?
– Честно говоря, тогда мне просто нечего было держать. Никогда не умел сберегать и инвестировать.
– Тогда вы – человек прошлого.
– Возможно. Давайте не тратить время на мою особу. Что там у вас дальше получилось с Касатоновым?
– Сами видите. Неужели требуются какие-то пояснения?
– Требуются. Когда вы получили деньги?
– Примерно через неделю. Наличными, в валюте. Мне их привезли прямо домой. А я повезла их на электричке сюда и всю дорогу дрожала от страха. Рассовала по частям во всевозможные места и все равно сидела, как посаженная на кол. Наверное, "Балаган" стал тогда единственным местом экономической активности в наших краях. Решала все строительные вопросы наобум, собирала труппу, нашла режиссера. Как вы понимаете, возможность выбора имелась.
– Не сомневаюсь. А как вы представляли себе дальнейшую жизнь вашего театра. Всерьез рассчитывали на экономическую эффективность? Или сразу понадеялись на продолжение отношений с Касатоновым?
– Не понадеялась. Он приехал на нашу премьеру, под Пасху девяносто девятого. И когда после спектакля все разошлись, я отдалась ему здесь, прямо на сцене.
Самсонов смущенно молчал и даже отвел глаза куда-то в угол, потом спросил:
– Почему?
– Потому что сгорала от счастья. Оно отличалось от приступа в кабинете Сергея: теперь я все понимала, все помнила, просто хотела взлететь и не возвращаться на грешную землю. Чтобы никогда больше не пачкать ног.
– И решили освятить сцену?
– Решила. Я ведь не продалась ему – он уже дал мне деньги, и я не собиралась брать их у него снова. Просто хотела поделиться своим великим счастьем. Которое он мне подарил, а не продал.
– Но почему именно на сцене? Простите великодушно за пошлость, но существуют места, более приспособленные для сближения.
– Ерунда. Вы ничего не понимаете, Николай Игоревич. В постели Сергей знал много женщин, на сцене – только меня.
Самсонов задумчиво покрутил в пальцах ручку, которой делал пометки в своем блокноте.
– Простите за беспримерное хамство, Светлана Ивановна, но я не могу не спросить: вы пытались как-то объяснить себе особое отношение к вам со стороны Касатонова? Ваш рассказ, рассуждая логично, должен был прерваться в самом начале, еще в кабинете. Весь описанный вами водоворот выглядит вопиюще неоправданным, противоречащим философии современной жизни.
– Хотите сказать, к услугам Сергея всегда готовы шпалеры восемнадцатилетних девиц с ногами от ушей, а он по неизвестной причине возится со старой бездарной актрисой?
– Насчет старости – вы на себя грешите. Мы с вами ровесники, но даже я не готов к подобной самоидентификации, а о вас и говорить нечего.
– Спасибо за дежурный комплимент. Честно говоря, я старалась не забивать себе голову психологическими экзерсисами в связи с поведением моего мужчины. Просто ценю его близость саму по себе. Любое мое мнение станет проявлением чудовищного самолюбования, но одну нахальную версию предложить могу: он пресытился женским телом. С определенного момента его заинтересовала, простите, женская душа.
– Душа? И вы так спокойно об этом говорите?
– Вы о чем?
– Ну как же! Целый олигарх оставил ради вас жену, попортил себе реноме, потратил уйму денег. А вы самоотреченно рассуждаете о своей старости и женской душе. Наверное, никто бы не удивился, если бы Касатонов увлекся длинноногой моделью, слегка совершеннолетней. Вы знаете секрет, за который большинство женщин готовы убить, берегитесь.
– Ерунда. Жену, родившую четырех детей, не бросают ради другой женщины. Ее бросают просто так, потому что продолжение невозможно. Кончились слова, кончились взгляды, жесты. Мужчины ведь сексуальные животные. Львы, которые отнимают у соперника его гарем и убивают его львят, чтобы львицы родили им собственных. Львицы охотятся, рожают, заботятся о потомстве, защищают его от гиен, а львы шляются по округе без всякого дела и только в надлежащее время навещают наложниц.
– Но вы же неоднократно называли себя содержанкой или наложницей.
– Вы видите здесь противоречие? Я – нет. Он не хуже меня знает: вместе с "Балаганом" он потеряет и меня. Пока существует "Балаган", я буду принадлежать Сергею. Я, извините, крепостная актриса.
Самсонов сидел, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу. На собеседницу он смотрел со смешанным чувством страха, гадливости и восхищения. Та с демонстративной тщательностью обгладывала цыплячьи косточки – никакой мужчина, тем более репортер, не мог отторгнуть актрису от традиционного ночного блюда.
– Все равно не понимаю, хоть убейте.
– Убивать не стану, но я понимаю, что именно вы не понимаете. Вы, Николай Игоревич, в своем зрелом возрасте все еще не вышли из юношеских заблуждений о женщинах как источнике физического наслаждения. Сладость общения для вас остается удовольствием недоступным. Вы разговаривали когда-нибудь с какой-нибудь женщиной ночь напролет?
– Ночь? Не припоминаю такого подвига. Час-другой доводилось.
– Понятно – час перед сексом, час – после. Нет, ошибаюсь: два часа разговоров, чтобы уломать женщину, а после секса – тишина. Можете ли вы вовсе исключить секс из формулы общения?
– Не могу. Куда же без него? И не пытайтесь меня убедить, будто ваши отношения с Касатоновым после первой ночи на сцене перешли в платоническую фазу.
– Не собираюсь вас ни в чем убеждать. Какая вам разница? Какая мне разница, верите вы мне или нет? Я не платонические отношения имею в виду: их нельзя так однозначно назвать. Но в нашем общении так много всего, и оно такое редкое, такое непродолжительное, что секс просто теряется в нем, как крохотная жемчужинка в огромной старой раковине.
– Все-таки жемчужина?
– Жемчужина, жемчужина, успокойтесь. В старой, замшелой, уютной, привычной, безмолвной, родной раковине. Не знаю, способен ли Сергей сполна оценить драгоценность наших коротких встреч. Я живу между ними, словно еду по занесенной снегом степи от одного постоялого двора к другому.
– Степь? Собственный театр вас больше не радует?
– Радует – неправильное слово. Я им упиваюсь. Но к моей личной жизни он не имеет ни малейшего отношения.
– Странно. Получается, ваша жизнь разрезана надвое? На частное бытие и на общественное?
– Вы снова ошибаетесь, Николай Игоревич. Ничего общественного в моем существовании нет. Это мое частное бытие разрезано на театр и эротические переживания.
– Забавно было бы попробовать такой образ жизни. У меня-то общественное висит тяжким грузом на шее.
– Сочувствую. И советую сменить профессию. Хотите – приходите к нам в "Балаган". Все от меня зависит – скажу, и вы уже завтра репетируете на сцене. Ваш типаж идеально подошел бы для характерных ролей.
– Впервые встречаю человека, который умудрился разглядеть во мне артистический талант.
– Я вовсе его у вас не разглядела. Но все равно приходите – вдохнете полной грудью и поймете, с чем едят свободу.
– Какую свободу? Да на свете нет более зависимых от всех и каждого людей, чем артисты. Я бы с ума сошел, если бы мне пришлось всю жизнь раз в несколько месяцев сдавать экзамены и проходить конкурсы.
– Какой у вас скучный взгляд на веселые вещи!
– Светлана Ивановна, это вам весело в театре, потому что там все от вас и зависит. А все остальные именно потому вас и ненавидят. И, уверен, радости не испытывают.
Овсиевская задумчиво помешивала ложечкой в тарелке:
– Может быть, вы и правы. Я как-то не задумывалась об этом.
– Наверное, вы о многом не задумывались, Светлана Ивановна, – продолжал злобствовать Самсонов. – Помните ли вы, например, людей, которых забыли за свою жизнь?
Примадонна впервые за вечер посмотрела на собеседника с искренним изумлением:
– Как вы сказали? Помню ли я людей, которых забыла?
– Да.
– Другой человек на моем месте ответил бы вам, что людей, которых я помню, я не забыла, а тех, которых забыла, тем самым не помню.
– Вы далеко не первая, кому я задаю этот вопрос, и некоторые ответили именно так.
– Я не удивлена. Но сама отвечу иначе: я не могу забыть тех, кого помню. Они живут со мной день за днем, стоят над душой, маячат у постели. Не дают забыть о себе. И я помню их, хотя некоторых хотела бы забыть, поскольку память причиняет боль. А некоторых не хочу и не могу забыть, потому что без них, даже мертвых, жизнь станет темнее.
– А среди окружающих вас сейчас хотите кого-нибудь забыть?
– Едва не половину. У меня, видите ли, ненужно широкие знакомства.
– Но пустота и вероятнее, и хуже Ада.
– Да. После смерти. А сейчас я мечтаю свести к минимуму круг знакомых, пожирающих остатки моего времени.
– Если когда-нибудь действительно сведете – поймете, что и при жизни пустота не приносит счастья.
– Ерунда. При жизни от пустоты до поля чудес – один шаг.
– Причем здесь поле чудес? Мечтаете изгнать волшебство из нашего бытия? Учтите, оно существует не для нас с вами, а для тех, кто не знает реалий.
– Оно существует для тех, кто внутренне готов стать его жертвой. Кроликом в цилиндре. Или женщиной, которую распиливают пополам. На грязном полу, в полутьме. Раз за разом, с перерывом на обед. Под жадными взглядами публики, готовой растоптать или вознести до небес. Как ребенок отрывает бабочке крылья или отпускает ее – без всякой мысли, повинуясь только смутному желанию стать богом.
Овсиевская подозвала официанта, расплатилась и ушла, не попрощавшись с Самсоновым. А тот еще долго сидел в полутемном кабинете под нетерпеливыми косыми взглядами официанта и рассеянно крутил в пальцах вилку, словно пытался и никак не мог продемонстрировать трудный фокус.
12. Приют странников
Дверь несколько раз содрогнулась под мощными ударами снаружи, затем оттуда же донесся рык:
– Колька, хорош дрыхнуть, иди сюда!
Самсонов принципиально молчал еще секунд десять, но затем слабость характера дала себя знать, и он нехотя крикнул в ответ:
– Чего тебе?
– Иди сюда, говорю!
Алешка пару раз шлепнул ладонью о дверь, в комнате журналиста со стены посыпались лоскутья облупившейся краски.
– Иди к черту, мне некогда.
– Да выйди хоть, позырь.
Самсонов осознал бесполезность дальнейшего сопротивления, встал с раскладушки, воткнул ноги в тапки, обогнул окутанный полиэтиленом сервант и открыл зев в сумрак коридора, из которого проступал силуэт Алешки.
– Пошли ко мне, заценишь.
Мысленно чертыхнувшись, журналист поплелся за настойчивым соседом в его жилище, уныло готовя набор стандартных фраз для выражения своего одобрения чему бы то ни было. Он ждал новой порнухи, но вместо нее обнаружил в соседской комнате двух абсолютно непрезентабельных бомжей, один из которых имел великолепные косматые брови и находился в гораздо большей степени опьянения, чем его собутыльники. Второй бомж постоянно чесал у себя под длинной бородой, вынудив Самсонова боязливо поежиться.
– Видал? – гордо спросил Алешка, предъявляя гостю бутылку White Horse. – Как тебе коньячок?
– Виски, – уныло ответил репортер.
– Чего?
– Это виски, а не коньяк. Где сперли?
– Чего это сперли?
– Если бы купили, то знали бы, что это такое.
– А может, нам подарили?
– Отчетливо представляю себе эту яркую картинку. На улице стоят три алкоголика, рядом останавливается "Лексус", из него выходит человек в костюме от Армани и преподносит им бутылку хорошего виски. Или у вас бутылка паленая?
– Чего это паленая? "Лексуса" не было, но чувак на улице подошел и подарил.
– И вы его не знаете?
– Не знаем. Нам какое дело, кто он такой? Поднес – и ладно.
Алешка всей своей влажной физиономией выражал уверенность в непогрешимости заявленной позиции и крутил в руках бутылку с жидкостью чайного цвета, словно надеялся найти в ней хоть какой-нибудь изъян. На лбу у пытливого алкоголика сияла обширная свежая ссадина, и репортер периодически косился на нее, борясь с желанием задать естественный вопрос о ее происхождении.
– Ну что, раздавим на троих? – спросил наконец со страстью алкоголика в голосе счастливый обладатель чудесной бутылки.
– Почему на троих? – удивился Самсонов. – А меня зачем позвал?
– Как это зачем? – встречно удивился Алешка. – Это Йоська пролетает, как фанера над Парижем. Поллитру один выжрал, скот. А ты как раз в доле.
Радушный хозяин принялся собирать по всей комнате импровизированный сервиз, и в итоге получился диковинный набор из щербатой чайной чашки, мутного желтого стакана и складного туристического стаканчика из пластмассы.
– Я вроде не собирался, – угрюмо попробовал защититься журналист.
– Долго что ли собраться? Все готово уже, – не терял оптимизма главный виночерпий вечера.
Бородатый бомж робко приблизился к центру событий и остановился, не сводя глаз с заветной бутылки. Косматобровый Йоська проявлял мало признаков разумной жизни и только обводил комнату бессознательными очами в поисках известной ему одному вещи.
– Чего зыришь, сука? – беззлобно поинтересовался у него Алешка и принялся искать подручные средства для откупоривания заветной бутылки. Предпринятые усилия завершились ужасным кошмаром: он просто расковырял пробку лезвием перочинного ножа, пролив на завершающем этапе несколько глотков эликсира на замызганный пол и длинно выругавшись. Бородатый заранее схватил стакан, сочтя его наиболее привычным и почти престижным, чашку Алешка великодушно уступил Самсонову, пока тот взирал на все происходящее с неприличным равнодушием. Даже увидев перед глазами наполненную до краев чашку, журналист не двинулся с места и не протянул за ней руку, только беспомощно огляделся, словно боялся, что его застанут за предосудительным занятием. Настроение пришло внезапно и без предупреждения: Николай Игоревич принял свою законную порцию виски неизвестного происхождения, выслушал традиционный тост типа "будем здоровы" и осушил посуду, даже на подумав предварительно о припасах для закуски. Благодатная влага обожгла вкусовые рецепторы во рту и наполнила теплом внутренности журналиста, через несколько минут слегка замутив ясность его мировосприятия. Алешка с удовольствием крякнул, словно осушил флакон "Анютиных глазок", бородатый зажмурился и завязал свою физиономию в один морщинистый узел.
– А почему этот ваш Йоська так распоясался? – спросил вдруг Самсонов, которому стало жалко обездоленного.
– Трагедия у него, – неожиданно серьезно и литературно высказался Алешка. Репортер молча удивился диковинному вокабуляру неприхотливого соседа.
– Какая трагедия?
– Лет десять дома не был, а вчера сходил в гости.
– Куда? Домой?
– Домой.
– Неописуемая трагедия.
– А то нет? Сестра с мужиком в одной комнате, а в другой – мать. Голая и голодная, еле живая. Кричит все время.
– Чего не случается с людьми, – утвердительно кивнул Самсонов и внимательно посмотрел на бутылку, в которой еще много осталось.
– Давай по второй, – угадал желание гостя хозяин и щедро наполнил его чашку. Бородатый окончательно потерял ориентацию в пространстве и полностью утратил свою ценность в качестве собутыльника. Алешка налил себе, молча чокнулся с журналистом, и они выпили. Затем под какой-то старой газетой обнаружилась вскрытая банка селедки в винном соусе, и Николай Игоревич впервые в жизни сдобрил виски этой варварской закусью.
– Ты где их подобрал-то? – спросил он Алешку, мотнув головой в сторону бомжей.
– На улице, – простодушно ответил тот и замолчал, словно дальнейших объяснений не требовалось.
– Зачем?
– Для компании.
– Зачем тебе компания? И если зачем-то нужна, почему не женился вовремя?
– На хрена мне жениться? Жена и дети – это не компания, это обуза.
– Много ты счастья нажил без обузы.
– Много. Живу, как хочу. Хожу, куда хочу. Смотрю, чего хочу.
– Не чего хочешь, а на что денег хватает. А хватает их тебе на немногое, я думаю.
– Мне хватает. А из того, на что хватает, беру, что хочу. Хорошо живу. А была бы жена – ни на что бы не хватало. Вон, эти двое, все время друг с другом собачатся, и всегда – из-за баб. Один на них жизнь попортил, другому – жизни нет без большого траха.
– И что, ему есть из кого выбирать?
– А то! У него каждый месяц – новая. Все время с разбитой мордой ходит.
– Причем здесь морда? Женщины его бьют?
– Не, мужики. Он их у них уводит, а они ему – в морду.
– Но он все равно через месяц находит новую и снова получает свое?
– Ну да. Остановиться не может. Некрофил.
– Некрофил? Надеюсь, ты что-то путаешь.
– Ничего не путаю. Без баб жить не может.
– Причем же здесь некрофилия? Откуда ты слово-то такое услышал?
– Он сам так грит. Я, грит, некрофил. Без бабы помру.
– Некрофилы трупы пользуют, а не помирают без секса.
– Чего-чего?
– Некрофилы пользуют покойниц. Он, наверное, просто дурак.
– Может, дурак, а может – пользует. Раз сам грит.
– Если бы он был некрофилом, то живые бабы его бы не интересовали.
– А может, он двуствольщик.
– К черту таких двуствольщиков. А чем же он баб берет? Вроде не красавец.
– Да бабам разве морда нужна? Им мужик нужен.
– И что же – он мужик?
– А то нет! Бабам-то лучше знать.
– Они не знают, они чувствуют.
– Да хрен их разберет, что они делают. Думать еще о них.
– А чем они перед тобой-то провинились? Ты ведь сам свободы хочешь.
– Свободы хочу. А перестать думать о бабах – не могу.
– Понятно. Но только что ты сказал, что не хочешь о них думать.
– Не хочу. Но не могу перестать.
– Известный человечеству тупик. Кто-то впадает в тихое помешательство, кому-то крышу сносит по полной, кто-то начинает убивать каждого встречного или каждую встречную с опостылевшим ему цветом волос или глаз. Некоторые в конце концов женятся. От них еще никто ноги не унес.
Разговор о женщинах между не самыми трезвыми из мужчин быстро принимал отталкивающие формы и перерастал в состязание сквернословов. На этом поприще Самсонов далеко отставал от собеседника и скоро совсем замолчал, лишь изредка поддакивая особо чудовищным обвинениям со стороны последнего. Оба полагали себя безвинными жертвами половых отношений и выстраивали на этом фундаменте хрупкую конструкцию женоневастничества, которая наверняка не смогла бы выдержать самого ничтожного испытания близостью с какой-нибудь заманчивой прелестницей, созданной специально для мщения со стороны Евиного племени роду Адама за все его преступления против чувственности и искренней веры.
– А этот, сексоголик, – с трудом управляясь непослушным языком спросил Николай Игоревич, – говорил, за что баб так обожает?
– Грил, – коротко и отрывисто кивнул Алешка. – Грил, за хороший трах все им прощает, а они им пользуются в хвост и в гриву.
– И его это устраивает?
– Угу.
– А тебе кто рожу разукрасил? Не за бабу, случаем?
– Не, – энергично замотал головой убежденный бирюк. – Так, отморозки какие-то.
– Отморозки? Просто шли мимо и от нечего делать заехали тебе по лбу?
– Ну. Я и грю, отморозки.
– Может, не просто так? Давай, колись.
– Не, просто так. Я им ничего не делал.
– Точно?
– Точно. Ничего.
– Совсем-совсем ничего? Молчал и смотрел в другую сторону?
– Ну, – замешкался с ответом прохиндей, – не молчал.
– Выступил перед ними с речью о пользе обезжиренного молока?
– Не, на хер послал одного. А че он выкобенивается?
– По какому же поводу он выкобенивался? Просто так?
– Подумаш, задел слегка.
– Что задел?
– Да бабу его плечом задел.
– Сильно задел? Она на ногах-то устояла?
– Да что ей сдеется! Устояла. А этот кобель давай в бутылку лезть.
– Здесь ты его и послал.
– По полной послал. Не хрен из себя целок строить.
– Сколько там мужиков-то было?
– Да не помню. Когда бы я их там посчитал?
– Больше двух?
– Куда там, больше. Одному я точно челюсть сломал.
– Откуда знаешь?
– Почувствовал, когда бил. Хорошо так пошло, с хряском.
– А это не твоя рука хряснула?
– Не, рука целая. На, смотри.
Алешка покрутил перед носом у Самсонова растопыренной пятерней в доказательство истинности беспардонного утверждения.
– Ну и как, ты доволен?
– А чего мне? Вишь, лоб только ободрали. Жлобье гребаное.
– На фига ж тебе понадобилась вся эта катавасия?
– Ничего мне не понадобилось. Я ж те грю – я им ничего не сделал!
– Как же не сделал? Мужчины всегда нервно реагируют, когда прикасаются к их женщинам. Здесь врубается первобытный инстинкт, и любые дискуссии становятся совершенно бесполезными. Проблему решает только кровь.
– Да че там! Подумаш, бабу слеганца зацепил. Делов-то! Грю те, отморозки.
– А не приходила в твою голову мысль, что ты и есть тот самый отморозок? Баба, наверно, выразила тебе свое негодование, а ты ее обматерил?
– Ну и че? Тоже мне, целка нашлась! Кто ее трогал-то? Рукав зацепил, и все.
– А не порвал рукав, когда зацепил? Чем ты его?
– Не, не порвал. Вроде не порвал. Чего там рвать-то?
– Мало ли что? Во что она была одета? Случаем, не в норковую шубу?
– Я откуда знаю, в какую! Шуба – и есть шуба.
– Не скажи, шуба шубе – рознь. Я подозреваю, тебя еще пожалели. Могли и в ментовку сдать, да компенсацию ущерба тебе вчинить. Так до пенсии на них бы и ишачил, с твоими-то доходами. Чем ты там занимаешься – пивные банки сдаешь?
– Сдаю. А тебе чего?
– Мне-то ничего. Я говорю, сколько банок нужно сдать, чтобы набрать на норковую шубу?
– Тебя колышет? Чего ты ко мне лезешь?
– Не лезу я к тебе, очень нужно. Просто интересно: ты дерешься с первыми встречными от скуки или искренне не понимаешь, за что можно получить по морде?
– Чего это я не понимаю? Не хочу просто, чтобы на меня наезжали. Че я, смотреть должен?
– Ты попробуй для начала сам ни на кого не наезжать. Ты ведь по улице идешь – и то от тебя прохожие шарахаются. К мату у нас народ привычный, но детей многие еще берегут. А мужики могут и ради женщин тебя к порядку призвать.



