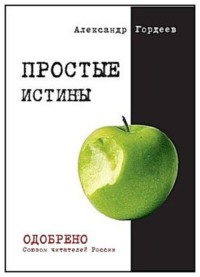полная версия
полная версияНе бойся тёмного сна
жилочкой.
– Тогда в чем же дело? – уже улыбнувшись, спросил
Юрий Евдокимович. – Ну, если ты робот, то и мы роботы,
ведь время от времени мы проходим через откачку
возраста, а это немного схоже с восстановлением.
– Ну, ладно уж хоть не робот. Но вы изучили меня
настолько, что наперед знаете все мои реакции.
– Куда уж там… Работая над твоим восстановлением, мы
постоянно телепатически общались с тобой, но это
походило на общение с суммой знаний о тебе. А уж как
поведет себя живой человек, толком не знали. Каждый
представлял тебя по-своему. А ты явился такой, как есть.
Ну, вот назвал ты эту комнату «предбанником», и кто из нас
мог бы придумать такое за тебя? Так что у нас полный
успех: ты воссоздан, как абсолютно самостоятельная
личность, за которую другие думать не могут. Наверное,
здесь ты даже сможешь продолжить писать.
– Вряд ли, – раздумывая, ответил Нефедов. – О чем? И
для кого? Вы же и так все знаете…
33
–Э-э, нет – душа-то еще не изучена. Вот мы ее, можно
сказать, уже в руках держим, вылавливаем из мирового
духовного эфира, помещаем в тело (как было с тобой),
заставляем жить, а что это такое не знаем. А любовь? А
прочие вечные страсти? Хотя, конечно, ты можешь освоить
и другую профессию. У нас есть программы, которые
помогут быстро освоить все, что хочешь.
«Да уж поздно мне осваивать-то», – чуть было не сказал
Нефедов. А ведь, и впрямь, по-новому надо было как-то на
все смотреть, по-новому. .
Через полчаса старший восстановитель собрался
уходить: Василий Семенович нуждался в отдыхе. Было
решено, что утром они наметят программу адаптации.
– Если тебе что-нибудь потребуется, то вызови меня, –
прощаясь, сказал Юрий Евдокимович. – Набери по своему
телефону… ну, скажем, шесть нолей. Я сейчас домой.
Нынешняя ночка, признаться, была у нас не легкой.
Сегодня Юрий Евдокимович уезжал с работы с таким
редким ощущением удовлетворения, какого не испытывал
давно. А еще он чувствовал усталость, ведь все это время
он ощущал на себе взоры миллиардов глаз людей
цивилизации, которые, следили сегодня за ним и
воскрешенным. Разговоры с человеком из такого дальнего
столетия по-настоящему разволновали Юрия
Евдокимовича. Как многое хотелось рассказать этому
человеку, для которого, казалось бы, любой
незначительный факт – уже событие. Как хотелось
рассказать именно ему, а не кому-то из своих друзей
многое из своей личной жизни, что тоже, наверняка,
потрясло бы Василия Семеновича. Но не мог же он
сегодня исповедоваться на всю цивилизацию.
Толик, его последний сын достался ему благодаря
неизмеримой жертве: его мать, последняя любимая
женщина Юрия Евдокимовича, которую звали Ирина,
умерла при родах. Такое случалось исключительно редко и
34
случалось, пожалуй, от излишнего успокоения, от
излишней веры во всемогущество медицины, когда срывы
случаются, кажется, в самом гарантированном месте. Ни
одну из своих женщин не любил Юрий Евдокимович так,
как Ирину и после ее смерти сделал глупость, рабом
которой был уже почти, что тридцать лет. Он изготовил
робота точно по облику своей женщины, вложив в ее
сознание все понятия, которыми, по его разумению,
обладала Ирина и, в конце концов, понял, что получил не
любимую женщину, а лишь свое представление о ней.
Сделав ее идеальной, он запутался в чувствах, не в силах
понять: любит ли он ее или уже ненавидит. Во всяком
случае, иллюзией, что рядом с ним находится существо,
которому можно довериться, он жил не долго. Самое же
мучительное и печальное состояло в том, что он
привязался к этому существу: женщина могла ласково
гладить его по голове, могла говорить с ним и даже
высказывать какие-то свои мысли, могла заказать ему ужин
и ужинать вместе с ним. У нее было сердце, в ее жилах
текла настоящая горячая, живая кровь. Однако у нее
отсутствовало самоосознание, у нее отсутствовал
уникальный человеческий код, и потому чему бы он ни
учил ее, как бы не приближал к себе, она оставалась вне
людей, вне человечества. Юрий Евдокимович понимал,
что когда-нибудь ему придется расстаться с ней, но он не
мог перенести той воображаемой картины: как приведет он
ее в лабораторию для распыления, как усадит в кресло и
попросит немого подождать. И она будет ждать, зная, что
сейчас ее не станет, она будет даже испытывать страх, но
не запротестует, понимая, что она не человек, а всего лишь
биологическая машина…

35
Если он решится на этот шаг, то никто его не осудит,
ведь это будет распыление предмета, а не человека.
Напротив, его друзья даже поприветствуют этот поступок,
видя, что наконец-то, справившись с собой, он выходит из
своего не самого лучшего способа скорби и памяти по
любимому человеку.
36
Тридцать лет назад Юрий Евдокимович жил рядом с
лабораторией, в которой работал, но потом вместе с тенью
любимой женщины вынужден был переселиться подальше,
чтобы не давать друзьям и коллегам лишнего повода к
сочувствию, чтобы Толик не видел своей ложной матери…
5. ТЕЛЕФОН
Войдя в квартиру, Нефедов, кажется лишь для того,
чтобы надежней отгородиться от сорок четвертого века, до
отказа вывинтил собачки обоих замков. Для начала стоило,
пусть хотя бы в беспорядочную кучу сгрести все свои
впечатления. Пытаясь сосредоточиться или принять какое-
то решение, он обычно не сидел, стискивая голову руками,
а брался за любые домашние дела, и на нитку привычных
дел легко нанизывались все рассыпающиеся мысли.
Василий Семенович прошел на кухню, а там сработал
инстинкт: захотелось выпить чая. Этому не помешал даже
недавний завтрак, потому что без этого традиционного
чаепития по приходу домой, он словно бы не чувствовал
себя дома.
Оставался вопрос: как возможно было за считанные
минуты восстановить его большую квартиру с такой
точностью, чтобы сейчас из этого крана могла политься
вода? Он начал осторожно откручивать кран, и кран
выстрелил вдруг воздушной пробкой, как бывает после
отключения воды для ремонта труб. Никогда не вздрагивал
Нефедов так от этого водяного выстрела. А в раковину уже
текла ржавая, застоявшаяся вода. Да, конечно же, никуда
он не переносился… Не возможно, чтобы там, в каком-то
сорок четвертом веке была ржавая вода… Кто же станет
там подавать воду по железным трубам? Переждав
ржавчину, Нефедов нацедил воду в тонкостенный стакан с
ободком и посмотрел сквозь нее на свет. Вода была
прозрачной, но Василий Семенович смотрел уже дальше,
37
на переливающиеся бусинки в небе города. Все тот же
причудливый город за окном… «Ну, и какую же воду вы
здесь пьете? – подумал Нефедов. – При ваших-то
чистейших помидорчиках и огурчиках не иначе, как
ключевую или колодезную». Он набрал в рот воды,
подержал и разочарованно выплюнул. Вода была с
хлоркой. Это была вода его времени. Так, где же он все-
таки сейчас?! Слоистость реальности его потрясала. В
каком веке было сейчас его сознание? Пожалуй, сознание
его разлетелось на два века, расщепленное бездной
тысячелетий, мера которой – недавний обморок.
Забыв про чайник и открытый кран, Нефедов подошел к
окну. На город, поглощая своим чревом леттрамы,
надвигалась темно-фиолетовая грозовая туча, от которой
на земле все меркло и настораживалось. Василий
Семенович распахнул форточку и в застоявшуюся кубышку
кухни волной вплеснулся такой воздух, каким он никогда
не дышал. Никогда в воздухе своего города не ощущал он
запахов смешанного леса вперемешку с ароматом
яблоневых и грушевых садов. От преддождевой, тенистой
прохлады этот живой воздух был освежающим и тяжелым,
как холодная вода. А еще его поразило банальнейшее,
базарное чириканье дерущихся воробьев. Василий
Семенович тут же закрутил брызжущийся кран, убрал с
подоконника литровую эмалированную кружку, в которую
обычно по стариковской экономии сливал старую заварку
от чая и настежь распахнул обе рамы. Воробьи дрались
совсем рядом, на ветке ближайшего дерева, а потом
вслепую ссыпались на траву. В этом городе были прежние
воробьи! Конечно, тут и люди были такими же, но воробьи
показались куда более верным связующим звеном. Они
показались не потомками неисчислимых воробьиных
поколений, а теми же живыми комочками его времени.
Подойдя к электроплите, Нефедов произвел еще одно
испытание: включил конфорку с перегоревшей спиралью и
38
минуты две постоял, положив ладонь прямо на кружок, но,
увы, увы, конфорка так и не нагрелась. Ожидая пока
закипит чайник, он заглянул в спальню. Кровать была
аккуратно застелена. И застелена именно им, это он клал
подушку под покрывало, чтобы можно было прилечь и
днем. Да и кому было прибираться в этой спальне, если
последние пять лет после смерти жены, он занимал ее
один. Створка шкафа была чуть-чуть приоткрыта. Нефедов
заглянул на сложенное там белье, которое обычно утюжила
дочь Наташа, и закрыл дверку на ключик. Зеркало на
дверце отразило его, и он снова принялся рассматривать
свою кожу без морщин и морщинок, потемневшие волосы,
яркую радужку глаз. Как бы не проворачивалось вхолостую
его сознание, не способное перевернуть такой массив
информации, но не ликовать от своего чудесного
превращения он не мог. Радость портилась лишь одним
вопросом: для чего все это? Для чего, если нет уже
никого… Для кого твой молодой, цветущий вид? Кто его
может оценить? Но с другой стороны душа ликовала от
гордости первопроходца: там за окном, новый мир и ты в
нем первый из всего прошлого…
Он провел рукой по щетинистому подбородку и
привычно отметил, что нужно побриться. А почему дома
он в этой нелепой больничной пижаме? Как же он по
улице шел? Ах, да… никуда он ни шел, ведь все это
происходит на одном пятачке. Он достал из шкафа чистое
белье, рубашку, просторные домашние брюки, вошел в
ванную, включил воду. Слив ржавчину и первую холодную
воду из крана с горячей водой, отрегулировал температуру,
заткнул пробкой слив, разделся и тут, сквозь шум воды,
услышал уже прямо-таки истошный свист чайника на
кухне. Он рванулся туда нагишом, но вдруг представил, что
квартира еще просматривается восстановителями. Голый в
ванной – это понятно, но метаться голым по квартире…
Зачем их смешить? Он быстро надернул те же пузырчатые
39
коричневые штаны, побежал на кухню и сорвал с плиты
уже просто плюющийся чайник. Но любопытство:
наблюдают за ним или нет, осталось. Нефедов вышел в
прихожую, осторожно поднял трубку телефона и услышал
привычный длинный тон. Он подумал, что до Юрия
Евдокимовича, который сейчас, наверняка, где-нибудь по
пути к дому, вряд ли дозвонишься, однако почему бы ни
попробовать? Нефедов набрал шесть нолей. Где-то на том
конце раздался гудок вызова.
– Я слушаю тебя, дружище, – тут же ответил Юрий
Евдокимович.
– Ты что уже дома? – спросил Нефедов.
– Нет, еще в пути.
– Долго едешь. Ты летом, наверное, где-нибудь на даче
живешь?
– Нет, я живу только в одном месте. На Аляске.
– На Аляске?! Ничего себе!
– У нас очень хороший климат, – поневоле
оправдываясь, сказал старший восстановитель. – Во
всяком случае, мне нравиться.
– Ну-ну, – пробормотал Нефедов и едва вспомнил, о чем
хотел спросить, – слышь, Евдокимыч, прости, что я дергаю
тебя по мелочам. Скажи: сейчас мою квартиру
просматривают или нет? А то мне что-то не по себе.
– Мы ж договорились, что когда ты один, то никаких
наблюдений…
Положив трубку, Нефедов решил просто посидеть,
расслабиться. К чему это его просто чрезмерное
напряжение при каждом обычном шаге? Пора уж,
наверное, брать себя в руки. А Юрий Евдокимович-то…
Ничего себе: работает здесь, а живет у черта на куличках.

40
На столике рядом с телефоном лежал телефонный
справочник, невольно напомнивший о возможности
других звонков. Нефедов снова поднял трубку,
41
взволнованно набрал номер Сережиного телефона. Другой,
неизвестно где находящийся, конец провода отозвался
тугими, призывными гудками. Василий Семенович сидел с
окаменевшим голым торсом. А что если и тут все
предусмотрено, как с той же ржавчиной? Вдруг ему
ответят? Однако сигналы шли, а трубку не поднимали.
Нефедов автоматически взглянул на часы: обычно в это
время сын еще находился в своем инженерском кабинете.
Скоро длинные гудки сменились короткими гудками отбоя.
Что ж, и это выглядело вполне натурально: трубку не
брали, просто все куда-то отлучились, вроде как на
картошку в колхоз уехали, хоть это и не по сезону…
Нефедов испытал и другие номера, но всюду было одно
и тоже: трубку или не поднимали или для разнообразия
раздавались короткие гудки «занято». Потеряв всякую, в
общем-то, и не очень великую надежду, Нефедов некоторое
время сидел, глядя на телефон. Кто тут мог ему ответить?
Этот аппарат, чего доброго, сейчас на Земле вообще в
единственном экземпляре. Это ж понятно, что с Юрием
Евдокимовичем он связался не по телефону, а как-то иначе,
просто телефон подключен к этому «иначе…» Его аппарат
здесь не более чем игрушка для щекотания нервов.
6. МЕЖДУ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Из задумчивости Нефедова вывел ручеек, вдруг шустро
пробежавший из ванной в коридор. Охнув и забыв обо
всем на свете, кроме соседки снизу, Василий Семенович
влетел в ванную, одним движением обеих рук закрутил
краны, и до самого плеча сунув руку в ванну,
изливающуюся через край тонкой рваной пленкой,
выдернул пробку. Уж при таком-то потопе скандал сегодня
неминуем. Потом лихорадочно отыскал тряпку и принялся
собирать воду.
42
Минут через десять мокрый от пара и пота, он присел
на край ванны: теперь тут было сыро, слегка пахло
известкой. Конечно же, заблуждение о соседке развеялось
еще в работе, но это не успокоило, ведь если квартира
повторена до мелочей, то вода все равно куда-нибудь
протечет. А куда? Конечно, уж сюда-то дорогая соседка
Зинаида Михайловна не прибежит. Как глупо она, кстати,
поступала, постоянно скандаля, если жизнь была такой,
какой оказывалась теперь. И все равно уж соседку-то с ее
крашенной перекрашенной головой Нефедов встретил бы
сейчас с распростертыми объятиями. А если он промочит,
да замкнет что-нибудь восстановителям? «Ну, – скажут
они, – кого мы и воскресили…»
Еще несколько минут Нефедов сидел, ожидая
неизвестно кого и чего. Потом, понемногу отойдя, сбросил
больничные штаны, надетые прямо на голое тело, и
опустился во вновь наполняемую ванну. Вода приятно
омывала молодое, упругое тело. Хошь не хошь, но все же
это – ты. Ты молодой в этой старой, привычной ванной. А,
может быть, будущее со всеми его событиями, с болезнями
детей, с рождением внуков и с их именами, которые не
надо придумывать, а достаточно вспомнить, с книгами,
которые еще не написаны, но уже созрели в голове: просто
привиделось? Привиделось и воскрешение. На самом же
деле все идет, как шло, и смерть существует настолько, что
если сейчас глубоко задуматься о ней, то она той же
ледяной когтистой лапой стиснет твое сердчишко. Но
опять же, если ему сейчас тридцать и все привиделось, то,
как очутился он в этой четырехкомнатной квартире? В
тридцать-то лет они с Сашенькой жили в коммуналке. Там
у них родился Сережа, а после и Наташа. А эту квартиру
они получили лишь после того, как он ночами на общей
кухне написал два своих романа, и его признали
писателем. И когда стены этой ванной он собственноручно
отделывал вот этим самым молочным кафелем, то помогал
43
ему уже десятилетний Сережка. Так что, какой тут сон… А
психика его, кстати, не столь и пластична, как надеялись
восстановители.
Когда Нефедов, порозовевший от горячей воды,
побрившийся, благоухающий шампунем «зеленое яблоко»,
в свежем белье, прошел на кухню, то за окном была гроза
не гроза, а что-то странное. Привычной молнии не было:
небесный разряд происходил не ярким разрывом неба, а
густой паутиной разбегающейся по всему небесному своду
и оттого необычно ярко освещающей землю. Гром после
этого долетал не сочным высоким перекатом, а
рассеивающимся треском, похожим на рассыпающийся
горох. И Василий Семенович, потомственный
гуманитарий, мало что смыслящий в физике, догадался,
что эта сеть забирает в себя энергию молнии: люди просто
обуздали ее. Но дождь был, как дождь. Хорошо было пить
чай в сорок четвертом веке под густой шум воды,
падающей с неба, скатывающейся с листьев, журчащей с
крыш…
Только что сомневающийся в самой реальности
бессмертия, Нефедов залюбовался этой необычной грозой
и как-то обыденно подумал, что все же странным было бы
и в самом деле не существовать на свете сейчас, когда
шумел этот обширный и, наверное, в чем-то во все
времена одинаковый дождь, когда продолжалось само
время и эта зеленая земная жизнь. «Да уж, – заметив такой
поворот в своем настроении, подумал Василий Семенович,
– гибкость психики…» На улице было много людей, и все-
таки в этой картине городского дождя чего-то не доставало.
Пожалуй, того, что у людей не было зонтиков. Одетые во
все легкое, а под дождями в вовсе просвечиваемое (что,
впрочем, никого не смущало) они не бежали, не спешили
прятаться. «Не берегут здоровье, – слегка недовольно
подумал Нефедов, – чего ж его беречь, если оно ничего не
стоит. .» Но тут же и присек свое брюзжание. У них совсем
44
другое восприятие дождя. Дождь вроде даже забавлял их.
Почему бы и нет, если его капли чище воды из крана, а
среди прохожих нет ни дряхлых, ни больных.
После чая Нефедов продолжил инспекцию квартиры.
Судя по тому, что на кухне было много еды и, главное по
остаткам торта, выходило, что такой квартира была наутро
после дня рождения Андрейки. Василий Семенович взял
маленькую ложку и попробовал торт – он был еще свежим!
А ведь этот день рождения был далеко не вчера…
В комнате Наташи он присел в кресло, осмотрелся. Под
кроватью застрял игрушечный грузовик, на котором
продолжатель его рода Андрейка возил кубики с
облупленными буквами, заявляя, что обязательно станет
шофером. Нефедов поставил на колени грузовичок,
покрутил его скрипящие колесики с черными резиновыми
шинами. Память, со своей способностью затушевывать
детали, мягка и щадяща, а в этой точной достоверности
было нечто жутковатое. Давным-давно умерли и Сережа, и
Наташа, давным-давно нет и Андрейки. Странно было
представить внука старым: каким он был, каким стал?
Конечно же, он оставил после себя детей и внуков… И
внуки оставили своих внуков. А все вместе это называлось
«вчера».
Нефедов вошел в кабинет. Вот отсюда-то, с этой тахты
его и увезли. После того, как на вечеринке иссякли
поздравления, он, почувствовав боль в груди, скрылся от
своей молодежи сюда, где и случился приступ.
Чуть передохнув от воспоминаний, Василий Семенович
подсел к столу и взялся перебирать страницы своего
последнего романа, лежащего раскрытым. Любопытно как
поступили потом с этой рукописью? Наверное, увязали в
папку и сдали в архив, где она лежала до тех пор, пока
бумага не рассыпалась в пыль… Но как все это буковка по
буковке могло восстановиться сегодня здесь, на этом
столе?! Нет, работа сегодня определенно не шла.
45
Василий Семенович снял с полки фотоальбом, влажной
тряпочкой протер его толстые бархатные обложки и
корешок. За долгую жизнь с Сашенькой у них накопилось с
десяток альбомов, но этот, заведенный сразу после
женитьбы, считался избранным, в него вклеивали самое
важное: свадьба, первые снимки новорожденных детей, их
свадеб (к сожалению, у Наташи, оставшейся с ребенком у
родителей, личная жизнь не удалась), рождение внуков.
Одной из последних была фотография золотой свадьбы,
над которой, казалось, сама душа Василия Семеновича,
уже глубоко растроганная предыдущими снимками, тихо,
как бы украдкой, заплакала. Вот Сашеньку-то, умершую
спустя четыре года после этой свадьбы, было жаль больше
всех. Незадолго до ухода она была сухонькой, ласковой,
доброй, волосы ее были седые, просвечивающие и лишь
глаза оставались глазами той же девчонки, с которой он,
салага-токарь, познакомился на заводе. «Сашенькой» он
звал ее еще молоденькой, а потом, уже где-то на подходе к
этой золотой, не очень веселой свадьбе, открыл, что имя
«Сашенька» подходит к ней, старенькой, еще больше.
Жаль, что в это время он уже не говорил ей о любви. Это
казалось неловким, как бы уже не по годам. А после
кончины Сашеньки любовь к ней, как бы, даже
увеличилась, приросла тяжестью горькой печали. Лишь
после ее ухода жизнь с ней была осмыслена, как счастье.
Именно тогда-то, под старость лет, он и сделал вывод о
нравственной обусловленности восстановления, о
вечности человека, согласившись в этом со всеми
философами и фантастами, видевшими перспективу
человечества именно такой. Но теперь-то ему было
совершенно очевидно, что когда-нибудь он снова увидит
свою жену. И она будет уже не такой старенькой, а…
Нефедов начал быстро откидывать назад картонные
страницы. Остановился на снимке красивой
двадцатипятилетней жены. Светящаяся счастьем, она
46
показывала фотографу, то есть ему же, новорожденную
Наташку. И что же, Сашенька снова будет такой?! Потом,
первым встретив ее воскрешенной, он расскажет о том, как
долго ее ждал, и вообще скажет все, чего не сказал
прежде… Как прекрасно, что теперь у него будет эта
возможность!
Долго не мог Нефедов преодолеть эту страницу, и
вышло, что он посвятил воспоминаниям весь остаток дня,
смахнув потом и пыль с других альбомов. Страдая о
Сашеньке, Василий Семенович все-таки с недовольством
чувствовал, как быстро и гладко он принял пустоту
родного вокруг себя. Да узнай он в той жизни о смерти
сына или внука, то, наверное, не пережил бы этого. А
утрату сразу всех родных воспринимает совсем легко. Хотя
утрата ли это? Ведь все они, пережив его, умерли,
наверное, в свои отмеренные сроки. И как же их жалеть,
какие испытывать чувства? Таких чувств еще просто не
существовало. Как относиться теперь к родным, друзьям,
ко всему человеческому океану, в котором он существовал,
но которого уже нет? Как относиться к потерянному, зная,
что оно еще вернется?
7. К ВОПРОСУ О ДУХОВНОСТИ
Когда начало темнеть, Нефедов вышел в комнату с
люстрой и сел в глубокое кресло перед телевизором.
Несколько минут он задумчиво смотрел на стеклянный
прямоугольник экрана. Конечно, если включить этот
ламповый громадный, как комод, «Рубин», то его,
несколько осевший кинескоп, засветится, да только что
покажет? У этой цивилизации уже другая техника. Что ж,
пусть экран посветится хотя бы символически… Нефедову
стало даже жалко себя за эту картину, вмиг нарисованную
его писательским воображением: мерцает его несчастный
телевизор, а он одинокий, единственный, попавший в
47
сверхцивилизацию, человек сидит и печально смотрит на
него… Василий Семенович поднялся с кресла, щелкнул
выключателем и опустился на место. Экран медленно