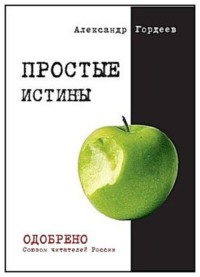полная версия
полная версияЖизнь волшебника
Маруси, слушает его с отквашенной губой.
– Да чем же тебе совхоз-то не глянется? – недоумевает он. – Просто жить надо умеючи… Если у
меня трактор под задом, так я чо же, не привезу себе, чо надо? Теперь не надо кажду копейку-то
считать. Государство, слава Богу, не скупитца. А ты сорвался с трактора в свою строй-банду,
ходишь по улице с молоточком, как бродяга, а чо толку-то…
– А мне с молоточком-то спокойней! – взвивается Огарыш. – Ну, возьму я горсть гвоздей в
карман, так я же тонну-то их не натаскаю: чо мне их, в уборную забивать? А на тракторе-то, это ты
точно говоришь, тащить надо. А не своруешь, так тебя теперь даже собственная баба не поймёт.
– Ладно, можешь и не воровать, но работа на тракторе так и так выгодней.
– Выгодней?! – кричит Михаил. – А кому выгодней? Кому она нужна, така работа?! Как сейчас на
тракторе в поле работать? Пары-то какие должны быть, а? Чёрные? Чё-ёр-ные. А у нас? Я как-то
ехал на мотоцикле да остановился ради интереса поглядеть. Стою и не соображу: то ли там кака-
то репа голландска растёт, то ли кукуруза американска, то ли хрен хороший такой, африканский.
Всё зеленым-зелено. Нет уж, прежде чем я на трактор сяду, пусть он сначала всё литовочкой
выкосит и вылижет! Это он всё позароостил.
– Да кто это – он-то?
– Да директор твой толстобрюхий, депутат этот, мать его перемать!
И всем понятно, что теперь это у них надолго.
Оба уволенных солдата сегодня в дембельской форме, переиначенной и разукрашенной так,
что на уставную она уже едва похожа – так ведь обычай такой, куда же денешься? Оба, конечно,
ещё и чуть поддатые, а один так уже и не чуть. Почему бы и в клубе не покрасоваться? В конце
концов, разве не для этого служили?
А в клубе Светлана, которая и в самом деле никогда сопливой не была. Теперь же – красавица!
Нет, не правильно, теперь она – писаная красавица! Чего стоит одна её толстая коса, пожалуй,
25
единственная на всю Пылёвку, а может быть, и на весь район! А кожа какого-то мягкого, прямо-таки
персикового цвета?! А тонкая фигура, в которой уже теперь угадывается стать её серьёзной
матери! А изгиб точёной талии, который бьёт по круто начинающемуся бедру? И это всё при том,
что Роман тут же ловит на себе её тайные, испуганно-призывные взгляды. Но с другой стороны…
«Распланировали они тут всё за меня», – ущемлённо думает он. К ней просто так не подойдёшь.
Подойти к ней – значит уже наполовину жениться. А надо ли это ему? Хороша Светлана, да только
не такая, как Люба, и потому ничем родным от неё не веет. Ни душевной, ни физической тяги к ней
он в себе не слышит. Впрочем, после встречи с Любой физическое смолкло в нём вовсе. Свечение
любимого образа с лёгкими, дурманящими завитками на шее, с чуть вздёрнутым носиком выжигает
и подавляет всё.
Первая неделя, прожитая Романом дома, удивляет и мать, и отца. Демобилизованный солдат
почему-то постоянно сидит дома. Вечерами ходит, правда, в клуб, но после кино сразу же, как из
увольнения, прибывает домой. А если и задерживается на танцах, которые в клубе почти каждый
день под собственный ВИА с двумя гитарами и барабаном, то не больше, чем на полчаса. И как
это понять? По разумению Огарыша, сыну сейчас по всем статьям полагается приходить с
петухами, а он уже в двенадцатом часу сидит на веранде и дует молоко с хлебом под
недоумённым материнским взглядом. Михаил от этого вроде бы даже как-то по-отцовски не
востребован. Сына сейчас полагается для порядку строго и периодически приструнять за то, что
тот шарится где-то ночами. Сын же должен изворачиваться, пряча глаза, но всё равно бегать. А тут
что выходит? Тут всё как-то не по-правильному правильно. А что за странная печаль в его глазах,
заметная уже и в первые минуты встречи, и на вечеринке в его честь? А почему вечеринки он не
хотел? Другой бы на его месте юлой ходил, всех друзей обежал и собрал к себе. А ему хоть бы что.
И Светку в упор не видит. Почему!? Но ведь самого-то Романа не спросишь, да и у Светки ничего
не выпытаешь. Огарышу остаётся лишь следить за оперативными донесениями «сватей-шпионок».
Эх, сбиты и подпорчены все отцовские планы и мечты…
Маруся же и вовсе растеряна. С нетерпением ожидая сына, она думала, что уж с такой-то
красавицей, как Света, у него всё пойдёт как по маслу, ведь лучшего варианта и придумать нельзя.
Она даже с удовольствием представляла, как после Роман будет ей благодарен за то, что она с
такой невестой пособила. А тут вовсе никак и ничто не идёт. Никого Маруся не любит так, как
своего единственного сына, и не болеть за него всей душой не может. Порча на нём какая, ли чё
ли? Так не похоже. Нагадать бы что-нибудь ему, наворожить, но здесь нельзя – не тот случай.
Собственные болезни знахарям не под силу.
Галине Ивановне с приездом Романа удаётся наладить с дочерью самые доверительные
отношения – если уж не советовать, так знать-то проблемы дочери она должна? Каждый вечер
теперь она, сопереживая, обсуждает со Светой всё, что касается Романа: во что был сегодня одет,
как держался, не заглядывался ли на кого, как смотрел на неё? Отношение Галины Ивановны,
вовлечённой теперь в эту интригу, изменены к нему вкорне. В какого роскошного мужчину,
оказывается, развернулся этот некогда гадкий утёнок! Не однажды видя его на улице, она уже не
может не смотреть на него пристальней, чем обычно. Плечи его, так и оставшиеся с некоторой
косиной, теперь уже не признак нескладности, а похожи на некий постоянный, задиристый вызов. В
конце концов, кто знает, каков был его настоящий отец? Образованная и начитанная Галина
Ивановна думает, что Роман, кажется, похож теперь чем-то на горьковского Челкаша, и это
заключение, дающее ему законченную определённость, наконец-то успокаивает её. А голос у него
какой! Однажды на улице Роман просто так, тихо и скромно поздоровался с ней, так Галину
Ивановну и саму мурашками на сто рядов прошило. Уходя, она потом ещё несколько раз
оглядывалась на него, потирая руку около локтя, чтобы ласково пригладить этих мурашек.
Оказывается, у Романа, у этого хриплого в прошлом петушка – густой, мягкий бас! Галина
Ивановна – женщина крупная, обожает крупных мужчин, но так, чтобы и голос у них был
«крупным». А вот у её большого мужа голос так себе, средненький. Но что уж тут поделаешь – всё
лучшее в одного мужика не втолкнёшь.
Теперь Галина Ивановна даже приветствует возможную дружбу Романа и своей дочери. И Света
волей-неволей оказывается в таком положении, когда даже утайка от матери какой-нибудь мелочи
– уже предательство. Только вот рассказывать-то ей не о чём. Каждый день всё, как обычно. После
кино он сидит в кресле фойе, слушает, как играют музыканты, смотрит, как танцуют другие. Потом
встаёт и уходит домой. Как другие девчонки смотрят на него? Заглядываются, конечно. А Наташка
Хлебалова, так та и вовсе всё время вьётся около него. Галина Ивановна возмущена: Наташка!?
Так она же ещё совсем соплячка! Только девять классов закончила! Она-то куда лезет! Правда,
юбчонку носит такую, что ветер всюду обдувает. «Не смотрит он и на неё», – махнув рукой, говорит
Света.
Чаи Маруси и Галины Ивановны за клубной сценой начинают заметно горчить, потому что на
сцене их действия полный штиль. И всё же больше всех этот странный, неправильный покой
тревожит Огарыша. Мирное, парное молоко после клуба – это хорошо, но Михаил слышит, как сын
подолгу потом ворочается без сна. Что его мучит, когда в клубе столько соблазнительных девок!?
26
Ну, не Светка, так ведь там и без неё их целый табун. Или с ним всё-таки что-то не так? Но чем
таким опасны пограничные войска? Будь он ракетчиком, тогда другое дело… Хотя кто знает, что
творится сейчас на границах… Мало ли какие происки с вражеской стороны… А может быть, у
сына от рождения что не так? Только как это поймёшь? И чем больше всяких подозрений возникает
в голове Огарыша, тем больше он панически утверждается, что с сыном что-то по-настоящему
неладно. «Ну что ж, всё верно, – в некоторые минуты уже обречённо думает он, – видно, у меня на
роду написано никакого продолжения не иметь. С сыном-то ещё повезло, а дальше, видно, шиш.
Судьбина, знать, такая». Однажды, думая об этом перед сном, Михаил не удерживает случайный
всхлип от обиды за себя и от жалости к сыну.
– Ты чо, выпил сёдни где-то, или чо? – спрашивает Маруся, даже воспрянув ото сна.
Огарыш молчит и этим потрясает Марусю: не матюгнуться после такой реплики в ответ!
Окончательно, почти испуганнно проснувшись, она лежит, глядя в потолок. Видно, на его душе что-
то очень серьёзное. И Михаил чувствует этот её молчаливый вопрос. Он поднимается, идёт к
бочке, пьёт воду ковшом. Может, сказать ей о своих подозрениях? Нет, не поймёт. Этим дурам
«сватьям» одна забота – как бы он не избегался, как бы женить его. А дело-то ведь куда хуже.
Дуры, они дуры и есть…
Маруся же потом тоже долго не может заснуть, и вовсе ничего не понимая.
* * *
Стоят знойные, засушливые дни. Горячая земля порохом сыплется в ладонях. Протока, где
купаются Роман с Борей Калгановым, сузилась до того, что даже страшно: как бы и вовсе не
перехватило берегами эту сверкающую нитку. Всё пространство в эти дни иссушено настолько,
что, кажется, не дай Бог, дотронется кто-нибудь до неба, и его поблёклая голубизна осыплется
пылью, открывая путь и вовсе лавине грузного белого огня.
Транжиря дни своих послеармейских отпусков, вчерашние солдаты несколько дней подряд
приходят на одно место с полуостровком мелкого, чистого песка, намытого наводнением. Сверху
песок горяч до того, что не ступить босиком, но если его растолкать ладонями, то внизу
обнаружится сначала приятная влага, а потом и вовсе холодная вода. С одной стороны
полуостровка серебрится протока, а с трёх других – мягкий тальник с длинными листьями,
шелестящими и серебрящимися тыльной стороной почти при полном безветрии. Как мало
требуется для красоты и покоя: всего лишь вода, песок, тальник, небо… «Ох, мир ты мой, мир
чуткий и трепещущий…» – с восторженно замершей душой думает Роман, озираясь вокруг.
На плече Бори – синяя наколка: танк с громадным жерлом поднятого ствола. На заставе тоже
кололи стандартный рисунок с полосатым пограничным столбом и гербом СССР. Кололи все –
Роман отказался. Ещё с детства насмотрелся на страшные, расписанные кисти рук соседа Матвея,
приезжающего из тюрьмы лишь как в гости, и не решился портить своё тело даже такой памятной,
сувенирной картинкой. Да ещё, наверное, подсознательно удержала наивная детская мечта,
которой больше подходит чистота тела, а не какая-нибудь «синюшина», так или иначе похожая на
тюремное клеймо. К тому же, зачем ставить себя в зависимость от каких-либо символов? Два года
службы – это лишь маленький эпизод большой жизни. Вправе ли какая-то случайная наколка
становиться определяющим символом на всю жизнь? Вот Боря, судя по всему, теперь до конца
дней своих – танк.
Отгуляв всё положенное, Боря собирается сесть на трактор или машину. Он вяло сообщает об
этом лишь однажды. Такого куцего плана ему вполне хватает на всю оставшуюся жизнь. Пока же
Боре нужно покончить с отпуском, все дни которого он намерен отбыть на песке у воды. А ещё ему
завистливо хочется прожечься до пустынной черноты Романа. Роману же больше нравится не
валяться, а плавать, нырять, подолгу задерживая дыхание. В воде обычно сидит по полчаса,
вылезая с гусиной кожей на теле. Оказывается, чуть помёрзнуть – это даже приятно. Однажды в
отряде специально долго не выходил из большого холодильника с мясом, наслаждаясь холодом, а
потом с неделю швыркал простуженным носом чуть ли не при сорокоградусной жаре. Тогда он
даже побаивался, что, привыкнув к зною, не сможет переносить свой сухой зимний мороз.
Впрочем, что мороз… Тогда пугала и сама жизнь на гражданке. Самостоятельными-то всё-таки
становятся не во время службы, где всё расписано и где всё решают за тебя, а после неё, когда
вдруг обнаруживается, что на гражданке надо всё решать самому.
Расслабленно ткнувшись грудью в горячий песок, Роман испытывает новую волну
просветлённого осознания: а ведь он и в самом деле уже дома.
– Понятно, почему раньше водой крестили, – бормочет он, лёжа с закрытыми глазами.
– Почему? – спрашивает Боря, не поворачивая сонной головы, упавшей в другую сторону.
– А-а, – отмахивается Роман, ведь если это не понятно, то и не объяснишь.
Был бы тут Серёга Макаров, он бы спрашивать не стал.
Чаще всего, правда, и тут с выражением сонливой усталости, Боря рассказывает о том, как
вечерами он «кадрит» с Тонькой Серебрянниковой, одноклассницей Светы Овчинниковой.
27
– Что ещё за Тонька? – спрашивает Роман. – Я что-то путаю их всех.
– Её не спутаешь. Ну, её ещё Кармен зовут.
А вот Кармен вспоминается сразу. У Тони вьющиеся, кудрявые волосы и чуть цыганистая
внешность. Конечно музыкальную, а тем более литературную Кармен в Пылёвке знают не многие,
но очень уж похожа Тоня на даму с флакона духов «Кармен». Роман вспомнил, что, кажется, ещё
классе в пятом Тоня на школьном новогоднем бал-маскараде нарядилась цыганкой. Вот с того-то
бала-маскарада она, наверное, и началась как Кармен.
– Ну, а у тебя как? – ещё спустя несколько минут безразлично спрашивает Боря.
– Да никак, – снова отмахивается Роман.
– Чудной ты какой-то, – вздохнув, произносит бывший танкист, – кастрированный что ли?
«Сам ты кастрированный, – беззлобно думает Роман, – только на другой орган».
Ему и впрямь не надо никого. Пока что хватает и свечения Любы. Пытаясь здраво представить
своё ближайшее будущее, Роман думает, что было бы хорошо подольше сохранить это
спасительное излучение, потому что лишь оно способно ещё удерживать его у берега
целомудренности. Продержаться бы так до следующего чувства, не размениваясь и не
растрачиваясь. Ведь если разменяться, то искреннего счастья потом можно уже и не ждать. Может,
отвлечься на что-нибудь другое? Да вот хотя бы на подготовку к вступлению в партию:
кандидатский стаж скоро истекает. На службе эта перспектива казалась очень важной, а теперь
вроде как поблёкла.
А всё-таки как там, что у Витьки и Любы? Вышло что-нибудь или нет? Может быть, есть ещё
какая-то надежда? Роман пишет письмо на Витькин адрес и потом, сбросив конверт в ящик у
почты, удовлетворённо вздыхает – теперь, пока он подвешен в ожидании ответа, его
уравновешенному состоянию ничто не грозит.
Через неделю бездельничать уже не остаётся сил. Возвращаясь как-то с речки, Роман видит на
улице отца, ремонтирующего штакетник, и берётся помогать. А на другой день выходит на работу с
самого утра, надев армейскую панаму, привезённую не без затеи напоминать земляками о своей
«пустынной» службе.
Боря пробует отбывать дни отпуска на речке в одиночку, но это надоедает и ему. Он идёт в
контору совхоза и уже на другой день торжествующе и гордо подкатывает к Мерцаловым с их
штакетником на какой-то колымаге, намеренно обдав пылью и посигналив звуком, похожим на
овечье блеянье. Да уж, танков тут нет! Впрочем, Боря уже и сам не тот армейский танк, каким
казался в первые дни. Непонятно как, но на домашней сметанке да молочке он успел за эти недели
ещё более округлиться, так что похож он теперь на молодого, перспективного бегемотика. Да ещё
какие-то неожиданно рыжие, пушистые бакенбардики отпустил, видимо, надеясь замаскировать
ими щёки, да наоборот эти щёки ещё сильнее округлил.
Ответ из белого Витькиного города приходит через полторы недели. Увидев конверт со
штемпелем города Златоуста и адресом, написанным женским почерком, Роман тут же понимает,
что надежды у него никакой.
«Здравствуй, Роман!
Спасибо, что не забываешь нас. Письмо твоё получили два дня назад, но Витя не любит писать.
Сейчас он ушёл на работу, а меня попросил ответить тебе. Всё у нас вышло, как намечали. На
обратном пути Витя встретил меня с поезда и не дал уехать дальше, так что я ещё и у мамы не
была. Документы мне вышлют. Витя пошёл на завод фрезеровщиком, а я хочу устроиться швеей
на фабрику. Это рядом с нашим домом. Вообще-то я давно мечтала о такой работе. Так что всё у
нас хорошо.
Всего доброго и тебе! Счастья! Любви!
Привет от Вити. Люба.
До свидания!»
Письмо, переданное матерью, он читает, выйдя в ограду, и долго сидит потом на бревне,
задумчиво разглядывая буквы, написанные обычной шариковой ручкой. Вот каков он – почерк
Любы. Неужели этот листок был в её руках? Да, она всё написала сама. А Витька молодец – «не
дал уехать дальше», и всё тут. Вот это по-мужски и «по-пограничьи»!
Любин ответ вносит в душу такую полную пронзительную определённость, что в ней становится
свободно, гулко, пусто. Это послание словно из какого-то другого мира – чистого и счастливого. И
дома в том мире всё такие же светлые, высокие и в лёгком тумане. Спасибо красивому городу
Златоусту уже за то, что он есть. «А вот мне пора опускаться на грешную землю».
У Маруси неожиданное письмо вызывает бурю эмоций и подозрений. Почерк женский – это
понятно и ей. Выходит, у сына уже кто-то есть. Причём где-то далеко. Значит, всё-таки уедет. И
всем их с Галиной Ивановной фантазиям конец. Три дня Маруся набирается духу, чтобы
заговорить со своей начальницей об этом, а на утро четвёртого дня Галина Ивановна вдруг
сообщает, что вчера вечером Роман наконец-то подошёл к Светке и проводил её до дома. Маруся
не может сдержать слёз.
28
* * *
Роман знает, что, по большому-то счету, Света всё равно не для него, но, увязавшись, наконец,
проводить её, чувствует, что сердце его словно разносит на больших оборотах. От клубного
крыльца, где светит лампочка с вьющейся вокруг неё мошкарой, Света уходит быстро, но,
оказавшись в темноте, замедляет шаги. И не оглядываясь, она слышит преследование и знает
преследователя. Чем ближе подходит Роман, тем скованней становится она, тем более
загипнотизированно замедляется, так что шаги свои уже и растягивать некуда. Поравнявшись с
ней, Роман некоторое время идёт молча, невольно ещё сильнее пугая её. «Пожалуйста, вот он я,
получите», – словно говорят уже сами его выровненные шаги. Да, собственно, не пойти за ней
Роман уже не может. Душа помнит Любу, а разум постоянно долдонит, что Люба уже в прошлом. А
в настоящем – Света. А может быть, и не Света. Может быть, ещё Наташка Хлебалова,
шестнадцатилетняя девчонка, загорелые ноги которой выше коленок такие полные и тугие, что
дыхание от их вида сдваивает поневоле. Уже при одном её появлении в клубе Роман чувствует
такую сладкую ломоту в костях, что хочется потянуться всем телом. Он пытается затушить в себе
это хищное, ласковое пламя, как удавалось делать с впечатлением от других женщин, да, видно,
тут уже какой-то непреодолимый случай. Теперь, когда Любы почти что уже нет, это пламя не
тушат никакие логические соображения, и даже не действует тот довод, что Наташке лишь
шестнадцать. Ох, а уж что снится ему в последнее время, какие жаркие призраки истязают по
ночам! Как эти Наташкины ноги смугло светят и мерцают во снах! Но за это он уже не может ни
ругать, ни осуждать себя – сны запретов не понимают. Тем более, что всё желаемое не имеет во
сне завершения – финалу там всегда что-нибудь мешает. И это понятно: как может присниться ни
разу не испытанное наяву? Наяву же всё в нём мешается: с одной стороны, страшно хочется
поскорее испытать близость с женщиной, с другой – эта близость представляется падением. Ведь
он намерен строить жизнь основательно, оставаясь совершенно честным перед своей будущей
избранницей. Для настоящего счастья они должны быть целомудренны оба. И, конечно, теперь-то
уж лучше Светланы для этого нет никого. Вот потому и шагает он сейчас с ней, видимо, поступая
очень правильно.
– Здравствуй, Света, – произносит он, пройдя сбоку от неё уже чуть ли не пол-улицы.
– Здравствуйте, – шепчет она.
И снова оба надолго смолкают, привыкая к новому состоянию, в которое они входят, переступив,
наконец, порог молчания. Когда Светлана ждала Романа, то чувство её было заочным и более
решительным. Находясь внутри души, как в коконе, оно жило само по себе и не требовало никаких
действий, никаких проявлений. Даже письма, и те Света, казалось, писала сама для себя. Но вот
они, минуты, когда этому чувству требуется как-то выразиться вовне. Но как?! Видя Романа рядом,
физически чувствуя его высокий рост, умом понимая всю серьёзность этого человека, прошедшего
армию, она не может не робеть и не свёртываться внутрь к испуганной душе. Ей кажется, будто
Роман свалился на неё слишком быстро и неожиданно. Она, оказывается, просто не готова к
такому «сверхпарню», потому что до армии он был не таким «страшным». Да она бы уж лучше ещё
его подождала, чем что-то делать сейчас.
– Присядем, поговорим, – предлагает Роман, указав в темноте на чью-то скамейку, уже на
подходе к её дому.
Но Свету его предложение будто подстёгивает: она ускоряет шаги. Роман даже
приостанавливается в замешательстве. Потом уже около самой калитки он догоняет Свету, берёт в
ладони её похолодевшую ладошку. На лице этой красивейшей девушки лежит пёстрый тёплый
свет, пробивающийся с веранды сквозь черёмушную листву, и в душе Романа что-то и впрямь на
мгновение устремляется ей навстречу. Света же с постоянным, неослабевающим усилием
вытягивая ладошку, смотрит с таким ужасом, что его пальцы разжимаются сами собой. Да нет же,
нет на её лице красоты, которая ему почудилась на миг: всё в этом лице правильно, но без тепла
родного…
Света убегает за ворота. Вытянув шею, Роман смотрит поверх забора на хлопнувшую дверь
веранды и, ничего не понимая, бредёт домой. После всех намёков матери, после выжидательных
взглядов самой Светы её просто дикое бегство вызывает лишь недоумение.
Во второй вечер она, хоть и полуотвернувшись, но всё же опускается на скамейку, на которую
первым «показательно» садится Роман. Воодушевлённый кавалер передвигается ближе, потому
что на таком отдалении просто не говорят, но Света тут же вскакивает, испуганно взмахнув руками.
«Пугливая Птица, – грустно думает Роман. – Хорошо, хоть не улетела совсем. Теперь я знаю, как
тебя звать…» И усадить её уже не удаётся. То же происходит в третий и четвёртый вечера: Света
встаёт или отодвигается при малейшем подозрительном, на её взгляд, движении Романа. А если
уж она поднялась, то для её нового усаживания требуется специальная клятва о неприближении.
Роман же всё надеется заглянуть ей в лицо и в глаза, чтобы проверить, могут ли сцепиться их
души? Да и какое тут может быть общение, если не видеть глаза друг друга? Всё отрывочно,
односложно, натянуто, холодно, как будто каждый постоянно лишь сам по себе.
29
Однажды к ним подходят Боря со своей Кармен. Их заметно издали: свет луны в этот вечер
такой ясный, что даже земля видится серебристо-беловатой. Боря, коротко похохатывая,
рассказывает какой-то анекдот. Приходится и Роману перейти на анекдоты. Тоня смеётся открыто,
заразительно. Она не так красива, как Света с её писаными чертами лица и персиковым цветом
кожи. В Тоне вообще какое-то несоответствие: при полных губах – небольшие глаза и маленький
носик. Её лицо привлекательно уже на какой-то последней грани: хотя бы чуть-чуть измени какую-
то одну его чёрточку, и вся привлекательность уйдёт в минус. Но, кажется, в этой-то рискованности
и есть главная изюминка её облика. Роман отмечает в ней и нечто новое, чего не помнил раньше –
это забавные ямочки на щёчках, которые ему почему-то хочется назвать цыганскими. Хотя почему
именно цыганскими и сам не поймёт – при чём тут цыгане? А ещё Тоню-Кармен красит счастье,
просто плещущее из неё и будто вывернутое в лёгкое подтрунивание над тяжеловатым,
медлительным Борей. Тот спокойно, с массивной ленивостью сносит её шпильки, делая вид, что
больше увлечен транзисторным приёмничком с длинным блестящим штырём антенны, который он