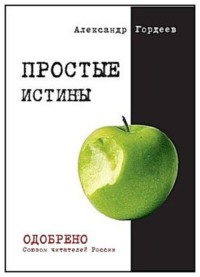полная версия
полная версияЖизнь волшебника

ЖИЗНЬ ВОЛШЕБНИКА
Роман
И Ангел, и Тень с надеждой смотрят вслед
каждому, шагнувшему в этот мир…
Автор
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Предисловие
Никто с абсолютной уверенностью не знает, есть ли Бог. А если есть, то кто именно: Яхве,
Христос, Будда, Магомет, Сварог? Если есть сразу все, то как они делят верующих между собой? А
может быть, Бог как Великий Наблюдатель – один, да каждому отзывается по-своему? Во всяком
случае, если сложить всю энергию вер, то Бог должен существовать уже от одной этой энергии. Но
слей в одно всю ярость и скепсис неверия, то станет ясно, что Бог просто невозможен. Так или
иначе, но очевидной истины тут нет. Даже тут, в самом главном… Страшно подумать, из каких
ложных, но грандиозных сказок состоят жизнь и история Человечества! Правды в ней нет!
Но если наш мир без Бога, то кто же или что управляет им? Одни утверждают, что объективные
законы, неподвластные людям, другие свидетельствуют, что мир изменяется под влиянием
древнего масонского заговора, что, мол, если сконцентрировать все финансы в одних руках, то
такие руки могут управлять и самой этой объективностью, то есть мир просто подвластен
избранным.
А как во всей этой неопределённости жить: по законам разума или по законам эмоций? Искать
ли истину, если её до сих пор ещё не нашли? Получать наслаждение от всех жизненных
проявлений или, напротив, видеть его в отказе от всяческих радостей?
Неизвестность – вот главный материал, из которого мы строим свои судьбы. Жизнь каждого из
нас создаётся как раз из того, что выплывает из неизвестности в самом её процессе. Если бы всё
знать наперёд… Но – увы, увы – мы держим в руках лишь ниточки своей жизни, которые ведут нас
через массу самых различных событий: где-то идут войны с фонтанами взрывов и свистом пуль, в
космосе висят космические станции, запущенные людьми, и летающие тарелки, созданные то ли
инопланетянами, то ли нашим воображением. На Земле одновременно рождаются тысячи человек,
и тысячи умирают. В одно и то же время несутся куда-то сотни самолётов, а по сетке железных
дорог в разных направлениях грохочут тысячи поездов. Миллионы судеб катятся сейчас в одном
направлении, и миллионы – в другом. Вообрази, что ты едешь не в этом поезде, а в поезде,
прогремевшем навстречу, и должен будешь признать, что тогда многое в твоей жизни должно быть
иным. Возможно, навстречу тебе пронёсся совсем другой вариант твоей судьбы.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Эпоха в три дня
…Когда смотришь днём в окно, то видишь, как стремительно летит твой скорый поезд, а когда
ночью лежишь на полке, то кажется, что он месит и месит эту нескончаемую дорогу на одном
месте. И только в те моменты, когда навстречу с гудком, мощно раздирающим монотонный
перестук, проносится встречный поезд, представляется, что твой вагон на какое-то мгновение
рывком устремляется вперёд. Открываешь потом глаза, намаявшись долгим сном на вагонной
полке, и будто приходишь из какого-то ощутимого небытия. Да сколько же лежать?! Пора встать и
потянуться, распрямляя поток обновлённой жизни в звонких костях.
Пора уже пересаживаться на другой поезд, уже на сибирскую ветку-линию.
Двое уволенных в запас солдат-пограничников, лишь сутки назад покинувших свою заставу-
оазис, затерянную в бесконечных песках, сонно сходят на небольшой узловой станции. Уже здесь
они отличаются от других дембелей такой чернотой лиц, которую и загаром не назовёшь.
Справившись в кассе о билетах, они занимают удобную позицию на скамейке перед вокзалом и,
2
пряча друг от друга один и тот же интерес, наблюдают за женщинами и девчонками. В отличие от
их маленькой планеты-заставы, женщин в этом мире, оказывается, столько же, сколько и мужчин и
даже, пожалуй, чуть больше. И это очевидное открытие не может не вдохновлять.
Благостно состояние «гражданки» и внезапной, непривычной свободы. Их скамейка стоит в
тени прибитого к штакетнику большого красного плаката – кажется, с какими-то призывами к
Первому мая. К деревянным столбикам приколочены легко трепещущиеся маленькие красные, но
уже чуть выцветшие флажки. Всё это праздничное оформление почему-то здесь ещё не убрано,
хотя уже и с Девятого мая прошло не менее недели. Откуда-то из здания станции «Песняры» поют
свою «Вологду-гду». Ботинки, на которые не хватает тени плаката, по-военному пахнут кожей,
гуталином и, как будто, всё ещё пограничной заставой. Если смотреть только на ботинки, то
кажется, что и застава тоже здесь. А вот и нет – ботинки вместе с ногами, вдетыми в них, небрежно
брошены уже на другом асфальте – на асфальте станции и дороги домой.
Потом, даже чуть перегрузившись столь горячими наблюдениями, солдаты размооренно
дремлют чутким, не до конца отключающим от этой праздничной жизни сном и встряхиваются, как
по команде, когда с другого конца их скамейки слышат щебет двух девчонок – не то школьниц, не
то пэтэушниц. Дембеля пытаются поболтать с ними отчего-то внезапно одеревеневшими, будто не
своими языками, и даже облегчённо вздыхают, когда минут через десять острые на язык
пэтэушницы, подхватив сумки, убегают на местную электричку. На первый раз хватит и этого.
Теперь они сидят, удивляясь тупости своих мозгов, как будто предназначенных пока лишь для
разговоров с теми, у кого на плечах погоны.
О женщинах в армии мечталось много. Женщина представлялась там главной, генеральной
линией жизни. Сколько разных фантазий перемалывалось во сне и наяву! Гражданская жизнь,
если честно, в основном-то и манила этой, казалось, бесконечной перспективой. Это ж
представить только – сколько разных женщин на свете! Они чёрненькие и беленькие, русые и
рыжие, полные и худенькие, маленькие и высокие, с разным цветом глаз, с разными ногами. Ну, в
общем, тут всего не перечислишь, уж не говоря о том, что все они ещё и разных национальностей.
У них разные голоса, походки, жесты… Но стоп, стоп, пожалуй, об этом лучше не думать сейчас!
Тем более, что мощное притяжение женщины видится Роману Мерцалову унизительным, как нечто
подавляющее, делающее безвольным. Да и совестно это, в конце концов. Ведь близость – это
наслаждение только для мужчины. Не зря же он тратит столько энергии, чтобы это удовольствие
получить. Обладая женщиной, мужчина просто унижает её. Обладание – это всегда насилие,
независимо от того, как оно достигнуто: силой, лаской или нежностью (в сущности, обманным
оружием того же насилия). Этого насилия нет разве что на фоне любви. Но любовь! Любовь – это
нечто из области космического…
Как же стыдно, осознавая себя душевно чистым, наблюдать такое мутное брожение в себе! Что
с ним такое?! Во что он превращается?! В разговоре с этими языкастыми малявками он и сказал-
то, а точнее, выдавил из себя лишь несколько слов, но ведь ему при этом почему-то хотелось
просто в лепёшку расшибиться, чтобы понравиться им. На него странно действовало всё:
крашеные ногти, ресницы, глаза, а лямка лифчика, увиденная очень близко в вырезе платья одной
из девчонок, потрясла так, что отяжелевшую кровь не выходит успокоить и сейчас.
Витьке в этом смысле легче. Он горожанин и не ослаблен таким наивом о женщинах. Как-то в
разговорах он даже заявил, что женщины как раз для того и нужны, чтобы служить мужику. Ну,
понятно, что уж это-то и вовсе ни в какие ворота не лезет!
Сослуживцам Роману Мерцалову и Витьке Герасимову сидеть на этой станции ещё восемь
часов. В ближайшем поезде «Москва – Улан-Батор», который вот-вот подойдёт, свободны лишь
купированные места. Воинские требования дембелей выписаны на плацкарт, и для купе требуется
доплата.
– Давай поедем на этом, – уже в который раз предлагает Роман.
– Ничего, подождём, – отмахивается Витька, – мы не пенсионеры в купе сидеть. Там и
проводницами-то одни старухи…
Конечно, это убедительно, но дело тут всё же не в старухах, а в деньгах. У Витьки мечта:
приехав домой, сразу же – хоть ночью, хоть днём – прокатиться от вокзала на такси и
полюбоваться своим городом. Потому и не хочет он отдавать мечту за «лишнюю стенку в вагоне».
– Там и доплатить-то надо копейки, – уговаривает Роман, – хочешь, я дам тебе на это твоё
такси? У меня хватит.
– Не возьму. Да и откуда у тебя лишние деньги, капиталист?
– Просто ты куришь, а я нет.
– Ишь, экономный какой.
Не сговорившись, замолкают, успокаиваются и снова дремлют, убаюканные дурманом цветущей
черёмухи из палисадника. После «прозрачного» на запахи воздуха пустыни этот густой аромат
трудно продохнуть – хоть бери лопату и отгребай его куда-нибудь в сторону. Эх, а как же всё-таки
хорошо на «гражданке»!
…Просыпаются они оттого, что станционный динамик издаёт какой-то странный звук и
3
дремавшим кажется, будто на станции кукарекнул гигантский петух, которого хватило бы не то что
на три улицы станции, но и на целый город. Объявляют о прибытии поезда, который они
пропускают. Ох уж эта маята дальних дорог и станционных ожиданий! Особенно после службы,
когда так хочется домой.
– Нет, ну почему это я должен здесь торчать?! – взрывается, наконец, Роман. – Меня дома ждут,
а я тут сижу тебя, такого принципиального, уговариваю! Тебе до дома уже рукой подать, а мне до
Читы ещё пилить да пилить…
– Э, да ладно! – махнув рукой, соглашается Витька. – Как-нибудь сторгуюсь с таксистом.
Когда уже в тёплых мягких сумерках молодые спортивные дембеля поднимаются в вагон, то
останавливаются ошеломлёнными: на окнах – крахмальные занавесочки, на полу через весь пенал
коридора – мягкая дорожка, перед которой хочется разуться. Но главное – встречают их две
красивейшие проводнички, примерно ровесницы. Наверное, тот, кто стоит над всеми нами (если он
всё-таки есть), поняв, что нужно вчерашним солдатам, дарит им эту невероятную встречу. Хотя, с
другой стороны, кто же ещё, если не красивые девушки, должны работать в поездах
международного следования? Можно бы и сразу об этом догадаться!
Едва аккуратные дипломатики новых пассажиров оказываются приткнутыми в купе, как Витька
бежит знакомиться. Роман никогда до этого как-то не присматривался к его внешности: рожа да
рожа, примелькавшаяся за два года, но теперь он пробует взглянуть на Витьку свежим,
оценивающим взглядом. А там, как ни приглядывайся, всё равно смотреть не на что. И куда он
только суётся со своей круглой, как арбуз головой, с огромным ртом, со сплюснутым на пол-лица
носом? На заставе Витьку называли Муму. Правда, не из-за внешности. Допустимо ли быть
проводником служебной собаки, носить фамилию Герасимов и не зваться при этом Муму? Для
сослуживцев это было бы непростительным: зря что ли Тургенева-то в школе проходили? Весёлый
Витька на Муму не обижался, иной раз сам шутливо подтявкивал и этим обезоруживал всех.
Романа на заставе звали Блондином, но как-то с оттенком иронии: мол, ах-ах, какие мы из себя. И
всё это лишь из-за того, что под ярким солнцем пустыни его чуб стал совершенно светлым, а лицо
– коричневым, ещё более усилив его «блондинчатость». Но Роману, конечно же, больше нравится
своё второе прозвище – Справедливый. Это, пожалуй, уже не прозвище, а статус. Оно появилось,
когда он уже был «дедом». Так прозвали его солдаты первого года службы, а одногодки
посмотрели, прикинули и решили, что, конечно, Блондин-то он Блондин, а по сути – и впрямь:
Справедливый. Так уж выходило, что многие общие разговоры почему-то заканчивались его
репликами. Он посидит, послушает, а потом выдаст своим спокойным, густым басом какую-нибудь
единственную фразу, после которой и говорить уже не о чём. Всё – «базара» нет.
Странное ощущение испытал Роман, впервые услышав своё новое прозвище. Казалось, он
даже как-то по-новому осознал себя, будто оказавшись в некой рыцарской чистой, до скрипа и
хруста накрахмаленной рубашке. И это ощущение закрепилось навсегда. А ведь прозвище-то, по
сути, куда точнее имени. Возможно, это и есть настоящее, уже заслуженное имя. Какие меткие
прозвища у людей в его родной Пылёвке! Уж там прилепят так прилепят – не оторвёшь и не
отвертишься. Потому что точно. Ещё в детстве, после одного трагического происшествия,
случившегося с ним, Роман обнаружил в себе умение видеть некоторых людей в цвете. Не раз
думая об этой своей способности, он решил, что ощущение цвета возникает у него непроизвольно,
как некое общее впечатление от того, что человек говорит, как говорит, что делает, как двигается, и
от всего прочего. Конечно, разноцветность людей в толпе не различишь. Для того, чтобы
воспринять человека так необычно, надо сосредоточиться, подключить особое восприятие,
взглянув на него с точки зрения цвета. А вот осмысливая своё новое прозвище, Роман понял, что
на человека можно смотреть ещё и с точки зрения его настоящего имени. Окинул кого-нибудь
таким вот общим взглядом и понял его образ, его настоящее имя.
Витьке, убежавшему к проводницам, стоит теперь даже посочувствовать: было у человека
хорошее настроение, так нет, надо куда-то лезть и обязательно его испортить – получит сейчас от
ворот поворот и вернётся, почёсывая свою «тыковку». Вздохнув, Роман запрыгивает на мягкую
полку, ворочается, повыше устраивая голову. Полка коротковата – не вытянешься, сто восемьдесят
сантиметров роста здесь не умещаются, ноги упираются в стенку. Ну да ладно, зато можно
полежать и подумать. Только вот с мыслями туго. Ах, как хочется тоже к этим девчонкам! Но как, о
чём с ними говорить? Прийти к ним и снова тупо мычать, как совсем недавно на скамейке? Ой, но
этот-то чудило что им сейчас заливает?!
Витька прибегает минут через двадцать: взбудораженный, улыбающийся во весь возможный
диапазон и, просто сдёрнув его с полки, тащит в начало вагона.
– Не трусь, деревня, – свысока говорит он, отчего-то вдруг резко начав разделять их
происхождение, – веселее поедем.
Роману даже смешно – ах, как быстро всё меняется на «гражданке». На заставе, где он был
Справедливым, никому и в голову не приходило с насмешкой кивать на то, что он деревенский.
Впрочем, там это и смысла не имело – деревенских на границе больше половины.
В купе у девушек очень уютно, на полочках – ажурные салфеточки. Витькин успех просто
4
необъясним. Рот постоянно до ушей, да что до ушей – от такой улыбки и уши к затылку сдвинуты.
Нос и вовсе расплюснут, как у селезня, глаза – щелки с блестящими шариками-огоньками.
Впрочем, наверное, это вид вполне счастливого человека, едущего домой после завершения
важного дела. А тут ещё такие девушки! Его хочется даже предостеречь, чтобы он не возомнил,
будто вся жизнь будет такой.
Оба пограничника сразу же отдают предпочтение одной – Любе. Вторая проводница – Наташа -
из-за обручального колечка на пальце автоматически выпадает из их поля зрения. Люба спокойна,
рассудительна, внимательна. Хозяйничая и встречая ребят, словно давних знакомых, она с
улыбкой накрывает на крохотный столик, и ребята, уже умеющие смотреть на жизнь трезво и
практично, тут же отмечают её хозяйскую ловкость. Вот Люба берёт нож, кладёт на доску длинный
и кривой, как бумеранг, огурец. Потом звучит что-то похожее на чуть замедленную автоматную
очередь, и огурец распадается на тонкие, ровные кружочки. Солдаты даже робеют оттого, что,
оказывается, их сверстница может быть уже настоящей хозяйкой.
Говорят они, конечно, только про службу, вспоминая всё смешное, и выходит так, что служба их
выглядит какой-то забавной. Но этим самым они уже романтизируют её, считая самой лучшей из
всех возможных служб. Разговор катится с шутками, со смехом и вот, где-то через час-полтора,
казалось, на самом гребне веселья, Витька вдруг возьми да брякни:
– А что, Люба, выходи за меня замуж…
Роман от этого и вовсе шалеет: конечно, лучше бы таким не шутить, но жизнь-то ведь и вправду
лихо распахивается как большие ворота – теперь в ней даже жениться можно!
– Выходи, выходи, – сходу на той же волне подыгрывает он, надеясь, что Люба не обидится. –
Витька – парень хороший, честное слово, хороший. Уж я-то знаю. Гарантирую.
– Да ну вас, трепачи, – вздохнув, отмахивается она.
Шумный, сумбурный разговор катится дальше, а минут через десять снова:
– Люба, так ты выходи за меня, а?
Снова смеются. Снова с жаром и шутливо Роман поддерживает друга, а потом, когда Витька
повторяет это и в третий раз, перестаёт смеяться.
– Давай-ка выйдем, – предлагает он.
Выходят в гремящий железом тамбур.
– Тебе ещё не надоело? – спрашивает Роман. – Что ты, как попугай, заладил одно и то же? Нас
приняли по-людски, а ты?
– А почему мне должно надоесть, если я всерьёз? – обиженно удивляется Витька.
– Всерьёз!?
– Ну конечно. А что? – у Витьки такой вид, словно жениться для него – это всё равно, что чаю
попить. И вообще, он теперь уже какой-то другой. Ещё убегая знакомиться в купе, был
взъерошенным и нагловатым, а теперь – серьёзный и вроде огорошенный чем-то. Таким его
видеть ещё не приходилось.
– Слушай, Справедливый, – сжав для убедительности кулак, говорит он, – да ты смотри,
деваха-то какая! Такая уж вряд ли ещё встретится.
Оказывается, за два года службы Роман совершенно не узнал Витьку. Впереди у него родной
город, масса девушек, а он стоп – и всё! И совета ни у кого не спрашивает, и о судьбе, о
счастливых или несчастливых случайностях не рассуждает. И так при этом уверен, что, пожалуй,
не может быть не прав. И как его за это не уважать?
Они возвращаются в купе.
– Люба, а ведь Витька-то всерьёз, – сообщает Роман, вдруг погрустневший оттого, что и сам
теперь смотрит на Любу совсем иначе.
Люба смеётся. Они с Наташей наслушались тут и не такого. А эти, вроде, и вовсе сговорились,
чтобы врать поскладней.
Романа её неверие вдруг обижает по-настоящему. Кому же ещё верить, если не им, надёжным
ребятам, прошедшим серьёзную пограничную службу? Он начинает доказывать всю
основательность Витькиных намерений, клянётся всем, чем только можно. Витька же при этом
внезапном сватовстве и вовсе падает на колени, считая это каким-то предельным аргументом.
– Стрелочки на брюках не сломай, – отмахнувшись, смеётся Люба.
Она поворачивается к Наташе и говорит о каких-то своих делах, о каком-то беспокойном
подвыпившем монголе. Витьке надоедает стоять на коленях, и он уныло садится на корточки у
дверей под титаном. За окном уже белеет: куда и ночь делась? Витька смотрит на часы.
– Послушай, Люба, – говорит он, поднимаясь и втискиваясь в купе, но договорить не успевает.
Вагон вдруг сильно дёргает, у шкафчика распахивается дверца, и Витька натыкается головой на
её угол. Наташа прыскает от смеха, Люба сочувственно морщится. Витька стоит, держась одной
рукой за стенку, другой – за ушибленное место, на глаза выскакивают слёзы.
– Мне остаётся всего один час, – продолжает он, только теперь уже надтреснутым от боли
голосом, – а ты всё не веришь. Выйдем, поговорим наедине.
– Ну что ж, выйдем, – подумав, соглашается Люба. – Больно, да?
5
Они выходят.
– Надо же, как получается… – говорит Роман, чтобы хоть как-то прокомментировать события.
Наташа молчит. Грустно и задумчиво глядя в окно, думает о своём. Роману становится неловко
от этого молчания.
– А что, Наташа, – говорит он, – ведь поезд-то ваш международный… Неужели на нём, и
вправду, иностранцы ездят?
– Их и сейчас в поезде полно, – нехотя, словно отмахиваясь, отвечает Наташа, – только в
других вагонах. Ну, китайцы – это само собой. Бывают и немцы, и итальянцы. И даже американцы.
– Ух ты! И даже американца? Вот сволочи!
– Почему «сволочи»?
– Ну, так чего им тут ездить-то?
Наташа снова молчит. Совершенно лишний, Роман, вздохнув, идёт в своё купе. Люди там спят –
пассажиры, видимо, дальние: на столике лежат потрёпанные, усталые карты. Присев около кого-
то, спящего внизу, он тоже смотрит в окно сквозь отпотевшее стекло и лёгкий утренний туман. В
вагоне сумрачно, тепло и чуть душно от спящих. Роман на мгновение забывается в дрёме, а,
очнувшись, видит в этом тумане белые высокие дома: в каком красивом городе живёт Витёк! Он и
называется-то как: Златоуст! Роман даже волнуется за Витьку: всё, один из них уже дома. Витьке
пора бы уж и собираться. Работают тормоза, упругими толчками подергивая вагон, над самым
окном прочерком пролетает хриплый голос промоченного дождями и промороженного
станционного динамика. И тут, наконец, возникает явление сияющего Витька.
– Всё, договорились! – восклицает он веером такого восторженного шипящего шёпота, что
пассажир, у ног которого сидит Роман, вскидывает голову и, увидев традиционно неугомонных
солдат-дембелей, переворачивается на другой бок каким-то резким брыком. – Когда она поедет
назад, я сниму её с поезда.
– Да как же ты уговорил-то, а?
– А просто взял вот так за плечи, посмотрел в глаза и сказал: «Люба, верь мне, я не вру». Ну,
как тут не поверишь? Это твой или мой дипломат? Ну, про детали уже некогда, да и к чему они
тебе?
А вот то, что он так легко откалывается – это даже обидно. Да что поделаешь – теперь у
каждого дорожка своя.
Когда они с Витькой выходят на влажный, со следами только что поработавшей метлы перрон,
Люба с флажком в руке стоит у выхода. Ей привычно провожать пассажиров – людей, с которыми
уж наверняка никогда не встретишься, но сегодня один из пассажиров особенный. Его и
пассажиром-то теперь не назвать… Витька пожимает ей руку, робко прикасается к локтю, и видно,
что больше волнуется не от воздуха родины, а от этого расставания. Эх, только бы не обманул он
её! У него ведь будет сейчас много встреч, новых знакомств… И этот дорожный эпизод может
просто задёрнуться вот таким же туманцем. А Люба будет надеяться… Роман ловит себя на том,
что мучительно завидует Витьке. Во всяком случае, не хочется чувствовать себя таким оторванным
от них, ведь всю ночь провели вместе, ведь, казалось, и решили-то всё сообща.
– Видишь, Витька, как всё повернулось, – говорит он, пытаясь восстановить свою
сопричастность, – а мы ещё хотели этот поезд пропустить…
– Ага, точно, – подхватывает тот, обращаясь к Любе, – не хотели за купе доплачивать. Денег не
хватало. Я думал, хоть в тамбуре поеду, зато уж на такси по всему городу всё равно прокачусь. Я
это два года во сне видел. А, да теперь всё это ерунда…
– Эх ты, уж скопить не мог, – мягко, как уже своего, упрекает Люба, вынимая из кармана куртки
пятёрку. – Этого хватит?
Витька на мгновение смущается, но тут же заливается уже другим, более глубоким светом.
– Вполне, – так же по-свойски отвечает он, берёт голубоватую бумажку и суёт её в карман
кителя.
И теперь почему-то становится совсем очевидно – нет, Витька не обманет. Роман подаёт руку
своему армейскому другу, крепко поддёргивает его к себе за прокалённую пустыней шею.
– Ладно, Муму, пока!
– Будь здоров, Справедливый! Оставайся всегда таким! Ты и в этот раз мне помог.
Не дожидаясь отправки, Роман поднимается в вагон.
Ехать ему ещё долго. Днём в вагоне дежурит Наташа, а Люба отдыхает. Даже после ночи без
сна он не может толком уснуть: выхватывает сон рваными кусками. Будто не спит, а преодолевает
громадное поле вагонной полки мелкими бросками и перебежками. В основном же лежит,
воображая не свою, а Витькину теперь такую ясную, определённую жизнь. И прежде всего в этой
Витькиной жизни видит Любу. Только что-то уж чересчур ясно он её видит. Да не просто видит, а
самой душой откликается на все её черты: чуть смугловатое лицо, длинные, повседневно просто,
но очень женственно уложенные волосы (наверное, тяжёлые и очень мягкие), плавную седловинку
на слегка вздёрнутом носике, благодаря которой, если Люба улыбается, то весёлость её