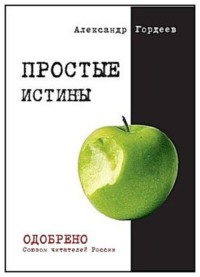полная версия
полная версияЖизнь волшебника
ротику. Ребенок смолкает и тянет. Оказывается, вот оно какое, полное счастье! Но если какое-то
чудо и происходит в этот момент, так только в душе Маруси: молоко из неё всё равно не брызжет.
Ребенок откачивается головкой и, покраснев, кричит так, что Марусе хочется спрятать его куда-
нибудь вместе с его криком, потому что, отвергая её, он призывает ту, другую мать, с её молоком.
Михаил не замечает, что выносит, что двигает, что увязывает. Он прислушивается только к тому,
как жена каким-то изменившимся голосом разговаривает с ребёнком, называя его то «сыной», то
«Ромушкой». Огарышу кажется, что у него от этого «сыны» растворяется, рассасывается, уходит
куда-то в мятный эфир само сердце. Как всё это неожиданно: вот он вдруг и отец. Да отец ли? Если
Алка передумает и решит забрать, то уже не отец. Да где же эта машина, чёрт её побери, почему
её нет? Ни хрена работать не умеют! Грузиться надо поскорей, да уматывать!
Сына, сына, да, конечно, сына – как же ещё? Вот вырастет у них этот ребёнок, так не дядей же
станет его звать. Правда, этому не предшествовало ни зачатия, ни радости наблюдения за
беременностью жены, ни последней подготовки к ребёнку. Даже пелёнок и этих, как их называют,
подгузников, что ли, не приготовлено. И кроватки нет. А ребёнок уже есть. Спасибо, что Маруся
почти что ещё в первые минуты не забыла спросить мужа об имени мальчика – должна же хоть
какая-то и его доля быть в малыше (её-то крови хоть немного, да есть). Михаил вздыхает, как-то
виновато задумывается и машет рукой, будто выдавая давно затаённое: «А, ладно, пусть уж
Ромкой будет». Теперь, когда, переворачивая ребёнка в разорванные на пелёнки простыни, жена
на мгновение оставляет его голеньким, Огарыш, испуганно вжав голову в плечи, отворачивается:
не может видеть это крохотное, такое чувствительное для него создание. Но с какой радостью
разворачивает его Маруся, как ей хочется быть необходимой, иметь хоть какую-то возможность
угодить этому светлому пришельцу. Уж тут-то она уверена: так, как перепеленает она, не
перепеленает никто. Во всяком случае, уж в этом-то она наравне, а может быть, и лучше всех
матерей.
И потом дорога на байкальскую станцию Выберино, где течёт стремительная река Ледяная:
сначала в тесной кабине газика с ребёнком на руках, с молочной смесью в термосе (смесь там
недолго хранится, да что делать?), потом ожидание в холодном вокзале (Михаил уезжает с вещами
на машине), потом сутки на поезде, потом, пока не присмотрен и не куплен подходящий домик,
полмесяца в гостинице (в то время, как все необходимые вещи у какого-то случайного знакомого в
сарае).
Через три года жизни в Выберино от страхов остаются одни смутные опасения. Алка, убежав из
Пылёвки ещё вперед их отъезда, как в воду канула: за это время никому из родных ни строчки.
Ходят слухи, что уехала догонять мужика, который ребёнка ей заделал, и без которого она жить не
может вообще. Понятно, что если она и объявится теперь, то вряд ли станет серьёзно на что-то
претендовать.
Мерцаловы возвращаются в Пылёвку, покупают дом, правда, уже не такой хороший, как
раньше. Огарыш снова садится на трактор, а Маруся становится с тех пор бессменной техничкой в
клубе, развернув на дому свою знахарскую, ещё более самоотверженную деятельность, как и
прежде исцеляя чаще всего даже не травами, а участливой беседой, чаем, да самым главным
лекарством – добрейшей до слезливости душой.
Несмотря на все опасения и страхи, а также наперекор всем баням, турникам, водке и горьким
таблеткам, испытанным ещё в утробе, Ромка растёт живым и шустрым. В зиму, когда он учится уже
в третьем классе, Михаил собирается в райцентр за запчастями к мотоциклу, которые ему достал
16
городской знакомый. До тепла, до мотосезона, правда, ещё далековато, но Огарыш рассуждает
так, что уж если эти запчасти подвернулись, то полежат, дождутся: есть-пить не просят. Но забрать
их надо побыстрей, мало ли куда они могут уплыть. Других дел в райцентре нет, и Михаил
подумывает даже вернуться домой на какой-нибудь попутке, не дожидаясь рейсового автобуса. Но
Маруся предлагает вдруг взять с собой Ромку и купить ему там новые валенки. Огарыш даже
крякает от досады. Хотя валенки-то у сынишки и в самом деле никудышные, подшитые уже столько
раз, что уж и сами только на подшивку годятся.
– Так я и на глазок эти валенки куплю, – ворчит Михаил, – возьму с запасом, да и всё. А чо
парня-то в город тащить?
– Да ты чо, на горбушке его повезёшь? Задавит он тебя? – повышает голос Маруся. – Пусть хоть
город поглядит. . У него же каникулы: так и так весь день по улице носится.
– Во-во, – на той же ноте подхватывает Михаил, – бегал бы помене, да пореже свой огород
топтал, так и валенки были бы целей…
Но про огород – это уж так, с усмешкой. Хорошо, что вспомнил про него, усмехнулся и оттого
согласился. Никак они не поймут, почему Ромка не терпит, чтобы в огороде снег нетронутым
лежал. Обычно в день, когда выпадает новый снежок, Ромка, вычистив глызы во дворах,
перетряхнув соломенную подстилку коровам, идёт в огород. Уходит к дальнему забору и начинает
оттуда, будто строчкой за строчкой, вытаптывать весь снег. Зачем это делает, и сам не поймёт –
вроде как в каком-то бездумном наваждении. Просто включается и, как какая-то маленькая
машинка, утюжит и утюжит шагами белое пространство, будто не для себя даже, а чёрт знает для
кого. Скрип, скрип, скрип, скрип – часами звонко постанывает белизна под его валенками. Если не
управляется с ней за день, завершает на другой день. Огороды соседей обычно стоят
целомудренно белыми, а у них всегда истоптанный. Так Ромка и на те огороды смотрит с
неприязнью – была бы возможность, так и туда бы влез. Бывает, ляжет с ночи свежий снежок
(утром по свету в комнате это сразу понятно), Ромка оттянет шторку на окне и вздохнёт: всё, опять
работы на полдня. И не поймёшь, то ли радость это для него, то ли забота. Похоже на
удовольствие, но только какое-то странное, непонятное, слишком глубинное. Если день где-нибудь
на горке проносится, так приходит домой – и куфайчонка, и вся душа нараспашку. Сам весь
раскрасневшийся, радостные сопли по щекам размазаны. А с вытоптанного огорода приходит, как
застёгнутый на все душевные пуговицы, будто кому-то что-то в отместку сделал, но это тоже
радостно. Только как-то угрюмо радостно, если можно так сказать. В общем, странная это у него
какая-то забота, непонятная.
Однажды утром, видя, как отчего-то беспокойно спит сынишка, Михаил подходит к нему и опять
же шутит:
– Да спи ты, спи, чего ворочаешься? Снег сегодня не выпал.
И Ромка, к его удивлению, тут же поворачивается на другой бок и спокойно, сладко засыпает.
Автобус отправляется ещё до восхода, в темноте. На остановке, поджидая его, постукивают
ботинками и переминаются валенками несколько знакомых сельчан, которые здороваются с
Мерцаловыми: старшим и младшим.
– Дорово, Огарыш!
– Дорово-дорово! Чо, автобус-то где?
Восход ожидается ярким, потому что небо чистое, а за ночь выпала небольшая пороша, от
которой воздух в это зимнее утро теплей и мягче. Ромке не стоится на месте. Глядит он не только
вдоль улицы, как все, но и по всем сторонам, словно ожидая чего-то боольшего, чем просто автобус.
Автобус, показавшийся, наконец, в начале улицы, одновременно видят все, но Ромка ахает
первым, указывая рукой, а потом, пока тот приближается, светя матовыми фарами, всё
посматривает на отца, разделяя с ним славу первовестника. Подошедший автобус глохнет и,
словно освобожденный от затихнувшей в нём силы, катится было сам собой, упруго скрипя
шинами по снежку, но водитель надёргивает ручник, и машина замирает, тупо ткнувшись в своё
внутреннее препятствие. Дверь, застывшая за дорогу, лениво расклеивается, а Ромка уже первым
стоит около неё. «Надо будет, однако, приглядывать там за ним, а то шибко уж шустрый», –
отмечает для себя Огарыш.
Но вот все усаживаются, водитель втыкает скорость, и звук переключаемых шестерёнок
оказывается таким громким, словно его передали по динамикам через усилитель. Ромка, в
восторге от этого громкого звука, смотрит на отца, но, не прочитав на лице Михаила такого же
восторга, успокаивается.
Потом, когда автобус, то нудно, тяжело завывая, тащит себя вверх по очередному длинному
тягуну, то, словно сорвавшись, легко мчится вниз, оставляя позади клуб серой снежной пыли,
Михаил всё наблюдает за сыном, удивляясь его жадному любопытству, с которым тот смотрит на
всё новые и новые виды в лобовом незамерзающем стекле, или пытается рассмотреть что-то
сквозь глазок, протаянный дыханием на окне. Огарыш и сам неожиданно для себя смотрит через
этот его волшебный глазок. Как раз в эти минуты над сопкой поднимается солнце, в которое,
возможно, от сегодняшней ночной пороши, будто добавлены белила, и солнце всходит плоским, но
17
мягким и молочно-розовым блином. «А ведь Ромка-то едет тут впервые», – вдруг осознаёт
Огарыш, чувствуя теперь даже неловкость за свое ворчание утром. Как будто сам не был таким,
будто сам валенок не драл. Тоже всё на лыжах да на лыжах (эх, а лыжи-то были самодельными –
берёзовые, нынешние заводские куда лучше, наверное) и летом тоже, как было нынче и с Ромкой,
всё на речке да на речке. Так что всё тут законно. Пусть бегает, пока можно. Года через два это
само собой в другое русло перейдёт: сначала вместе с другой ребятней будет кислицу серпом на
полях вырубать или крапивные веники для колхозных животин готовить, а там, через годок,
глядишь, и кошары чистить возьмётся… В колхозе иначе и не бывает.
Дорога до города не длинна, но Ромку, несмотря на его оживлённость, укачивает. Прислонив
голову к отцовскому плечу, он пытается сонно смотреть вперёд. Всё, что находится далеко
впереди: заснеженные кусты, склон близкой сопки, обочина дороги – всё кажется неподвижным, но
ближе всё это неподвижное вдруг срывается, превращаясь вместе с дорогой в какой-то жидкий
поток, гулко всасываемый автобусом. Хорошо, тепло и уютно наблюдать за ним…
Михаил, почувствовав, как сын полностью расслабился, уйдя в сон, приобнимает его, чтобы он
не стукнулся о хромированную трубку впереди. На душе хорошо: завывающий автобус тащится на
склон, так что от мотора по автобусу идёт более густой поток тепла, а Ромка уютно сопит под
мышкой. «Ну да ничего, что едешь тут впервые, – размышляет Огарыш, – успеешь ещё,
наездишься, наглядишься на эту дорогу, жизнь-то у тебя длинная». Ромку он воспитывает
намеренно строго, стараясь ласками не осыпать и попусту не жалеть. Ведь если быть к нему более
ласковым, чем другие отцы к своим чадам, так Ромка потом когда-нибудь, когда ему всё откроется,
будет думать, что его специально жалели и задабривали, что ли… Теперь Огарышу даже странно,
что когда-то он намеренно пытался держать себя с ним так, «как будто это твой сын и есть».
Сейчас невозможно представить обратное: то, что это сын не его, тем более что давно уже
Огарыш замечает в Ромке свои привычки. Поначалу даже дивился этому, считая, что привычки
передаются только по крови, а вот, оказывается, и не только. Удивлялся он когда-то и
возникающему в себе чувству отцовства, полагая, что чувство это рождается от продолжения
крови, что отцовство завязывается самим зачатием, а для него, оказывается, и самого ребёнка
хватает. Впрочем, этим открытиям уже много лет – Огарышу давно уже привычно, что у него есть
сын. Сын да и сын: чего тут такого? Легко вздохнув, Михаил осторожно гладит Ромку. «А
пальтишко-то у него какое тоненькое – крылом пробьёшь… А худой-то он какой, худой-то! Все
рёбрышки можно пересчитать, – растроганно думает Огарыш, – ну да ничего, вырастет мужичок…
Глазом моргнуть не успеешь – вырастет. . Всё вроде бегал, мешался, ничего не понимал, а теперь
уж всё, можно сказать, настоящий человек получается… Потом в армию пойдёт. А вернётся скажет
– ну что, здорово, батяня!» Михаил Мерцалов ловит себя на том, что, пожалуй, впервые за всю
жизнь так спокойно и задумчиво предаётся каким-то, понимаешь ли, мечтам. И вообще
удивительными кажутся ему эти минуты. Никогда ещё так близко не воспринимал он сына. Может
быть, оттого, что никогда не сидел вот так, прижимая его к себе? А ведь сын-то – это опора, как ни
говори, вот что ещё надо понимать. Раньше Ромка был вроде ближе к матери, но, видно, пора уже
учить его мужскому уму-разуму. К тому же раньше, уж чего там скрывать, таилось в глубине души
опасение, что всё-таки отыщется его родная мамка, да заберёт. Что, разве таких случаев не
бывало? Но и эти опасения уже позади. «Да теперь-то я за него кому хошь глотку перегрызу», –
думает Огарыш, невольно пристукнув жёстким кулаком по блестящей трубке впереди. Сама
крепость этого кулака вдруг напоминает ему о драках в молодости: как славно накостылял он
однажды приезжему специалисту-спортсмену только за то, что тот с ухмылкой посмотрел на его
невесту, стройную, чрезмерно фигуристую Марусечку. Его тогда ещё чуть на пятнадцать суток не
посадили, шибко уж ценный был для колхоза тот специалист. «Надо обязательно его драться
научить, по жизни это завсегда пригодится…» – с радостью и с какой-то дерзостью думает Огарыш
о сыне.
Ромка просыпается лишь в городе, когда пассажиры выходят из автобуса. Сладко зевнув, он
собирается было потянуться, но, обнаружив себя не дома, тут же снова таращит свои удивлённые
голубоватые глазёнки. Всё ему кажется удивительным: и громадные двухэтажные, а то и (ой, ой, о-
ой) аж трёхэтажные каменные, незыблемые, как скалы, дома, и нездоровающиеся, чужие от этого,
люди, и городская пороша, притаптываемая с крупинками угольной сажи, отчего в тесном городе
всё-таки потемней, чем в их, распахнутой небу, Пылёвке. Да и сам воздух здесь пахнет той же
сажей. А сколько окон в этом городе (мама моя!), правда, все окна как слепые: без ставен и
наличников.
Да что там говорить, Ромка просто не успевает увидеть всего. Огарыш держит его за руку,
чувствуя, как ладонь сына едва не выкручивается из пальцев. Теперь его чрезмерное любопытство
даже раздражает, тем более что тут и самому надо ещё сообразить, как и куда идти.
Знакомого не оказывается дома. Дверь им не открывают. Тогда, озабоченно почесав затылок
самой шапкой с завязанными наверх ушами, Михаил решает пойти за валенками в магазин.
Ох, и интересный это магазин! И, главное, совсем без прилавка: ходи – где хочешь и смотри –
что поглянется. Другие, как замечает Ромка, не боятся и кое-что в руки брать: щупают, изучают.
18
Отец тоже снимает с полки валенки, проверяя толщину подошв и голяшек. Ромке даже неловко за
него: чего тут проверять? В таком магазине, конечно же, всё хорошее. А отец осматривает вторые
валенки, третьи… За ними с улыбкой наблюдает красивая и оттого как будто сердитая продавщица.
Ох, не заругалась бы она на них.
– Ну-ка, примерь вот эти, – говорит, наконец, Михаил.
Он усаживает Ромку на маленький стульчик, помогает снять старый валенок так, чтобы не
размоталась портянка с травинками сена на ней, и надевает новый, чистый, аж иссиня-чёрный.
– А теперь встань, – приказывает он, прощупывая ногу через валенок жёсткими пальцами, –
нигде не жмет?
Ну и пальцы, однако, у отца! Прямо через валенок продавливают! Только как он этот валенок
может жать?! Он же такой мягкий, даже непривычный, не то, что старый, подшитый
прогудроненной дратвой. Ромке хочется и второй надеть, но отец забирает оба валенка и отдаёт
продавщице. Ромка растерянно и обмануто смотрит: как это понять!? Отец подходит к кассе, на
два раза пересчитывает деньги и отдаёт продавщице. Потом, получив какую-то бумажку,
выщелкнутую машинкой, только на эту бумажку покупает валенки. Чудно! Ромка, облегчённо
вздохнув, забирает покупку у отца и несёт её сам. Вот это уж валенки так валенки, они ведь даже
подмышки греют!
Но если бы это было всё! Идут они дальше по магазину, уже просто так поглазеть на всё, что
попадётся, и натыкаются на отдел «Фотоаппараты». Фотоаппарат – это дальняя, самая большая в
жизни, Ромкина мечта. Фотоаппарат есть только у одноклассника Серёжки Макарова, так тот даже
посмотреть на него как следует не даёт. А тут – пожалуйста, смотри, сколько хочешь. Дома Ромка,
случалось, и безнадёжно ныл из-за фотоаппарата, получая в ответ разные отговорки, отсылы, а то
и несильные подзатыльники, если уж совсем надоедал.
Подходит Ромка к прилавку и словно прилипает к нему: чего там только нет! Стоит рассмотреть
и кнопочки, и надписи прочитать, и представить, и помечтать. За всем этим он даже и не замечает
странные скованные маневры отца, который вначале тоже стоит у прилавка, почёсывая затылок и
не понимая, почему же именно теперь-то, когда эти фотоаппараты перед глазами, Ромка не
гундосит? А потом понимает: не смеет просить, потому что и новые валенки для него уже счастье –
вроде как и хватит на сегодня. Крякнув, Огарыш отходит чуть в сторонку, вынимает из кармана
деньги и принимается их пересчитывать, укладывая рубль к рублю, тройку к тройке.
Пересчитывает, вздыхает и снова кладёт в карман. Подходит к сыну, хочет взять за плечо, чтобы
отвести, нерешительно останавливается, стоит, смотрит на него, чего-то неслышно
пришёптывающего, снова вытаскивает деньги и пересчитывает ещё раз. Если бы ему требовалось
просто посчитать деньги, то до шестнадцати рублей счёт не долгий, а тут ведь надо высчитать и
то, что он скажет дома Марусечке и что ответит она, и вообще прикинуть, во что для них выльется
вся эта покупка. И, думая так минут пять, Огарыш в конце концов производит гениальное
математическое действие, разделив стоимость фотоаппарата «Смена» на стоимость бутылки
водки. В результате выходит не такое уж великое их количество, которые он, хошь не хошь, а
выглатывает. Вот если представить жене такую калькуляцию, так она в благодарность за его
проснувшуюся совесть (она бы так именно и сказала – «совесть») ещё и сама на бутылку даст.
Причём прямо сегодня, по причине их счастливого возвращения. Эти вычисления вдруг настолько
смущают самого Огарыша, что не решиться на покупку он уже не может.
В тот момент, когда он протягивает Ромке его, уже собственный фотоаппарат, тот всё ещё стоит
и смотрит на недоступные чужие. Увидев же жёсткую картонную коробку с нарисованным на нём
главным предметом своей мечты, он просто немеет. В его глазах столько неверия, восторга и
счастья, что Огарышу становится не по себе. Запоздало он даже спохватывается, что уж не
слишком ли, и в самом деле, балует его? И потому, лишь дав Ромке подержать фотоаппарат в
руках, осторожно укладывает коробку в надёжный мешок.
Вот и всё, теперь Ромке этот магазин и не нужен вовсе. Теперь тут уж и смотреть-то не на что. И
он уже никуда не бежит – теперь он как ручной, как приклеенный.
Они идут по улице, а когда проходят мимо столовой, Огарыш вдруг машет рукой: а, уж кутить –
так кутить! Давно ничего столовского не пробовали. Конечно, в городе всё дорого, но всё-таки они и
сюда завернут. Входят в столовую, сдают телогрейки – большую и маленькую – в раздевалке с
крючкастыми вешалками, получив взамен алюминиевые кружочки. Ромке хочется и кружочки эти
рассмотреть, но отец прячет их в карман пиджака. Потом, расчесав свой чуб и чуб сына, усаживает
Ромку за стол, сам отправляется за стойку раздачи, а, вернувшись минуты через две с тарелками
на подносе, уже не находит сына на месте. Тот, не расставаясь со своими валенками, на которых
белеют меловые цифры, стоит возле большого фикуса у окна. Михаил недовольно хмыкает: ну, уж
там-то чего интересного он нашёл? Окурки, натыканные в кадку с землёй? (Вечерами эта столовая
используется, как ресторан).
– Ты чего там делаешь? – сердито кричит Огарыш.
– На муху смотрю, – отвечает Ромка.
Два школьника, сидящие за соседним столиком с родителями, прыскают от смеха – нашёл на
19
что смотреть. Пожилой человек за столиком недалеко от фикуса смотрит на него с тихой улыбкой –
ну надо же, человек на муху смотрит…
– А ну-ка, иди сюда! – так же сердито подзывает его Михаил, а когда сын оказывается рядом,
осуждающе вздыхает: Ох, и любопытный же ты…
Ромка не понимает его недовольства и улыбается. Михаил вздыхает ещё раз, расставляя
тарелки со столовским борщом. Интересно сейчас и другое. Обычно на сынишку он вот так не
кричит. Тот не выносит любого повышения голоса – сразу сопит, блестит глазами, обидчивый
прямо, как девчонка. Может потому-то и Маруся на него просто не надышится. А сейчас, на
удивление, он не обижается. Наверное, тут слишком много других впечатлений.
– Какая там ещё муха? – спрашивает вдруг Огарыш.
– Ой, папка, живая! Совсем живая! – блестя глазами, восклицает Ромка, чуть не подскакивая с
места, чтобы снова убежать туда, – летает там около цветка.
– Да не может быть, – озадаченно бормочет Михаил, – зима же… Откуда она взялась?
– Летает, летает! – твердит сынишка. – А нам в школе говорили, что зимой мухи спят.
– То-то и оно, – невольно рассуждает Огарыш, – наверное, это какая-нибудь городская муха.
– Городская? – смеётся Ромка. – Ой, папа, а комары городские бывают? А бабочки, а муравьи?
– Муравьи… Скажешь тоже. Что же они, по снегу будут ползать или как? Ешь давай. У нас тут
дел ещё полным-полно.
– Ой, папка, так муравьям-то надо тогда зимой на маленьких лыжах кататься, – не унимается
Ромка.
– Ну, всё, всё, – останавливает его отец, – нашёл, где зубы скалить! Мы тут не дома, поди.
Вишь, люди пялятся на тебя.
Сытые после столовой, они уже так, от нечего делать, сами по себе, будто праздно отдыхающие
в городе, заходят ещё в несколько других, уже неинтересных, магазинов и снова идут к знакомому.
А тот, оказывается, и утром был дома, когда они приходили: отсыпался после ночной смены.
– Тарабанили бы как следует, – говорит он, – а то, наверное, поскреблись едва-едва, да и
подались… Твой что ли? – спрашивает он про Ромку.
– Мой, мой, – подтверждает Михаил, взяв сына за плечи.
– Ну, вы прямо-таки, как негатив, – замечает знакомый, которого зовут Константином, – один
чёрный (всё же не зря тебя Огарышем зовут), другой – беляк. А ведь точно, вроде бы, твой –
вырос-то, я его и не узнал.
Не одного Константина удивляет факт их яркой несхожести. Отец, кроме того, что попросту
чёрный, имеет ещё и прямо-таки сажевую родинку на подбородке, а сын – белобрысый, со
светлыми глазами и ресницами.
– Да уж какой выстругался, – смеясь, говорит Михаил: его и впрямь не обижают и не удивляют
такие вопросы. – А ничего, пусть я – Огарыш, зато он как огонёк.
Приходится ещё и тут чай пить. Взрослые обсуждают скучные сельские новости: Константин
знает Пылёвку, потому что часто ездит туда рыбачить. Рыбалка-то и связывает их с Михаилом.
Ромка тут же, на кухне, обнаруживает в углу какие-то железки и принимается исследовать это
сокровище. Больше всего удивляет большая проволочная катушка. Уж до чего блестит она,
переливается!
– Гляди-ка, сидит, колдует чего-то, – улыбаясь, шепчет Константин, у которого никогда не было
детей.
– Да уж, любопытный, как не знаю кто, – вроде как извиняясь за него, говорит Огарыш.
– Да ничо, ничо, пусть себе.
– Смех сказать, – шепчет и Михаил, подкупленный теплотой в голосе хозяина, – знаешь, кем он
хочет стать?
– Электриком что ли?
– Мелко пашешь, – говорит Огарыш и вовсе шипящим голосом, – не электриком, а каким-то там
волшебником…
– Кем-кем? – ещё более тихим, изумлённым шёпотом, спрашивает Константин. – Да как же это?
– Ну, ты же слышишь, по радио всё эту песню поют «Просто я работаю волшебником».
– А, Марк Бернес…
– Во-во. Так вот он как услышит её, так и сидит, не шелохнётся, только губами шевелит. Всю
песню наизусть знает. Слышу, как-то затаился за ширмой, что-то там мастрячит себе и под нос
напеват. Ни одной песни не знат, а эту выучил. А то как-то раз спрашиват: «Папа, а как это можно