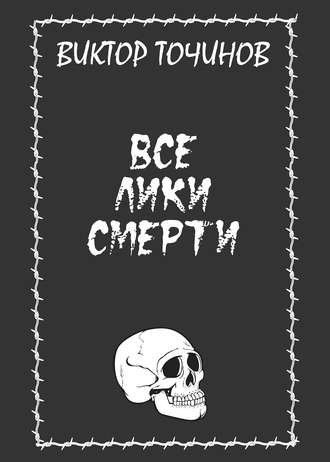
Полная версия
Все лики смерти (сборник)
– Что не слышал? Нашелся наш Томми?
– Нашли… Год назад… Вернее, сначала нашли залежи руд – ну знаешь, для этого новомодного металла, как он там называется…
– Алюминий, Сэмми, – мягко подсказал Хозяин. Новомодный металл уже принес ему немалые деньги.
– Вот-вот… Нашли аккурат под Кардифской горой, начали разработку. И одна штольня натолкнулась на естественный грот. На какое-то дальнее ответвление пещеры Мак-Дугала – милях в четырех от ее главного входа. Там они и отыскались.
– Кто – они? – не понял Хозяин.
– Они. Томми и дочь старика Тетчера. Ну тогда-то он был не старик, когда…
– Подожди, подожди… То есть – они не сбежали? Заблудились в пещере? И все годы их скелеты лежали там?
– Не скелеты, Берри. Мумии. Такой уж в той пещере воздух… Ты знаешь, я всегда стараюсь заскочить в Сан-Питер, когда бываю проездом неподалеку. И – через два месяца после той находки встретил старого судью… Не узнал. За полгода до того был представительный пожилой джентльмен – волосы «соль с перцем», спина прямая, походка твердая… А тут – седой как лунь, сгорбленный, едва ноги волочит. Он ведь двадцать пять лет надеялся – жива его Ребекка, жива, растит внуков где-то, просто на глаза показаться боится. Самое страшное – они там просидели живыми не меньше недели. По крайней мере Бекки неделю вела записи.
– Записи? Она взяла с собой чернила и бумагу? Лучше бы прихватила клубок бечевки, да побольше.
– Не было ни чернил, ни бумаги. Нашелся свинцовый карандаш, они отрывали клочки ткани от ее юбки, от рубашки Томми – и Бекки на них писала. Кошмарный получился дневник…
– Ты его читал? – спросил Хозяин с долей скепсиса.
– Нет, это почти никто не читал. Надеюсь, судья Тетчер его сжег. Никому не надо читать такие вещи – и незачем. Но мне рассказывал Бен Роджерс – ты должен его помнить, он сейчас окружной коронер… Так вот – он читал. И, говорит, не спал потом две ночи. Они… Они умирали от голода, Берри. Вода там откуда-то сочилась. У них была с собой маленькая корзиночка для пикников – пирог, что-то еще из продуктов… Растягивали, как могли, Томми уверял, что их ищут и обязательно найдут. А сам слабел и через неделю умер первым. Она нащупала рядом сверток со всеми его порциями… Томми до конца надеялся, что Бекки дождется помощи. Она написала большими неровными буквами, свечи давно кончились: ЛЮБЛЮ ЕГО. НЕ ХОЧУ ЖИТЬ. И больше дневник не вела, сколько еще прожила, никто не знает… Мне порой хочется написать про них – но с хорошим концом, чтобы они спаслись, выбрались, чтобы жили долго и счастливо, чтобы она родила ему пятерых детей…
– Напиши. А то история действительно поганая, – сказал Хозяин. – Но… знаешь, Сэмми, я даже не помню лица девчонки. И имя – Бекки – вспомнил, только когда ты его назвал. Звучит для меня все, как сказка, – страшная, но сказка… Надеюсь, Томми успел, пока оставались силы, попользоваться ее любовью.
Прошедшие годы изрядно добавили ему цинизма.
– Как ты догадался? – неприятно удивился Писатель. – Я ведь не хотел тебе говорить…
– Нашел загадку… Чем еще может заняться четырнадцатилетний парень с ровесницей – если темно, идти некуда, и надо чем-то задавить страх смерти? Мне тоже было четырнадцать, когда…
Хозяин неожиданно замолчал. Писатель отметил странную вещь: лицо у его старого приятеля стало другим – мрачным, темным. Суставы пальцев, сжимавших бокал, побелели. А ведь про заблудившихся в пещере слушал гораздо спокойнее. Вспомнил свою страшную сказку?
Хозяин встал. Сделал шаг к иллюминатору. Постоял, глядя на круглый проем, – Писатель мог поклясться, что звездного неба Хозяин не видит. Потом – два шага к двери. Застыл снова. Потом – быстро, уверенно – раскрыл отделанный слоновой костью погребец, ухватил сразу две бутылки. Поискал глазами штопор… Не увидел, и – резко – горлышком о край стола.
Писатель вздрогнул. Стекло хрустнуло. На палисандре столешницы появилась глубокая вмятина – и была видна даже сквозь накрахмаленную скатерть.
Вино – то, что не выплеснулось при ударе, – хлынуло в бокалы кроваво-красной струей. На скатерти набухали лужицы…
«Сейчас расскажет все, – думал Писатель с холодным удовлетворением. – Расскажет, никуда не денется – потому что дернул за какую-то дверцу в своей памяти, к которой прикасаться совсем не стоило. Пусть расскажет, а я послушаю. Может, куда-нибудь вставлю».
Прошедшие годы изрядно добавили цинизма и ему.
Но знания жизни добавили тоже. Писатель оказался прав. Хозяин рассказал все. Причем – Писатель удивился – речь его изменилась разительно, словно и не платил старый знакомый кучу хорошеньких кругленьких долларов своим педагогам, словно действительно пароход плыл вверх по реке времени, словно рассказывал эту историю парнишка в лохмотьях, сидящий на старом бочонке, покуривающий трубочку из маисового початка и временами лихо сплевывающий сквозь зубы…
* * *Это случилось в то лето, когда меня убили. Меня и моего папашу. Помнишь, Сэмми, ту историю? Я думаю, что в Сан-Питере о ней толковали долго.
Так вот, в то лето мой старик допился до белой горячки. Вроде бы обычное для него дело, да не совсем. На этот раз вместо розовых тараканов или зеленых утопленников на папашу напустился сам Ангел Смерти. Причем мнится ему, что Ангел – это я. Ну старик мой за топор, и давай отбиваться. Хибарка у нас была – семь футов в ширину, десять в длину, дверь заперта, в окошечко разве что кошка проскочит. Вижу – конец пришел. Ни увернуться, ни убежать – разделает, как баранью тушу. Хорошо, успел я… В общем… Короче говоря, споткнулся старикан о бочонок с солониной – и на пол рухнул. А там как раз мой ножик фирмы «Барлоу» валялся, и…
И осиротел я, Сэмми, в четырнадцать лет. Горько мне стало, муторно. Сижу, думаю: вот папашка мой всю жизнь пил… Все, что под руку подворачивалось, – крал, вечно рядом со свиньями на старой кожевне пьяным валялся… А ведь никто мне руку не пожмет, спасибо не скажет за то, что если не веревку, то уж ведро смолы и старую перину городу точно сэкономил. Нет, сэр! Сразу вспомнят, что был он каким-никаким, а гражданином Соединенных Штатов, – и упекут меня в кутузку. Могут, правда, туда и не довести, по дороге повесить – другим строптивым сыновьям для острастки.
И решил я сказать «прощай» штату Миссури. Но так, чтобы меня потом не ловили и не искали. Ну и обставил дело соответственно – будто кто-то дверь снаружи топором изрубил, нас с папашей прикончил, а мой труп до реки дотащил – и в воду.
Короче говоря, загрузил в лодку все, что в хибаре ценного нашлось, – и на Индейский остров. Затаился, день сижу, другой сижу, – самого сомнения гложут. Поверили моей выдумке? Нет? Дай, думаю, сплаваю на миссурийский берег. Подкрадусь-подползу к пристани, может, и узнаю чего… Дождался темноты, поплыл. Едва причалил в сторонке – слышу: шум, крики, лай собачий. Факелы мелькают, пальнули пару раз из ружья вроде как… Нет, думаю, не судьба, другой раз как-нибудь. Стал отчаливать – из кустов человек. И – прыг ко мне в лодку! Гляжу – негр! Здоровенный, зараза, пахать на таком можно. Ну вот, думаю, сейчас моя придумка правдой обернется – и поплывет мой труп вниз по матушке Миссисипи.
Но негр вроде мирный: чуть не на коленки хлопается – спаси, мол, масса, не дай безвинно погибнуть. Линчевать его, видишь ли, собрались. Но мне-то что до его проблем? Своих куча. Да только пока я его из лодчонки выпихивать буду – тут обоих и повяжут. Ладно, говорю, садись за весла. Как он греб, Сэмми, как он греб! Борта трещат, весла гнутся. Даром что негр, а висеть тоже не хочет. Стрелой отплыли мили две – тут луна из-за туч. Негр лицо мое разглядел – и чуть за борт не сиганул. Да не смог – сомлел, отнялись руки-ноги. Тут и я его признал – Джим же это, его сестра старой вдовы Локхид к нам привезла, когда погостить приехала да на три года и застряла. Что, говорю, весла-то бросил – греби давай к тому берегу. А он: не тронь меня, не тронь, я мертвецов не трогал никогда, и ты меня не тронь…
Ну отвесил я ему затрещину, чтоб прочувствовал, какой я мертвец. Помогло. Выяснилось: линчевать Джима собрались не за что-нибудь – за убийство меня и папаши. Он в тот вечер за дровами поехал, как раз неподалеку от нашей хибарки рубил. Ну видел его кто-то там, потом вспомнил – и пошла потеха. В Миссури, сам знаешь, даже сейчас негру лучше не мелькать возле места, где белого убили. А уж тогда…
Ладно, думаю, негра от себя отпускать нельзя. Никому он не должен проболтаться, что я еще по этому свету разгуливаю… Тут он меня за рукав: пойдем, дескать, расскажешь, что я не убивал тебя вовсе… Говорю ему в ответ так спокойненько: мол, папашка мой, думаешь, тоже придет – и пятерней на Библию, что не ты его на ножик насадил?
Призадумался черномазый. Да и я в затылке чешу. А лодочку мою помаленьку течением сносит.
В результате всех раздумий получается, что сидим мы с Джимом в одной лодке. И в прямом смысле, и в переносном. Если его линчеватели поймают и он все расскажет – конец моей привольной загробной жизни. А если я попадусь – придется на него убийство папаши навесить, нет другого выхода. Так что лучше нам друг другу помочь унести ноги из тамошних мест.
В общем, поплыли мы в сторону устья Огайо вместе, Джим в свободные штаты податься решил. А мне все равно куда, лишь бы от дома подальше. Ночами плывем, днем отсыпаемся, питаемся чем бог пошлет. Пошлет курицу – едим курицу, пошлет коптильню незапертую у берега – едим окорок, поле с молодым маисом пошлет – и за это богу спасибо. Рыбу еще ловили. Папаша мой, наверное, в гробу ворочался – если, конечно, ему городская казна на гроб расщедрилась. Сам-то был он рвань рванью, но белым цветом кожи крайне гордился. А тут сынок его единственный с негром связался, из одного котелка с ним пьет-ест, в одном шалаше спит, одной циновкой укрывается… Мне и самому дико поначалу казалось. Потом ничего, привык. Да и к Джиму пригляделся получше – все почти как у людей у него. Не совсем, конечно, но очень похоже. Жену он свою вспоминал, дочек, сына – плакал даже. А со мной – я, когда понял это, чуть за борт не свалился – со мной просто подружился. Хуже того, я и сам стал как-то… не знаю, как сказать… в общем, никогда не думал, что я за какого-то негра так тревожиться буду, когда нас у Сен-Луи чуть охотники за беглыми рабами не прихватили. Не того испугался, что все он обо мне расскажет – ничего бы он не рассказал, – за него самого.
Тем временем бог нас не забывал. Послал весьма удачно лавочку скобяную, плохо запертую. И стали мы с Джимом богачами – по шестнадцать с лишним долларов на брата, не шутка. Купили у плотовщиков за полдоллара звено плота, палатку там капитальную установили, парусиной обтянутую, – чтоб не возиться с шалашом на каждом новом месте. Да и вообще, плот не челнок – на том целую ночь плыть тяжко: ни встать, ни пройтись, ни ноги размять. На плоту же – иное дело. Медленнее, конечно, ну да нам спешить некуда.
В общем, плывем вольготно, как короли или герцоги. Обленились, ночью по берегам не пиратствуем, еду покупаем. Одежду себе новую справили… Тогда-то я на всю жизнь и понял, что главное в этой стране – капитал заиметь…
…В свободные штаты мы не попали. Вместо этого ночью в тумане угодил плот наш под колесо парохода. Они там, как положено, в колокол били, но в тумане, знаешь, звуки странно расходятся – казалось, мимо пароход проскочит… Не проскочил.
Короче, что получилось: плот вдребезги, пароход своей дорогой уплыл, мы на берег выбрались – без ничего и до нитки мокрые. Вокруг тьма, ни огонечка, лишь звезды над головами. Вдруг: копыта «цок-цок-цок» – всадники. Подъехали, окружили, все с оружием… Дверцу фонаря распахнули, в лицо мне светят – на старину Джима никто и внимания не обратил. Все, думаю, конец, догнали нас все-таки… Думал, к миссурийским линчевателям в лапы попал. Но попал я к Монтгомери, канзасским плантаторам. И до сих пор иногда сомневаюсь: может, к линчевателям лучше было бы, может, столковался бы с ними как-нибудь…
* * *Полковник Роджер Монтгомери оказался настоящим джентльменом, Сэмми. Мой старикан говорил, что для джентльмена самое главное – порода, хотя сам папаша был не породистей подзаборной дворняжки. Уже ведь в немалых годах был полковник – но высокий, стройный, как юноша. Всегда чисто выбрит, каждый божий день – свежая рубашка. Говорил негромко и мало, но когда начинал говорить – все замолкали.
Вся семья – такая же. Джентльмены. Полковник овдовел лет десять назад, три сына с ним жили – Питер, Бакстон и Роджер-младший. Старшим – Питу с Баком – лет под тридцать, Род мой ровесник. И дочь у полковника была, Эммелина, восемнадцатый год ей шел. Ну и еще – «сестренки» и «братцы», но про них чуть позже.
Дом у полковника стоял большой, внушительный. Двухэтажный, у входа восемь колонн – деревянные, но гипсом обложены, от камня не отличить. Вместительный, пять таких семей разместить можно, но… Но вот чем-то не понравился мне сразу дом тот. А чем – не пойму. Только смотрю на него, Сэмми, – и нехорошо на душе как-то. Муторно. Словно за окно глядишь в ноябрьский день, когда все серое и жить не хочется… Хотя лето в тот год стояло солнечное.
Вот… Комнат в полковничьем доме было чуть не тридцать. Ладно спальня у каждого своя, ладно кабинет у полковника отдельный, ладно гостиная без единой кровати (а в те годы и в городах-то такое редко у кого увидишь) – так там еще и курительная комната оказалась!
У меня – тогдашнего – просто в голове не укладывалось. Ну и комнаты для гостей, понятно, в одной из них меня поселили. А Джим где-то при конюшне ночевал, с другими неграми.
Я ведь какую историю полковнику рассказал: дескать, была у моего отца плантация небольшая в Миссури, негры были, там и жил я с семьей, пока не пришла эпидемия оспы. Родные все померли, плантацию банкиры-янки за долги забрали, а я с единственным негром моим оставшимся на плоту в Луизиану плыл, потому что денег даже на билет третьего класса не осталось… В Новом Орлеане у меня, дескать, родня дальняя – примет или нет, неизвестно, – но больше податься не к кому. Ну а дальше все по правде – про туман, про пароход.
Тогда думал – ловко это я про банкиров-янки ввернул, плантаторы их всех поголовно грабителями с большой дороги считали… Лишь годы спустя понял: едва ли старый Монтгомери сказочке моей поверил. Какой уж из меня плантаторский сынок – сразу видно: белая рвань. Но виду полковник не подал. Живу я у него в гостях неделю, вторую, третью – никто меня гнать не собирается. Кушаю за столом со всей семьей, словно родственник, негры ихние ко мне уважительно: «масса Джордж». Я на всякий случай полковнику Джорджем Джексоном назвался – вдруг в Миссури все-таки меня в розыск объявили…
А один «братец» – Джоб его звали – надо мной как бы опеку установил. Надо думать, по просьбе полковника. Если я за столом что не так сделаю или еще где, – полковник и сыновья вроде как и не заметят, а братец Джоб мне потом наедине тихонечко объясняет: так мол и так поступить надо было, мистер Джексон. И ничего, пообтесался я за то лето…
Кто такие «братцы»? Ну как попроще объяснить, Сэмми… Десятка два их там жило, если с «сестрицами» вместе считать, самому младшему лет двадцать пять уже. В общем, это тоже дети полковника оказались – но от мулаток, от квартеронок, грешен был старик в молодости, хотя совсем черными женщинами брезговал. На вид эти «братцы-сестренки» почти совсем как люди – от орлеанских креолов и не отличишь. Жили, понятно, не с неграми в хижинах, в доме – но в двух общих спальнях. И на плантациях спину не гнули: один слугами черными командовал, второй счетами да бумагами всякими занимался (они же все грамоте были обучены, что ты думаешь…), еще несколько за полевыми работами надзирали… «Сестренки» же просто без дела болтались – продать их у полковника рука не поднималась, а замуж кто возьмет… В общем, ни то ни сё – ни люди, ни негры.
Как утро – полковник с сыновьями на коней – и поля свои осматривать или на охоту. А я к этим делам непривычный, в доме остаюсь. Хожу, как по музею, – все в диковинку. Картины висят, гравюры старинные – хотя я много позже узнал, что это именно гравюры, но все равно красиво. Статуи опять же – целых три, не гипс какой-нибудь – натуральный мрамор. Хожу, смотрю – нигде ничего не заперто, даже спальни хозяйские – но туда-то я не совался. Только вот одна дверь… На первом этаже ее нашел, в неприметном коридорчике у черного хода – я тот закуток не сразу и заметил. Толстенная, дубовая, с коваными накладками – и два замка врезаны, а третий сверху висит. Интересно, интересно… Дом снаружи обошел – дай, думаю, в окно загляну, что там такое… Не вышло – нет окон в том месте. Решил: может, каморка какая, где полковник капиталы свои держит? Этаж шагами измерил – ан нет, не каморка, здоровенная комната получается, чуть не больше гостиной. Монтгомери, понятно, не из бедняков был, но и ему под казну что-то больно просторно выходит…
В общем, загадка. Тайна. Всякие мысли в голову лезут. А тут еще «братец» Джоб меня грамоте учить затеял – и успешно, я ведь все всегда на лету схватывал. По книжке детской учил – картинки там были, буквы крупные. Хитрую методу придумал – начнет какую сказку читать, до самого интересного места дойдет, я от любопытства разрываюсь, до того узнать хочется, чем дело кончилось. А он: стоп, давай-ка сам дальше – ну я и пыхчу, слова из букв складываю… Одолели мы таким манером сказку про Синюю Бороду. И в башку мою дурная мысль втемяшилась: а ну как у полковника там комната, как у той Бороды? С мулатками-квартеронками зарезанными?
Сам понимаю, что глупость, но из головы не выходит.
А как разузнать доподлинно – не знаю. Не спросишь же полковника: что это, мол, вы тут, мистер, от честного народа прячете? Но в закуток тот порой заглядывал вроде как невзначай – вдруг да увижу, как кто входит-выходит. И увидел-таки! Дважды туда Мамочка при мне заходила да выходила один раз.
Кто такая Мамочка?
Это, Сэмми, негритянка была. Я таких, скажу честно, ни до, ни после не видал. Ростом – на голову выше меня теперешнего. Толстенная – не обхватишь. Старая-престарая, лет сто на вид, не меньше, но совсем даже не усохла, как со старухами бывает. И вполне бодро так по дому шныряет.
Ее полковник Монтгомери откуда-то лет пять назад привез… Причем не купил, а… Не знаю, смутная там какая-то история вышла, мне так толком и не объяснили. Но вроде как ее, Мамочку, продать нельзя, если сама к другому хозяину уйти не пожелает. Что – странно? Мне и самому, Сэмми, тогда странным это показалось – чтоб на Юге, да в те годы, да негритянка сама решала, у какого хозяина жить… Но такие слухи ходили.
Вот… А привез полковник Мамочку не просто так. Я уже говорил – дочка у него росла, единственная, Эммелина, попросту если – Эмми. Красивая девчонка – тоненькая, бледная, хрупкая, на «сестриц» пышнотелых вовсе непохожая. И – с самого детства талант имела. Стихи писала, картинки всякие рисовала – и карандашом, и маслом, и водяными красками… Видел я те картинки и стихи в альбоме читал – благо крупными буквами, как печатными, написаны оказались. Хорошие стихи, и рисунки тоже, но… Мрачные какие-то. Все про смерть да про разлуку. Но талант от Бога был, это точно.
Только недаром говорят: кому Бог много дает – в смысле души, не денег, – того к себе и прибрать норовит поскорее. В тринадцать лет заболела Эмми – на глазах чахнет, слабеет, врачи руками разводят, ничего понять не могут. Старик Монтгомери денег не жалел – из Мемфиса докторов привозил, из Сен-Луи. Один раз даже из Орлеана профессор приехал. Да все без толку. Осмотрел Эммелину профессор, руки вымыл, говорит: мужайтесь, полковник, но жить дочке вашей не больше месяца.
Тогда-то в доме Монтгомери и появилась Мамочка. Поскольку среди негров слухи ходили – знахарка она, силу великую имеет, хоть мертвого на ноги поставит. Слухи и есть слухи, тем более между черными – кто же к белому больному негритянку-то подпустит? Но полковнику тогда уже не до приличий оказалось.
И – что ты думаешь, Сэмми? – вылечила Эмми старуха. Каким способом – никто не знал и, кроме полковника, не видел. А он никому не рассказывал… Стала дочка здоровее прежнего, однако рисовать и стихи писать перестала. Напрочь. Словно жилка художественная в мозгу от болезни лопнула… Но полковник и без того рад был безмерно.
Мамочка же так в доме у него и осталась. При Эммелине. Вроде как прислуга личная, только никакая не прислуга, хотя много времени рядом с Эмми проводила. Знаешь, сейчас я ее бы назвал наблюдающим врачом. А тогда… Врач-негритянка? Смешно…
А теперь, значит, выясняется, что и в тайную комнату полковника старуха допущена. Меня пуще прежнего любопытство разбирает. Решил у негров что-нибудь вызнать – через Джима, понятно. Его, лентяя этакого, в поле работать не гоняли, он ведь моим негром считался… Иногда, если я куда прокатиться-прогуляться на бричке соберусь – он на козлы, а так в основном бездельничает. Питается от пуза, раздобрел, животик уже наметился… Ну ладно, провел через него разведку. Выяснилось: ничегошеньки про то, что внутри тайной комнаты, негры не знают. С приездом Мамочки окна там кирпичом заложили, в дверь замки врезали – и никому туда хода нет. Саму же Мамочку, между прочим, негры до смерти боятся. Полковник, дескать, ни одного негра не продаст и не купит, с ней раньше не посоветовавшись. А продавать-покупать в последние годы стал отчего-то постоянно, зачастили к полковнику работорговцы. Причем как-то странно все происходит: сегодня партию рабов полковник продаст, завтра – примерно такую же купит, словно не хочет, чтобы черные у него на плантациях долго задерживались. Дворовых слуг, с которыми Джим общался, это не касалось, хотя и они порой под горячую руку попадали – и отправлялись на продажу. Но этих-то хоть за дело, за провинности какие-нибудь…
В общем, тайна осталась тайной.
И лишь в конце лета я ее разгадал. Вернее, мне показалось, что разгадал.
А тогда, в июле, на время загадка той комнаты у меня из головы вылетела. Потому что со мной другое происшествие случилось.
* * *Месяц я где-то у Монтгомери прожил, может, чуть больше. И вот как-то утром, перед тем как в поля отправиться, приглашает меня полковник, негромко и вежливо: не угодно ли вам, мистер Джексон, проследовать в мой кабинет для серьезного разговора.
Я не против, в кабинет так в кабинет. Хотя у самого мыслишка – скажет сейчас мне полковник: загостился, парень, пора и честь знать. Одна надежда – может, денег на пароход до Луизианы предложит.
Ладно, прошли в кабинет, полковник за стол свой усаживается, на столе бумаги какие-то. Мне сесть предлагает и начинает разговор свой серьезный.
Для начала документ мне протягивает – возьмите, мол, мистер Джексон, ознакомьтесь. Я ознакомился – но не все понял, а лишь где буквы печатные были.
Полковник объясняет, что мне негра моего, Джима, без документов везти в Луизиану никак невозможно, и продать нельзя – отберут попросту. А это, значит, купчая, – дескать, купил я его у полковника вполне законно, и все приметы Джима там изложены.
Так-так, думаю, угадал: пришла пора прощаться. Слушаю, что дальше Монтгомери скажет. А он спрашивает этак по-простому: чем вы в жизни заняться собираетесь, мистер Джексон? Как равного спрашивает, как взрослого. А мне всего-то пятнадцатый год идет, хоть ростом и удался, на пару лет старше выгляжу, но сам – пацан пацаном.
Призадумался я: чем, действительно, в жизни бы заняться? Ну и вспомнил, как папашка мой однажды торговца хлопком ограбил и не попался – и полгода себе ни в чем не отказывал. Жил в Сен-Луи в лучшей гостинице – за три доллара в день, не шутка! Сигары курил дорогущие и хлестал вина, аж из Европы привезенные. Да еще устриц на закусь требовал – правда, без толку, никто таких зверей в Сен-Луи и в глаза не видел. Потом-то старик все спустил, конечно, но случай мне запомнился.
В общем, я солидно так отвечаю, что хочу заняться хлопковым бизнесом.
Прекрасно, говорит полковник, тогда я напишу письмо моим старым друзьям в Новый Орлеан, в торговый дом «Монлезье-Руж» – чтобы, значит, они вас, мистер Джексон, приняли и к делу этому пристроили.
И что ты думаешь, Сэмми, – взял перо и тут же написал. Мне отдал, потом еще одну бумажку заполнил. Тоже мне протягивает.
Вот, говорит, мой вексель к Монлезье, на тысячу долларов, чтобы вы, мистер Джексон, не просто наемным работником стали, но младшим партнером. А четверть прибыли, что на эти деньги причитаться будет, мне пойдет, пока весь долг не покроете.
Ну тут я обалдел просто. В те времена тысяча долларов ого-го-го какими деньгами была, а уж для меня…
Так и это не все. Вручает мне полковник восемьдесят долларов наличными – на проезд в Орлеан и на прочие расходы. Ну, дела… Уж не ждал, что Монтгомери так по-царски меня выпроводит. Благодарю его, откланиваться собираюсь. Ан нет, разговор не закончен еще.
Теперь, говорит, когда я помог вам из стесненного положения выпутаться и свобода выбора у вас, мистер Джексон, появилась, делаю вам от чистой души предложение: оставайтесь жить с нами. Вы нам, дескать, понравились, да и вам здесь вроде неплохо – будете, значит, как член семьи нашей. Ну а не хотите – так вольному воля, пожелаю вам удачи во всех начинаниях.









