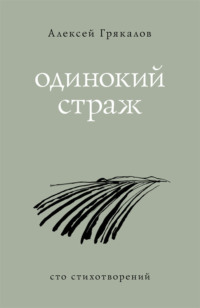Полная версия
Здесь никто не правит (сборник)
Свой человек у своих для себя свою землю купил.
Жалеть, приноравливаться к собственному началу – остается то, что можно только жалеть: мои лошадки, мой пастушок! Жизнюшка прошла! И последнюю отбирают – из подвала на свет в городе Счастье живым выползти.
Табун из степи прогнали двое атарщиков – земля гудит. Жеребчики мои, кобылки! Пока скачете легко… кому на войне погибнуть, кому состариться в борозде.
Все кончится вместе со мной, бабы каменные стоят.
Страх смерти вплыл вместе с монахами-греками – по Дону пошел против течения по средним и малым рекам. Толучеева, Девица, Потудань, Тамлык до самых истоков наполнились всепроникающим представлением о кочевье по жизни. А рыба нерестилась, бобры трудились, волки яро плодились, наполнялись норы лисятами, орлы и кобчики наблюдали за любым мелким движением на почве – ничего будто бы не изменилось.
Но все стало другим.
Страшил не грозный на кушетке неназванный танатос – без него на краю земли все знали, что в степи живут смертные. С греками-монахами прошла другая сила. Где-то совсем рядом святой Андрий со свитком в руках проплыл – каменные бабы остались на своих местах, курганы не тронулись. Чужие боги никуда не делись, даже добавились те, что прикочевали с татарами.
Но все как-то стали равняться под невидимое святое.
Прошли греки по Дону к Дивногорью, подивились, что так похожи места на их первую родину. Добавились новые имена и слова, вслушиваюсь в греко-тюркские оклики. Не я эти места окликаю, а они меня. И чем ближе к истоку, тем дольше будто бы жив насельник. Вот странный пересыпающийся звук камушков и песка… запах табака из борозд переползает в природную степь. Старый Цицарка на лавочке под своим двором одним словом жалел все – всякую траву и жабрий-колючку, вонючего хорька, что в одну ночь перерезал квохчущий курятник. Вредную природу жалел, потому что в жизни кончавшейся уравнивал всех.
А уж качнулся русский сторожевой отряд в Толучееву степь – как раз приезжим черкасам передают местные казаки и татарские проводники названия балок, яров, байраков, водоемов, курганов, дорог и приметных мест. Поскреби хорошо своего татарина и найдешь степного русского. Курганы-могильники не стоят безъязыкими, на карте рождается местная повесть с казацко-татарскими говорящими названиями: Толучай, Кичка, Карандык, Еланский шлях, Калайчи, Гирей-Яр, Турецкие могилы.
А потом Карин-Яр, Арнаут, Третья дубрава, Калмыцкий брод, Кубрат, Острые вершины, Синий камень, Белая протока, Холодный Яр, Вислая гора, Суходол, Вербная балка, Рудокопы, Лебяжье озеро, Орлов лог – названий чуть ли не больше, чем обитающих тут людей. Казачьи летние хутора стоят вдоль Толучеевой – казаки сотника Михайлы ловили рыбу, охотились на дудаков, бортничали и умели выплавить руду. Так хватало всего, что не нужны были никакие другие пришлые. Степь многоименная была для всех и еще ничья: кочевые аулы татар к концу лета доходили до самого Тамбова, потом скатывались на Нижний Дон, Кубань и Маныч – тут до весны замирали дымящие голубым кизячным дымом стойбища. Но уже утверждался почтовый тракт – первыми желтевшие от выбитой травы озмейки дорог заметили с высоты коршуны и орлы, сразу качнулись дальше в степь от дымов и пылившей дороги. Разъезды служилых людей видели устойчивую нитку между Казанью и Крымом, беспрерывно передвигались торговые караваны, гонцы, паломники, обозы и посланники – отставшие от обоза татары рассказали, что везут в Казань черепицу, и очень удивились, встретив на Толучеевой русских служивых людей.
Степь разъединяла и соединяла, а присланный для разведки служивый люд отмечал, что казаки местные хоть считают себя веры Христовой, однако почитают камни, лесные рощи и водоемы, крестятся солнцу, кланяются луне и различным созвездиям на небе, вместе с крестами носят амулеты, на уши надевают серьги, заплетают косы. Чувствуют себя со всем живым заодно – молодые девки одесские, что разливают по стеклянным бутылкам горючую смесь, будто бы не совсем человечьей природы. Одежду местные люди носили татарскую, черкесскую, польскую. Венчались местные люди легко и просто – выбранный из местных служитель обвязал руки молодых полотенцем и заставил их пройти три раза вокруг вербы на берегу водоема. Скрывались под ее ветвями молодые с той стороны, где ветви касались воды, прошли по самому краю след в след – вышли с высокой другой стороны будто бы из-под неба.
Четыреста сорок лет – восемь с небольшим поколений, служба сторожевая идет трудно, и служивская жизнь коротка.
На Донском перелазе у Вёшинской, у Телермановой дубравы на Хопру и на реке Оскол у Белого Яра встали три сторожевые заставы охранять всю необъятную местность. Почти по три сотни служивых постоянно были в разъездах. Молились разным богам, татары со степи молились своим, общее благодаренье разными голосами поднималось к небу от земли, почти одинаковыми словами окликало невидимую степную божественную живность.
И кровь была одинаково взбучена скачкой и яростью боя.
Но только местные понимали все голоса, даже чисто русская московская речь казалась им голосами пришлых. По их настоянью Вёшинскую заставу вскоре переместили к Дивным горам в район Воронежа. Солнце светило, вода была в своих берегах, белые горы стояли на своих местах – братавшиеся боги на своей земле под разными именами хранили места. Кочевали по степи ногайские татары и калмыки, в переметных сумах возили свою утварь, своими ножами рассекали добытых на охоте животных, пили в три глотка горячую кипящую кровь. Татары вторгались за добычей, калмыки выкуривались из степи, как смерчи, со всех своих сторон. А редкие хутора казаков и промысловиков-артельщиков уже встали на своих местах у рек на вершинах утесов.
Почти на каждом месте в том или ином дне вспыхивали бои.
От убитой птицы оставались перья из крыл, колеблемые ветром, будто полет не кончен, от зверя оставались кости, от прежних богов остались каменные бабы в навершиях курганов – от людей не оставалось почти ничего. Но где-то в глубинах того, что позже австрийский доктор назовет бессознательным – что вспомнил Михайло Михайлович на кушетке у аналитика? – осталось неизменное из самого детства, оно еще держит.
Есть еще те, что готовы за свое под огонь.
А уже спокойнее становилось – выстраивалась засечная черта от Тамбова до Ахтырки. Места кочевий чернели кострищами за чертой, но все больше бледнели и зарастали травами. Славянское население, не имея ни легкой степной конницы, ни умения мгновенно напасть и уйти, продвигалось медленно, но продвигалось так, будто шло к себе домой, чтоб потом никуда не уйти. И почти неощутимая засечная черта выстраивалась с северо-востока на юго-запад, почти совпадая с южными границами Рязанского княжества и восточными границами Черниговского княжества. Степь так преображалась, будто бы из нее самой вырастала новая жизнь, и эту никогда не виданную здесь жизнь можно было увидеть воочию. К ней можно прикоснуться взглядом… можно поджечь с разных концов, но она восстановит себя, как весеннее естество. Об эту очевидность ударялись не знавшие удержу татарские отряды – неостановимое ранее течение по степи останавливалось перед преградой. И не признающий границ степной взгляд будто бы замутневал от препятствий.
Крепости и остроги, земляные валы, засеки и надолбы тоже вырастали будто сами собой, но чужды степной свободе, – десятки тысяч не знавших кочевья людей собирались в одних местах. Как муравьи или пчелы жили для того, чтобы собраться в один муравейник или общим гудом живущий рой. Какой-то родовой инстинкт сбивал их в кучу, вместо курганов они сами становились возвышением над степью. И ясно, что без какого-то особого некочевого бога создаться такое никогда бы не смогло, но и сам он не мог быть создан никем из людей и никаким сообществом – они создавались по родству с ним одним.
И эти новые пчелы и муравьи стали лепить соты и возвышать муравейники – простой бумагой учреждалась власть. Земельные угодья стали возникать даже за сторожевой чертой по Хопру, Битюгу, Икорцу, Толучеевой, Осереди, Елани, Токаю и Хаве. Ничьи прежде вольные реки отдавались в аренду служивым людям в качестве платы за службу на черте, даже названия рек по-женски подлаживались под новых людей. Эти места вылепливались странно; может, и другие так, но эти уж совсем странно: живое человеческое до этого существовало как бы само по себе. Власть хотела быть как сама жизнь, а жизнь в самой себе ясно говорила. Но теперь пришло что-то такое, что жизни самой по себе не признавало – подламывало под себя, все прежнее вольное теперь начинало новой силе вольно или невольно служить и прислуживать. Больше не было вольной жизни самой по себе, когда людей столько, сколько властей. Теперь один могучий язык перекрывал своим гулом все другие наречья.
И среди прочих только редкий-редкий хохол будто бы еще сопротивлялся.
Но тут же грозили.
Михайло малый! – Тут для тебя кушетка, знай свое гнездо. И с тобой рядом хохлы Окафий, Покуда, Тарасенко, Кыч, Мыголка, три Охрима – кривой, глухой и хрипливый, Грякало-сотник, Пуд, Пузык, Сом, Несторенко, Кукуричка, Охремка, Левый, Убий-батько, Будюк, Рипка, Улезько, Кучмас, Халупа, Кич и Красюк! У Пузыка своя музыка, у Миголки бас слышно аж до нас! А Охримец-сын со святой книгой не расстается. На ярмарку с ней в руках перед собой. И зачитался, болезный!
А ты не отходи сам от себя далеко.
Далеко не забредай в степь… не трогай чужого бога.
Вот слобода Черкасская Гвоздёвка и слобода Ендовицы забелели хатами под камышом, вслед города-крепости Землянск и Оскол, войсковые сотни стали в Талице, Олыме, Чернаве, Короче, Быстрице, Девице и Стрелице, потом в Ольшанах, Ливнах, Усерди, Урыве и Полатове! И никого не интересует, что было тут раньше.
Надо жить, земля служит тому, кто служит ей. И если бы была книга, в которой написана вся прежняя правда, ее просто разорвали бы, не понимая. И только теперь листы оборвыша станут искать по степи. Но нет первокниги, наверное, она бы приписывала существованию какую-то одну неизменную правоту. А места постоянно меняются – одни жили, потом другие, потом все со всеми. И если каждый потащит свою правду наверх, а правду других на правеж?
Сплетаются и расплетаются плетки власти, переплелись узоры на рушнике, перелились друг в друга названия. Не подверстать ни под степную силу, ни под совецкую власть, ни под чужой язык.
И книги доверенной никакой нет. В одном только сходятся: время божественное, а пространство человеческое. Да демоном время источено – единого нет, а за пространство бьются с пришельцами насмерть.
Из нынешней Украины хохла приманивают… в армии служить всего один год. Там считают, что со всеми насельниками степи я на их земле. Хохлов в сторожевых городках всегда было больше, чем русских. И члены братства «Черный крест» уже требуют возврата земли – собираются залучить вместе с Кубанью и Брянском всю ту степь, где каменные боги не собираются менять места. А ведь у Богдана Хмельницкого только и были земли, что теперь Кировоградская и Днепропетровская области. А потом русские цари одарили местами за двести шестьдесят три года – там теперь Волынская и Ровенская области, Тернопольска и Хмельницкая, Житомирская и Винницкая, сама Киевская и еще Черкасская, Черниговская, Полтавская и Сумская. Ленин отдал Харьковскую область, Луганскую, Донецкую и Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую – в награду камнепад памятников. А уж Сталин всем вслед Львовскую отдал, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую.
Доросла Украина до хрущевского дара – Никита вручил Крым.
А он и так был на карте, изданной в Австрии в 1918 году. На ней в состав Украинской республики входят Крым и Кубань, часть Ростовской области и почти полностью Курская и Воронежская области, включая Воронеж. Австро-Венгрия в карты вбросила большие имперские козыри. И тогда Центральная Рада потребовала от России Черноморскую и Ставропольскую губернии в полном составе. А еще Кубань и Крым, Таганрогский округ, четыре уезда Воронежской и один уезд Курской губерний.
Сейчас и ехать было бы незачем – воевал бы сам с собой в собственном Богучарском уезде.
Слободская Украина сложилась еще в XVII веке на территории современной Харьковской области. А также входили в нее части Сумской, Донецкой, Луганской областей Украины, Белгородской, Курской и Воронежской областей России. Вели украинцы свою войну против Польши. И украинские беженцы, спасаясь от польских властей, переселялись на эти плодородные земли.
Я будто бы везде, и меня нигде нет.
Будто бы нужен всем, а сам меж всеми почти невидим. И вот уже вывернул на дорогу, что на войну – завтра к утру буду на месте. Анну дорогую встречу, знаю же, что она будет там, где я. Уже мелькнула в новостях один раз – переводила немецкому полковнику слова казачьего атамана.
Дождешься, Аненька, чтоб перевести меня? И спасибо земляку из Коростеня, что на кушетку уложил и спросил.
Кушетку вместе со мной населили казаки древнего и высокого происхождения, о них раньше слыхом не слышал: то беглецы из княжества Курского, то неведомые коссахи, то у Константина Багрянородного казахи кавказские. Единственный, кто мог бы правду сказать, – сам Григорий Саввич Сковорода. Ничего не сказал, а знал же Птолемея, и Плиния, и Страбона. Персы говорили о бродниках – еще сейчас остались в двух-трех хуторах. Армяне всех из себя выводят, почти везде армянин-основатель, есть селенье Казаки. И старинный армянский крест-камень хачкар будто бы говорит о том, что казаки пошли оттуда на Дон. Пятьсот лет назад были тут бродники и червленоярцы – слобода Красносёловка названа по Красному яру.
Геть!
Иди отсюда, скажет любой хохол, кому надо прогнать чужого.
Геть! – Удаляйся, спасайся, тикай-беги. А еще было военное сословие гетов, всегда готовое идти вперед – веровали воины в вечно струящиеся воды. И казачьи предки рассажены во всех землях, казачий воинский этнос присутствовал среди ассирийцев и египтян. Ведь навсегда сохранилось древнее слово «крейда» – одинаково по-древнеиндийски, по-богучарски и по-немецки. Разведенным в воде мелом белят хаты – растворился чужим словом во всем, что побелено.
Рыдает Минька-найденыш, что не дают молока.
Брызги летят на платочки – в четыре руки белят две женщины. А бедный, прозванный молоканом, в богатых слезах. И соседская Нюрочка голову беленькую прижала к груди. Рыдающий ловил под шершавым выцветшим крепдешином, – поймал губами, прижался в слезах. Семи лет нянечка-ненька кормила двухлетнего его собственной слюной и слезами, но он не отстранялся и вздрагивал.
И кормилица не отстраняла рыдающего.
Кислого молочка принесла соседка. И беленький молокан пил из кружки, не отводил взгляда от Нюрочки-Ганны.
Она на него смотрела.
И чужой опасен всегда – застыл язык каменных баб, гомон и шепот урочищ… чужой крик чужих людей чужими словами, когда угоняли в полон. Нет тут ни конца, ни начала, такой кажется степь и такой вода – из Толучая в Дон, потом в море. На степь будто бы покрывало кинули из разных лоскутьев. И чтобы прикрыться, надо держать одеяло в руках целым. Тут будто бы уже поименовали – на степь-кушетку налегли невидимые силы всякого приходящего, голос каждого звучал вслух, слышимый каждый новым уложенным. Сами названия всегда оставались, их приходилось перетирать, обрубая чужую непонятность и невнятность. Но сами же названия склоняли к себе. Бродники, расселившиеся, татары, донские казаки поименовали места раньше, будто бы так явно захватили власть над ними и тайно над нами. И потому их присутствие огневое, полоняющее будто бы всегда первоначально. Первоназвавшее повсеместное слово то в гуле слышимое, то видимое, как баба на кургане, заставляло почувствовать, что в степи есть свой порядок – не всегда видимая сила. Она может стать властью, кочует по степи, но не достается навсегда даже самим кочевникам – им она далась не только в дар, но как требование жертвы. Самое слово, даже чужое, которое сопротивлялось речи, все равно говорило о силе большей, чем та, которую можно было установить. И сила была будто бы особого рода святостью – кто узнал о ней первым? Будто бы у гнавших в полон, лишенных всякой жалости и сострадания степняков было какое-то право на силу. А сопротивление их праву было собственным стремлением к святой силе.
И что тут держится, что осталось?
Ведь все пошли от особого рода людей силы. И силу можно применить всегда – на силу красных ответить белой. Но именно ее теперь будто бы не было.
За счет чего жить?
Тепло спасающее всегда рядом… руки навстречу, в своих руках теплые руки Анны.
Глаза закрыть, и ее грудь прикоснется к глазам.
6. Молитвы по краю
А привившийся на придонских землях козак будто бы ни в ком не нуждался и ни от кого не происходил. А от него происходили все. В других местах могло быть по-своему, но тут от первой недели творения уже жил такой человек. Его кровь и в самих степняках – казахах и кабардинцах, и в балкарцах, а еще раньше у этрусков и ассирийцев. А то, что местный житель умел править судами на большой воде, вовсе делало его варягом – не от степняков же научился водить корабли. Обитал в степи родовой человек, даже пришелец-хакас с Енисея тоже мог быть своим. Человек вечной границы мог делать то, чего не могли другие: они смотрели на себя через ближайшего соседа или врага, а придонский насельник говорил на всех языках сразу. Природный юрод-странник по суше или по морю всегда возвращался. Человек границы знал всех, никому не принадлежал – им одно время управляли монголы, но жил сам по себе. Славяне-бродники стояли у истоков Богучарки на Терешковском валу, хакасские изделия найдены в устьях Ведуги; со мной учился хакас Ивандай, я сразу почувствовал его своим. Жалко, больше никогда не встречались, но дорога от Красноярска в сторону хакасских озер, когда стоял на берегу Енисея, показалась почти свойской.
И почти своими кажутся холмы Кипра и оливы на Родосе. Даже голубая и зеленая Галилея похожа на верхнедонские и толучеевские места. В монастыре Саввы Преосвященного над Кедроном высоко стоит келья Иоанна Дамаскина – сухо и чисто в том месте, где выписан первый монастырский устав. А с той стороны Кедрона пещеры монахов в белой горе, внизу в потоке ржавеет остов опрокинувшейся машины. И сизые голубки с голубками воркуют друг с другом так, что я понимал.
Историк Никифор Калист писал, что святой апостол Андрей Первозванный с проповедью доходил до стран антропофагов и пустынь Скифии… По Дону сохранились древнехристианские пещеры в меловых скалах. В зиму можно скатиться до середины Толучеевки, где незамерзающая сарма над родником. И если не отвернуть лыжи, окажешься в черной декабрьской воде. Это как раз та пещера, где мне на голову кинули фуфайку под немецкий крик. И сейчас при спуске на ночной трассе гонится следом чужой голос из почти неразличимого пещерного лаза.
Лыжи из ясеня – гнется дерево, не ломается. Ясынок – дерево просило, чтоб не рубил. И всегда почему-то одна лыжа сохранит выгиб, а другая сухой щукой втыкается в наст. И если рвать от пещеры, чувствуя черное тепло за спиной, нужно вздергивать левую, как неуку-конька. Вечер сливается с черной водой, темнеет оледеневающая лыжня. Упал на спину – лыжи в стороны из ременных петель. Одна уперлась в сугроб, а другой нет.
Долго искать всем троим, дорога с горы почти не видна, кто-то спускается по ней с возом сена – уперся вилами в бок копне на санях. Кони осторожно вниз, оскальзываясь, еще один сзади идет, цепь-гальмо под полозьями корежит дорогу. Как спустят воз с тяжелой горы?
Вечер совсем темнеет… лыжи нет, лаза в пещеру совсем не видно, будто пещера все ближайшее накрывает черным нутром.
– Хлопцы, давайте молиться! – говорит старший Минька.
Двое других – ни да, ни нет. И признаться нельзя, и нельзя не верить.
На колени трое – три Михаила в одной молитве. И каждый будто бы странно ожил, протаял снег под коленями – шесть следков, прогретые молитвой.
– А как?
– Господи, Господи… помоги найти лыжу!
Самый младший сказал ясно. А другой молча кланялся – теперь он полковник Федеральной службы охраны. Наверное, я его встречу в ростовском Миллерове на самой границе. А тот, кто сказал, что надо молиться, давно умер по своей сбившейся воле.
Лыжа нашлась – конец торчал из-под наста совсем рядом. И покатились тихо втроем, уже страшно было подниматься еще раз высоко к пещере для разгона, почти неразличимой стала лыжня, река слилась с дорогой. Не видно моста. По темному склону взлобка вниз, поддергивая по привычке носок левой лыжи-щуки. Клочки соломы, принесенные ветром, схватывали скольжение – если бы спуск был сверху от самой пещеры, упал бы лицом вниз. Луг совсем темный, но не так страшно, как за рекой, где пещера в горе. Молитовка не нужна… шоркают лыжи по быльям конского щавеля, взгляд кидался на каждый шорох. А дома горела десятилинейная керосиновая лампа – светло и ласково.
– Так… как вы там, Михаил, молились? – отец спросил в сторону, будто не меня.
– Лыжу… искали.
– Ты мне религию оскорблять не смей.
Я не знал, что он знал это слово. И в первый раз назвал меня полным именем. И поверить не мог, что он тоже на войне молился, – солдаты, я думал, не молятся. Никогда не видел молящегося взрослого мужчину, кроме одного попа, что приезжал крестить. Церкви не было, я никогда не был в церкви, слышал, что в церкви пахнет каким-то дымом! В хутор поп молодой на легковой машине с деревянными коричнево-желтыми дверцами приезжал крестить детей. Взрослый ходил по кругу с малыми, непонятное говорил. Я подумал, как правильно мы молились про лыжу. И надел кепку – проходя мимо, он снял с меня и дал в руки. Молодой человек – не шофер, не пастух, не плотник, не учитель. Был странным тут, где поля, скотина, играла гармошка, иногда могла приключаться смерть – не страшно, когда совсем старая, всегда ужасная, когда молодая. То человека, что учился в Россоши, убили пряжкой со свинцовым наплавом, то девушка сгорала, когда вспыхивал ночной керосин, то привезли летчика, разбившегося в Польше.
Вера только и бывает странно-пещерная, – так думал, она скрывается, как дезертиры, что сидели в пещерах, их выкуривали и хватали, когда они выбирались через потайной ход на верх взлобка. Вполне хватает жизни обычной, в ней есть выходные, в праздники кино и футбол, из Германии солдаты привозят фонарики «Даймон». Но бабушка рассказывала о прекрасном Иосифе как о живом, его было жалко в начале, потом он всех побеждал. И длинноволосый Самсон всех побивал и только зря погибал геройски. Анания, Азария и Мисаил не сгорели в огне. Это были геройские люди, Конёк-горбунок при них, а Ивашек перехитрил ведьму. Святые спокойно темнели в темных углах темными ликами на образах, их помнили, как людей на фотографии. Только старые крестились, была Пасха – Великдень, яйца красили, зимой колядовали и щедровали, носили в мисочках кутью из пшеницы, которую толкли в ступе. И еще рядом существовал какой-то странный мир, не полуночный и не полуденный, не утренний и не ночной. Ведьмы часто шастали по ночам и редко в полдни, всегда домовой показывался перед событием… козаков остерегался, – налегал на женщину: дохнул теплым – к добру, холодным – к худу.
По степи бродили какие-то странные существа, вокруг них закручивались смерчи. Их было видно, а тех, кому молились, – не видно. Они будто бы расплодились и рассеялись в простых именах, Параскева святая почти невозможно слилась с дояркой Пашкой, сорок святых прилетали по весне, как жаворонки, которых соседка выпекала из пресного теста. Что-то почти непризнаваемое упорно существовало. В бывшей церкви Петра и Павла был РДК – Районный дом культуры, смешно пересмеянный редькой. И там пели, смотрели кино – длинная очередь перед сеансом посреди зала, и когда осталось совсем недолго ждать, центральцы вчетвером так ударили в спины, что она рассыпалась. Я упал, они уже стояли первыми у дверей, заняли потом лучшие места – все вместе переживали войну на белом полотне, где раньше были царские ворота и за ними алтарь.
Как раз на том месте, где упал, потом кружился в вальсе с учительницей французского языка Анной.
Упал на том месте, где когда-то крестили.
И странно: пока вера естественно жила собственной силой, она была тайной и теплой, а когда оформили по закону, будто бы лишилась чудесного обаяния. И теперь к жизненному и по прошлым временам умолимому пещерному естеству почти невозможно вернуться.
Апостол Андрий доплывал сюда – я миновал понтонную переправу через Дон. Апостол узнавал будто бы свои родные места. Вот же в Костомарове красавец-монастырь Донской Иерусалим золотым куполом возвещает, что сбылся сон. И две красные головы, как девушки, улыбаются – ты живой, есть любовь. Андрий, сын Прохора и Анастасьи, едет на конях, чуть кнутом взмахивает… куда спешить? Посмотри на места, которым кланялся первый Андрий. Но вход в пещеру совсем засыпали, чтоб не смущал зря. Ни святого креста в алтаре пещерного храма, ни колодца, где в глубине взблескивала живая вода. Тут в первых веках образовывалась древняя вера – на Дону в неведомых просвещенному миру местах уже жила легенда о царстве пресвитера Иоанна. А крест коричнево-красный был такой же точно, как в Риме, и в Палестине, и на Афоне. Крестоносцы считали, что неверных побеждает неизвестное им воинство с православными казачьими рыцарями веры. Но крестоносцы в чужих землях прямо перед собой видели противников веры, а на Дону все было зыбким – из степи выкуривалась пыль: то ли вихрь с черным, почти различимым бесом-беском в середине, то ли приближался в ужас вброшенный ночной грозой табун, то ли степняки намечались в скрывающем мареве. Не держались долго ни линия, ни постройка, ни жизнь. И поселенец посреди курганов-могильников, среди буераков, среди белых меловых взлобков, где божки и боги давних предшественников, одной собственной силой выправлял неровности. И сам призвал одну-единую силу, чтоб высветить все.