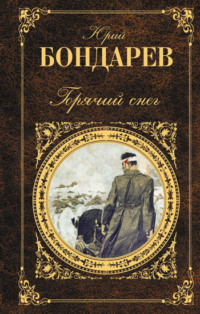Полная версия
Мгновения. Рассказы (сборник)
В полдень набережные переполнены молодежью, праздными туристами – смех, крики, зазывающие голоса гондольеров в широкополых шляпах; на площади Святого Марка тучи голубей мелькают над храмом и Главным каналом, опускаются с шумным треском крыльев, снуют под ногами с такой безбоязненностью, что опасаешься наступить на этих полновластных здесь хозяев; моторные лодки, заменяющие такси, расходятся в разные стороны по каналам, нагоняя волну, которая колышет мусор, обрывки газет, бутылки, апельсиновые корки, обмывает каменные морды львов около подъездов. Из-за поворота сказочно мощенных улочек, в каньоне домов вдруг раздается предупреждающий крик, и на повороте за аркой нависшей над головой, щелкает внезапно фотоаппарат, и – весь пленительная улыбка – парень, не без любезности снявший вас со встречной лодки, бросив в гондолу свернутую бумажку – адрес, на тот случай, если захотите взять фотографию. Повсюду из открытых окон доносятся молодые голоса – и оттуда живо выглядывают приветливые юные лица, из окон машут вашей гондоле руками. Город привык к чужестранцам и относится к ним с радушием; да, здесь все необычно: и узкие улочки в центре города, где идешь, как по лабиринту, меж вывесок, баров, витрин крохотных магазинов, цветистых, рассчитанных на любопытный глаз туриста; мосты через каналы, закоулочки, площади, где от века стоят храмы и памятники; и здесь же детские коляски, толкаемые молодыми матерями, кажущимися в коротких юбочках чрезмерно длинноногими, возбужденные, мальчишки с криком, брызганьем, толкотней пьют прямо из фонтанчика посреди газона; и незаметная на углу афиша французского кинофильма «Женщины»; и стрижи в сумерках площади с писком садятся на карнизы храма; и брусчатник, успокаивающий своей прочностью; и каналы, каналы, красноватая зелень воды, под скаменьями и стенами, омываемыми сотни лет, – все это наводило на мысль о людях с воображением, когда-то построивших в морской лагуне сказочный город.
Город Арнхем, 100 км от Амстердама
К вечеру поразила яркостью незашторенных окон – зажигались люстры, торшеры, бра в гостиных, и повсюду открытая глазу жизнь семейная, домашняя как бы вынесена была на улицу.
Еще в Амстердаме мне объяснили, что «открытые окна» возникли в конце Первой мировой войны, когда стали строиться дома новой архитектуры.
Мы остановились в маленьком «Рейн-отеле», таком мило-курортном, что было непривычно приятно его безлюдье после многолюдного амстердамского аэропорта и часовой езды по автостраде.
Уже заполняя регистрационные листки в вестибюле отеля, устланном ковром, заглушавшим шаги, мы слышали голоса из ресторана, красновато озаренного настольными лампами, кто-то негромко играл вальс из кинофильма «Доктор Живаго».
В номере ослепили два конверта постели на двуспальной кровати с ночниками в изголовье; портье поставил чемоданы, показал, деликатно приоткрыв дверь в ванную, сверкнувшую кафелем и зеркалами, мохнатым ковриком на полу.
С явным удовольствием я развернул тугой конверт-постель, и хрустящая простынь, стерильный пододеяльник, пуховое лоно подушки поманили неодолимо…
Проснулся я от мычания коров. Где я нахожусь? Что такое? Занавеска на окне выделялась лиловым квадратом; наверное, забыл потушить бра в коридорчике и занавеска озарена из открытой двери передней.
Я отдернул занавеску. Внизу, омывая террасу закрытого до сезона кафе, тек в долине Рейн, плоско-свинцовый, с песчаными пляжами, по которым бродили взъерошенные ветром чайки. На том берегу мычали коровы. Слева выступал в пасмурном небе устремленный в дождливые тучи костел, рядом на площади не было ни души. Справа над террасой летнего кафе – огромные окна полукругло висевшего над берегом ресторана, там, за стеклами, двигался причесанный мальчик-официант, расставлял приборы на столиках.
Мы завтракали в этом ресторане с видом на Рейн, сидели совершенно одни, в турецких кофейниках принесли кофе, молоко в крошечных металлических сосудах с птичьими носиками, ягодный джем, пластинки масла, ломтики белого и черного хлеба в целлофане.
Было какое-то ленивое умиротворение в тишине ресторана, мысли текли ленивые, скучные, как осенний дождь, который начал сеяться из низких туч, застилая туманцем и неприютные пляжи Рейна, и чаек, и костел посередине площади.
Все-таки есть красивенькая тоска в курортных европейских провинциях осенью.
Щегол
Щегол всю свою птичью жизнь поет одну песню неизменного содержания, однако каждое утро и перед закатом поет страстно, с одержимостью гения. И все же соловей – гений, щегол – талант, сорока – почти бездарность. Но, вернее, щегол талантлив лишь в чудесную пору летнего утра и всегда неповторимого конца дня, прощаясь на целую ночь с солнцем.
Звездные часы детства
Вот начало этого настроения:
«На западе прозрачным леденцом стояла меж стогов сена луна, и длинный хвост Большой Медведицы опустился к побелевшему востоку. Уже выпала роса. На речных заводях в упоении стонали лягушки…»
Когда я видел и чувствовал все это? Я представил околицу деревни на берегу реки, и в этой ночи увидел себя босого, невыспавшегося, от ожидания рыбалки. На моем плече елозила тяжесть влажного весла (всю ночь лежало в траве), другое весло нес мой брат, и мы спускались к заводи, где под откосом в сумраке волна шлюпала у просмоленных днищ.
И это раннее утро до сих пор связано с как бы рожденной рекой, зарей, деревьями, холодным песком. Полуметровые язи с огненно-красными плавниками, упруго рвались на леске перетяга, который мы поставили вечером, они боролись с нами, выскальзывали из рук, эти круглоглазые красавцы речных глубин, покрытые рыцарским панцирем. Они лежали потом на дне лодки, ударяя хвостами, и чувствовал я какой-то священный восторг при виде этой пойманной красоты и вдыхал в себя первозданный запах обмытых темью коряг, где недавно царствовали они, толстоспинные и самоуверенные властелины вод.
Щекотно-мужское чувство ловца, охотника я переживал в детстве не однажды, и всякий раз ликование победы охватывало меня. Возможно, токи предков пульсировали в моей крови, напоминая о том первобытном времени, когда само существование рода человеческого зависело от удачной охоты.
Но все же я испытывал наслаждение не от добытой тогда пищи, а от той холодной упругой плоти красноперых язей, что никак не преобразовывались в моем сознании во что-то, имеющее вкус еды, необходимой человеку для продолжения жизни. А было восхищенное удивление перед пойманными живыми золотыми слитками, знаками непостижимой тайны реки, и всего того утреннего мира…
Единое
Мир разноязычен, но все люди одинаково плачут и одинаково смеются.
Свобода
Когда человек судорожно держится за жизнь, он находится в данном ему телесном рабстве. Как только исчезает алчное насыщение жизнью, наступает свобода от страха смерти. И тогда человек свободен безгранично.
Написанное
Когда-то увиденное мною в жизни «сидит» в моей памяти до той поры, пока с потерями точности и красок я не перенесу их на бумагу.
Но стоит освободился от этих засевших в памяти картин настроения, наступает облегчение, хоть и не до конца удовлетворяющее. И то, что было в реальности, воспринимается только через написанное, через зафиксированное на бумаге – и я уже не возвращаюсь к использованной памяти, несмотря на то, что отраженное на страницах книги явно не равно бывшему когда-то на самом деле. Удалось ли мне передать неповторимый осенний Днепр в «Батальонах», или «воздух» возвращения в «Тишине», или безумием боя в «Горячем снеге», но теперь я избавлен от некоторых ощущений, воспоминаний, связанных с событиями моего поколения.
Лес и проза
Если в летнем лесу человек способен испытывать очарование зелени, солнечных светотеней, то он не замечает корявых веток под ногами, пней, безобразного сушняка в чаще.
Все это не портит общего ощущения любви к сущему, и от удовольствия ходить по земле.
Так бывает и в мудрой прозе, которую следовало бы назвать добрым судьей, приведенным к присяге самой жизни.
Тот день
Иногда я пытаюсь вспомнить первые прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что может возвратить меня в наивную пору удивлений, восторга и первой любви, вернуть то, что позднее, зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто и пронзительно.
С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи?
Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности давнего моего детства.
Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение сверкнувшего настроения – это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, утраченного с вечным, детского со взрослым, подобно тому как соединяются золотые сны с явью. Однако, может быть, первые ощущения – толчок крови предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, исхлестывая травы под сизым лунным светом, и скрип множества телег на пыльных дорогах перемешивался с первобытной трескотней кузнечиков, заселивших сопровождающим звоном многоверстные пространств, днем выжигаемых злым солнцем до колючей терпкости пахнущего лошадьми воздуха…
Но первое, что я помню, – это высокий берег реки, где мы остановились после ночного переезда.
Я сижу в траве, укутанный в овчинный тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер, а рядом тоже укутанная в палас сидит какая-то бабушка, кроткая, уютная, домашняя. Она наклонилась к нам, своим телом согревая и защищая от рассветного ветерка, и все мы смотрим, как очарованные, на малиновый, поднявшийся из травы на том берегу шар солнца, такой неправдоподобно близкий, искрящийся в глаза брызгами лучей, что все мы в затаенном ритуальном восторге сливаемся со всем этим на берегу безымянной степной реки.
Как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бугор, и нас на том бугре, наклоненных слева направо, тесную нашу кучку, укутанную тулупами, и бабушку или прабабушку, возвышающуюся над нами, – вижу лицо под деревенским платком; оно рождает детскую защищенность и преданную любовь к ней и ко всей прелести открывшегося на берегу реки степного утра, неотделимого от родного лица никогда позднее не встречавшейся, воображаемой мною бабушки или прабабушки…
Когда же я вспоминаю осколочек полуяви-полусна, то будто впереди открылась вся доброта поднявшегося из травы солнца, встреченного нами в этом длительном переезде куда-то. Куда?
Странно вдвойне: я помню время переездов и приближения к невиданной и неизведанной земле, где все должно быть радостью.
И встает из уголков моей памяти деревянный дом неподалеку от переправы через широкую реку, за которой проступает какой-то расплывчатый в очертаниях город, с церквами и садами, незнакомый большой город.
Я не вижу самого себя – в доме ли я или возле дома. Лишь представляю завалинок, истоптанную копытами дорогу – от дома к реке – и близости беспокоящей меня до сих пор.
Но почему во мне, городском человеке, живет это? Все те же толчки крови степных предков? Уже будучи взрослым человеком, я однажды спросил у матери, когда был тот день, тот дождь, и переправа, и город за рекой; она ответила, что меня тогда не было на свете. А вернее – она не помнила того дня, как не помнил и отец одной ночи, которая осталась в моей памяти.
Я лежал на арбе в таком душистом сене, что кружилась голова и вместе кружилось над мной звездное небо, такое устрашающе огромное, какое бывает в ночной степи, там и тайнодейственно перестраивались созвездия. В высотах за белым дымом, двумя потоками расходился Млечный Путь, что-то происходило, совершалось, в небесных глубинах, пугающее и непонятное…
Наша арба переваливалась по степной дороге, я плыл между небом и землей, а внизу вся степь была заполнена металлическим звоном сверчков, не прекращающимся ни на секунду, и казалось мне, что сверлило серебристо в ушах от распыляющегося Млечного Пути.
И по-земному подо мной покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль хватала колеса, доносилось пофыркивание невидимых лошадей. Это привычно возвращало меня на землю, в то же время я не мог оторваться от втягивающего своими звездными таинствами неба.
Потом рядом зашевелился отец, я услышал заспанное покрякивание, ощутил дымок табака, знакомый и терпкий; отец сел на сене, поглядел по сторонам, взял винтовку и двинул затвором с железным стуком, вынул обойму и вщелкнул опять, протерев патроны рукавом. Затем отец вполголоса сказал матери, что впереди станица и в ней пошаливают: три дня назад там убили кого-то. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного равновесия, спросив его, убил ли он сам когда-нибудь человека? И как это было? И страшно ли убивать?
В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавал.
Но и никогда потом не повторялось того единения с небом, того немого восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.
Талант и слава
Бывает, что в литературе подолгу живут книги несуетливого писателя, однако нет у него ни громкого имени, ни славы.
Бывает, что есть и слава и имя, но нет таланта в трудах знаменитости – солидная, так сказать, денежная купюра, не обеспеченная золотым запасом.
В период «массовой культуры» не часто встречается писатель божеского слияния имени и таланта, таланта и славы, заслуженной книгами.
Мгновение мгновения
Что же руководит миром и всеми нами? Может быть, это раскаленная бездна вселенной, поглощающая в утробе расплавленные тела созвездий и целые галактики? Может быть, именно эта наивысшая власть определяет все начала и концы, жизнь и смерть, вращение Земли, рождение и гибель, подобно тому, как земная природа создает в лесах муравейники и предопределяет их последнюю секунду, в рождение вкладывая срок конечный?
Немыслимо представить огнедышащие ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих все в гигантском вихре, вспышки взрывающихся звезд, ливни огненной карусели, и где-то в непознаваемой тьме, на каком-то пересечении космических координат летит, вращается пылинка – Земля, которой наивысшая сила мироустройства сообщила определенную энергию и срок существования согласно общим законам вселенского механизма.
Невозможно согласиться, что в ее рождении уже заложен последний миг, что смерть – нерасторжимая тень жизни, неразлучный ее спутник в любви, молодости, успехе, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее роковая тень. Вечность – это безграничное время, и вместе с тем нет времени у вечности.
Если долголетие Земли – мгновение микроскопической крупицы мировой энергии, то жизнь человека – мгновение наикратчайшего мгновения.
26 января 1976 года в северном полушарии неба взорвалась звезда размером с наше Солнце, и загадочный взрыв продлился всего сорок минут, выплеснув такое количество энергии, которой хватило бы Земле и нам, грешным, на миллиард лет. Никому не известно, с чем был связан этот взрыв – со смертью или рождением новой звезды, может быть, агония стала рождением, или, может быть, было непостижимое высвобождение ядерной энергии, гибель звезды, ее превращение в черную дыру, необычайной плотности небесное тело, которому в предназначенный миг тоже суждено взорваться и умереть, своей смертью, образуя совсем уж загадочную белую дыру.
Кто точно ответит, каким законам, каким силам вселенной подчинена стихия и эволюция, периоды жизни и час смерти, рычаги превращения жизни в смерть и смерти в жизнь?
Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не девятьсот лет, а семьдесят (по Библии), почему так, быстротечна молодость и почему так длительна старость. Мы не сможем найти ответа и на то, что подчас добро и зло невозможно отъединить, как причину от следствия. Прискорбно, но не стоит и переоценивать понимание человеком своего места на земле – большинству людей не дано познать смысл бытия, цель собственной жизни. Ведь нужно прожить весь данный тебе срок, чтобы иметь основания сказать, правильно ли ты жил. Как иначе осмыслить это? Умозрительным построением возможностей и назидательных предопределений?
Но человек не хочет согласиться с тем, что он мизерная крупица пылинки-Земли, невидимая с космических высот, и, не познав себя, дерзостно уверен, что может постичь законы мироздания и, конечно, подчинить их повседневной пользе.
Беспокойная эта мысль изредка мелькает в его сознании, он отстраняет ее, он защищается, успокаивается надеждой – роковое, неизбежное, не случится завтра, еще есть время, еще есть десять лет, пять лет, два года, год, несколько месяцев…
Он не хочет расставаться с жизнью, хотя она у большинства людей состоит не из великих страданий и великих радостей, а из запаха рабочего пота и простеньких плотских удовольствий. При всем этом многие люди отделены друг от друга бездонными провалами, и тоненькие жердочки любви и искусства, то и дело ломающиеся, соединяют их.
И все же сознание человека, наделенного умом и воображением, вмещает и ледяную жуть звездных совершающихся таинств, закономерную трагедию краткосрочности жизни. Но и это не придает его поступкам тщетности, подобно тому, как не прекращают неутомимой деятельности и муравьи, озабоченные, видимо, полезной необходимостью ее. Человеку мнится, что он обладает наивысшей властью на Земле, не задумывается, что лето сменяется осенью, молодость – старостью и даже ярчайшие звезды гаснут. В его убежденности – пружины, действия, страстей. В его гордыне – легкомыслие зрителя, уверенного, что занимательный фильм жизни будет длиться непрерывно.
Не преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать мгновения мгновений бытия, в надежде передать человеку опыт разума и чувства, и таким образом остаться бессмертным?
Но без этого убеждения нет идеи человека и нет искусства.
Имя этого судьи – правда
Вряд ли кто-нибудь из нас рискнет определить современную литературу как морализаторскую притчу или как очерковый комментарий к событиям дня, выдаваемый за философское осмысление жизни.
Нет, цель современного искусства – разумная организация сознания, внесение в мироустройство нравственного порядка, социальной концепции природы и человека.
Сегодня невозможно отгородиться от мира каменной стеной Древнего Китая с его смертельным запретом проникновения к чужой культуре. Поэтому едва ли сейчас на Европейском, Американском и Азиатском континентах можно найти абсолют обособленного, очищенного национального искусства. Человечество объединено единым земным шаром, он стал удивительно тесен, уменьшен невероятными скоростями новой науки.
Когда известный японский критик Кендзи Симицу говорит, что «современная культура импортируется главным образом из США…», когда в Канаде создается Союз писателей с главной целью воспрепятствовать импорту американской книжной продукции, когда французская интеллигенция сетует на засилье джазовой заокеанской музыки, когда крупнейшие итальянские режиссеры заявляют, что западное кино «волочит за спиной груз американского доллара», что они, американцы, «требуют, чтобы кино не пробуждало сознание, никуда не звало». Когда мы соприкасаемся с переводными американскими романами последнего времени, то бесспорно начинаем понимать: в мировой культуре что-то случилось (слово «что-то» я употребляю здесь, имея в виду роман Джозефа Хеллера), и понятий добра и зла не существует, а сам Вельзевул взмахами обожженных недавними войнами крыльев ставит на страницах книг печать оцивилизованной тоски, безрадостного пресыщения.
Главная проблема Запада – пропасть между духовными запросами человека и его материально-плотским существованием – рождает размытость жизнеспособной моральной доктрины.
Современные буржуазные социологи объясняют новые эрзац-чувства стальной поступью «индустриального общества», называя преступником века научно-технический прогресс, который раздавил человека машинами и вещами, опошлив и подменив его мысли либо хватательным инстинктом, либо рефлексом на физиологические удовольствия.
И в литературе возникают апокалипсические параболы, идеи тотальной судьбы, тусклый контур грядущего дня человечества на отравленной, выжженной и обезвоженной планете, и вырастают «границы между „я“ и „не-я“». Возникает отчуждение, ибо «истин на земле столько, сколько и людей». И потеряна нравственность, первоэлемент общественных установлений (благороднейший тормоз свинцовых инстинктов). На замену пришло судорожное развлечение, дьявольский знак бегства от самих себя, от одиночества в каменных лабиринтах городов, где целая индустрия лжеискусства пытается заполнить духовный вакуум в последние два десятилетия, превратив искусство, в прибыльную коммерцию. Поэтому не являются ли секс, наркотики, алкоголь беспомощными врачами душевного одиночества?
Стереотипный стандарт «массовой литературы» заменили индивидуальности талантов, и это преддверие искусства постиндустриального общества.
Мы знаем, что целые культуры рано или поздно исчерпывали свои возможности и погибали, как и внешне, казалось бы, всесильные цивилизации, погребенные песками пустыни.
Что ж, может быть, культура Европы прошла свой зенит и в течение последних двадцати лет неуклонно сползает к унылому закату, о чем еще в начале века писал Освальд Шпенглер? Или, может быть, эта буржуазная культура, задохнувшись в машинной цивилизации, утратила духовную силу, передав маршальский жезл социологическому репортажу и «массовым» романам, низкий художественный уровень которых размыл критерии? Синтетикой, излишеством вещей и алчностью опрокинут, погребен эстетический кумир, и европеизм, анемичный, постаревший, напоминает уже орла с восковыми крыльями – куда и сколько ему лететь?
Для того чтобы продолжать любить человека, современному художнику нужны прочные точки опоры.
Когда мы говорим о научно-технической революции развитого социалистического общества, о высокомеханизированной цивилизации XX века, мы, конечно же, думаем о науке как об импульсе прогресса, как о рычаге, поворачивающем индивида не к миру вещей, его поглощающих, а к духовному богатству для всех. Подчиняясь нравственным законам, человек должен осознать, что век электроники и кибернетики, господство машин – это не самоцель, не прогресс ради прогресса, а ступень исторической судьбы человечества, рубеж познания, через который ему суждено пройти.
Люди готовы обвинять технику, забывая о том, что техника подчинена людям, действительным виновникам убийства и самих себя. И здесь возникают проблемы социальные.
Теоретики постиндустриального общества утверждают, что научно-технический прогресс отменит идеологию, заменив ее наукой, то есть тезис «деидеологизации» отрицает социальное преобразование современной капиталистической структуры. Все эти антимарксистские теории напоминают многолетние и многошумные дискуссии о моноромане и центробежной и центростремительной прозе, об антиромане и романе-репортаже, о романе-информации и романе экзистенциалистском – во всех пен-клубовских диспутах недоставало «жизни как она есть» и не хватало надежды.
Оптимизм? Вера в добро? Вера в человека? Но оправдан ли эпохой этот оптимизм? Девятнадцатый век был временем критического реализма. Не заслуживает ли критики наш индустриальный век?
В советской литературе нет всемирного пессимизма, нет черного юмора, балаганного святотатства, ибо искусство наше подчинено этическому началу, где герой, как правило, делает выбор не ради эгоцентрического «я».
Советской литературе не присущи морализаторство и роль исправителя рода человеческого, на что претендовала Библия – эта самая известная книга мира, набор мифов, законоустановлений и советов, догматическое руководство к действию, нередко поражающее бесцеремонной непререкаемой властностью.
Завтрашний век, что уже не за семью печатями, признает и укрепит нашу литературу как «доктрину добра» – она пытается сказать о революционной эпохе на земле, о человеке этой эпохи, сказать не нечто, не что-то, а сказать все.
В поисках истины мы не были пленниками идеалистического иррационализма, разочаровывались в человеке и не были приверженцами асоциальных направлений.
Слово родилось прежде философии, политики, социологии и всех научных систем; слово родило идеи человечности, без которых искусство и литература, вырождаясь, превращаются в зеркало жалкого развлечения, отражая бытовые случаи на житейских перекрестках.
Шедевр в прозе появляется на свет, когда диктатура идей родственно соединяется с диктатурой образа.
О любой литературе не следует судить по ее среднему уровню, как судят об обществе социологи. То, что писал Толстой, по сравнению с латинской литературой иному интеллектуалу западного толка мнится тривиальным, но стоит ли спорить против «авангардизма наоборот»?