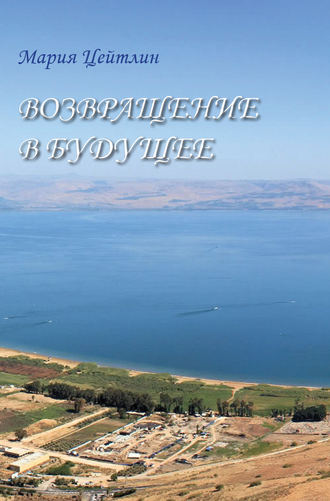
Полная версия
Возвращение в будущее
Муж хозяйки, Павел Васильевич Столбов, конечно, не пришёл в восторг, увидев поселенцев в своей квартире. Вообще, он оказался довольно странной личностью. Гражданин, которому не было и сорока лет, вместо того, чтобы с оружием в руках защищать свою родину от врага, как это делали миллионы мужчин его возраста, занимался охраной какого-то магазина. Как этому довольно здоровому, упитанному человеку удалось достать бронь, мы, конечно не знали. Как сказал отец: “Нас это не касается и нечего лезть не в своё дело”.
Помню, в тот первый вечер нашего пребывания в доме Столбовых, мама, оглядев более чем убогую обстановку того угла, где нам предстояло жить неизвестно сколько времени, села и, уронив лицо в ладони, расплакалась. Я знала, о чём она думает. От тех же мыслей и у меня ком к горлу подступал. Я не знала, что сказать и как её утешить. А Гиля подошёл к ней, сел рядом, обнял и сказал:
– Мама, не надо, не плачь. Зато мы все вместе.
Мама посмотрела на нас, оглядела одного за другим, обняла Алика, который тихо пролез ей под крыло, и сказала:
– Да, мы вместе… Благословен Господь, спасший жизнь моих детей, как спас Он свой народ, выведя его из Египта…
Не припомню, чтобы раньше мы слышали от мамы подобных слов. Но сейчас она взяла у папы маленький молитвенник, который подарил ему дедушка при расставании, и, отвернувшись, стала тихо читать молитву.
VIII. Голод
Страшное лето 1941 года, когда мы, как и многие сотни тысяч граждан, потеряли родной дом, связь с близкими, оказались вдали от всех и вся, у чужих людей, в тяжелых условиях, в которых наша семья должна была выживать, – это лето стало для страны крайне сложным и очень болезненным периодом. Враг стремительно продвигался по территории СССР. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, к концу 1941 года под немецко-фашистской оккупацией оказались Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика, значительная часть России. В начале осени началась блокада Ленинграда. А седьмого ноября по радио транслировался репортаж о параде советских войск на Красной площади в Москве, – тот самый парад, откуда войска шли прямо на фронт, находившийся уже в десятках километров от столицы.
На фронтах шли бои, а в тылу люди обязаны были выживать, работать и учиться. В тылу была другая война, другие битвы и другой страшный враг – голод, воевать с которым приходилось ежедневно, ежечасно. А кроме голода было ещё отчаяние. И всеми силами нужно было стараться не позволить этому отчаянию овладеть тобой. Сохранять надежду в то время, когда пуст желудок – нелёгкое испытание. И всё-таки мы верили, что война закончится и мы вернёмся домой.
Сразу по приезде в Троицк родители устроились работать на завод. Алика определили в детский сад. А первого сентября, как положено, мы с Гилей пошли в школу. Он, к тому же, пошёл работать слесарем в мастерские Воинской части. Я поступила в шестой класс в девятую школу на улице Красноармейской, возле городского парка. Это была школа-семилетка. А поскольку мой брат окончил семь классов в Могилёве, то в восьмой класс он пошёл в школу № 13, которая находилась тут же, рядом, возле парка. После уроков, в том случае если они заканчивались в одно время, мы вместе возвращались домой. А потом Гиля шёл на работу.
Все домашние дела лежали на нас с братом. Родители работали по многу часов, приходили поздно – часто тогда, когда мы уже спали. На заводе они получали продуктовые карточки на себя и на нас. По карточкам выдавались мясо – 500 грамм на месяц, крупы – 800 грамм, жиры, сахар – по 200 грамм… Норма на детей была ещё меньше. И на этих мизерных пайках люди должны были выживать. Карточки берегли, как зеницу ока – в случае утраты они не возобновлялись.
Голод преследовал нас постоянно. Дневной нормы продуктов было не достаточно. Мысли о еде не давали покоя. Как о манне небесной, мечтали мы о сдобной булке и настоящем чае с вишнёвым вареньем! Так же дразнила наше воображение хрустящая корочка свежевыпеченного хлеба. Ну, или на худой конец, просто лишний кусочек хлеба сверх той смехотворной нормы, что выдавалась нам в день. Не знаю, что бы с нами было, если бы мама не додумалась вовремя купить мешок картошки и в очередной раз благодаря своей интуиции спасти свою семью. Только благодаря этой картошке мы смогли пережить ту первую суровую военную зиму.
Приходя со школы, мы с братом дружно усаживались чистить картошку. Алик, примостившись рядом, наблюдал за нами и считал картофелины.
Помню, как-то зимой принялись мы с Гилей за привычное дело, отсчитав несколько клубней на ужин – нашу обычную дневную норму.
– Я хочу вот эту большую, – сказал Алик.
– Самая большая для папы, – ответил ему старший брат, – хватит с тебя и маленькой, ты же обедал в детском саду?
– Я не обедал, – заплакал Алик.
– Как не обедал? Почему? – удивилась я.
– Мне не дали!
Мы с Гилей переглянулись, не зная, что сказать. Брат встал, открыл сундук, достал из маминых “запасов”, которые ей каким-то чудом удалось собрать, два сухаря и протянул их Алику.
IX. Столбов
О положении на фронтах каждый день сообщалось по радио. Особенно тревожные новости в сорок первом и в начале сорок второго года, когда сообщалось об отступлении Красной Армии на восток, мы слушали с тяжёлым сердцем. Помню, в каком напряжении следили за сообщениями об обороне Москвы, и весть о том, что советские войска отстояли столицу, заставила усомниться в непобедимости немецкой армии. Это была первая крупная победа в той войне.
Однако ещё не утратившие преимущество войска Вермахта продолжали наступление. С сообщениями о захвате фашистами очередного города, о тяжёлых боях и новых потерях на фронтах, по радио передавали песни, рождённые болью, страданием, непоколебимой верой и безграничной любовью. Начиная с осени сорок первого года ежедневно, после боя кремлёвских курантов, звучала по радио главная песня Великой Отечественной войны, с первыми аккордами которой идёт мороз по коже. Каждое утро начиналось со “Священной войны”:
Вставай, страна огромная,Вставай на смертный бойС фашистской силой темною,С проклятою ордой!Пусть ярость благороднаяВскипает, как волна!Идет война народная,Священная война.Была ещё одна песня, которая трогала до глубины души. Это “Вечер на рейде”. Слова: “Прощай, любимый город”, понятные всем, кому приходилось покидать родину, невозможно было слушать без слёз. Однако подобные чувства испытывали, увы, не все. Не кто иной, как хозяин квартиры Столбов напевал эту песню с довольно-таки весёлым видом, уж не знаю, как ему это удавалось.
Моя неприязнь к этому человеку росла с каждым днём. Было в нём что-то крайне неприятное, в его слащавой улыбке, в маленьких хомячьих глазках. Я называла его “предателем”. Разумеется, про себя, ведь нельзя обвинять человека в предательстве только за то, что он весело напевает песню, которая других заставляет плакать. Это, конечно, не является прямым доказательством измены родине, но за косвенное вполне сойдёт. Но было в нём что-то ещё, чего я не могла объяснить даже себе самой. Что-то было недоброе. Оно не проявлялось в словах или поступках, но сквозило во взгляде, в неосторожном жесте, оно ощущалось, это зло, исходившее от него. Я боялась его. Когда ни родителей, ни Гили не было дома, я сидела тихо, боясь шевельнуться. Мне казалось, что этот человек может зайти и убить меня, а в нашем углу нет даже двери, которую можно было бы закрыть.
Однажды я пришла со школы раньше Гили: у него должен был быть ещё один урок. Родители были в это время, как всегда, на заводе. Любовь Николаевна вскоре объявила мужу, что ей надо на рынок и ушла. Тихо забившись в угол, я считала минуты до возвращения брата.
– Лизочка! Ну-ка подойди, помоги мне, – услышала я елейный голос Столбова из соседней комнаты. Мне захотелось спрятаться в сундук; если бы он был чуть больше, я бы, наверно, так и сделала. Я сидела тихо, как мышь, боясь, что он войдёт сюда.
– Лиза! Ты идёшь?
“Может, под кровать залезть?” – совсем по-детски подумала я.
– Лиза, ты слышишь меня? – не унимался Столбов.
– В чём дело, Павел Васильевич? Может, я вам помогу?
“Гиля!”
Через щёлку в занавеске я увидела брата. Он вошел в гостиную неслышно и его появление, кажется, вызвало досаду хозяина.
– А ты что тут делаешь? – нахмурился Столбов, – ты должен быть в школе! Решил уроки прогулять?
– Так ведь уроки закончились, – ответил Гиля, пристально глядя ему в глаза. – А что вы хотели от моей сестры? Может, я могу помочь?
– Нет, парень, ты не можешь помочь, – буркнул Столбов. – Тут женская рука нужна.
– А Лизка причём? – усмехнулся Гиля, – она же девчонка – ей всего 14 лет. Какая из неё женщина?
Столбов не нашёлся, что возразить и, немного потоптавшись, вышел из комнаты, злой и явно разочарованный. Гиля проводил его таким взглядом, который я прежде никогда не замечала у своего брата. “Урод!” – злобно прошептал он вслед Павлу Васильевичу.
– Что он сказал тебе? – спросил меня Гиля.
– Ничего. Звал помочь.
– Что он хотел?
– Я не знаю.
– Зато я знаю, – пробормотал Гиля. И, помолчав, добавил, – больше не ходи домой одна. Меня будешь ждать возле школы, вместе домой будем идти, поняла?
– Поняла, – ответила я.
К счастью, во всей этой истории мой брат разобрался лучше, чем я, которая в силу своего невежества и наивности лишь интуитивно смогла почувствовать смутную угрозу, исходящую от этого человека.
X. Уголь
Наступил 1943 год. Второго февраля пленением десятков тысяч вражеских солдат и офицеров, в том числе генерала Паулюса, завершилась Сталинградская битва, продолжавшаяся двести дней – с июля 1942 года. В это же время советские войска освободили Северный Кавказ.
Первые два года проведённые в эвакуации показались нам веком. В те месяцы, когда почти ежедневно нужно было выживать, борясь с голодом, лишениями, зимними морозами, при которых столбик термометра опускался иногда ниже сорока градусов, – в те дни время замедлило свой бег, бесконечная зима, казалось, никогда не закончится. Природа будто тоже вступила в войну.
После неприятного случая со Столбовым из школы мы с Гилей возвращались вместе. Если у одного из нас уроки заканчивались раньше, другой оставался ждать возле школы. И в магазин – отоваривать карточки, и по другим поручениям родителей мы ходили вместе. Гиля не оставлял меня одну, невольно сделавшись моим телохранителем. Но ни ему, ни мне это не было в тягость. Детская дружба с годами переросла в нежную и преданную братскую любовь.
Мой весёлый дружок и товарищ, с которым мы так часто носились по оврагам в родном Могилёве, хотя, случалось, и дрались, как все братья и сёстры с малой разницей в возрасте, мой любимый братик, которого я нередко поддерживала в его проделках, всегда довольная той ролью, которую он мне назначал, – Гиля никогда не давал мне скучать. Любая его затея казалась мне гениальной. Но это детство было украдено войной. Ворвавшись в нашу жизнь, она заставила мгновенно забыть о беспечных играх и повзрослеть раньше времени. Но всё то, что мы пережили: страх, опасность, голод, жизнь в доме у чужих людей, забота о младшем брате и друг о друге, все те трудности, которые легли на нас, с которыми мы должны были справляться вдвоём, без помощи родителей, работающих на заводе с утра до ночи, – всё это ещё сильнее сблизило нас с Гилей и укрепило нашу взаимную привязанность.
Из всех испытаний, выпавших на нашу долю в те годы, самыми тяжкими были зимние морозы. Чтобы хоть как-то согреться мы топили буржуйку, которую хозяева разрешили нам поставить в нашем углу. Печку топили углём, за которым один – два раза в месяц надо было идти на вокзал. За углём, как и по другим поручениям, тоже ходили мы с Гилей.
Взяв тележку, мы шли в другой конец города к вокзалу. Там, насыпав в неё несколько вёдер угля, мы тягали всё это через полгорода, от вокзала до дома. Гиля брался за ручки, я же толкала тележку сзади. Как нам, двум подросткам довольно хрупкого телосложения, хватало сил тянуть в такую даль эту доверху гружённую углём тележку, я до сих пор не могу понять. Мы делали то, что надо было, и это слово “надо” двигало нами, заставляя забыть и усталость, и голод, и делать то, что кроме нас сделать было больше некому. Выполняя свою долю работы, я старалась не отставать от брата, не жаловаться, как бы ни было тяжело. Но однажды, во время нашего очередного похода за углём, я не выдержала.
Мы прошли уже большую часть пути от вокзала, перешли мост и медленно брели по улицам идеально ровных кварталов островной части города. Толкать тележку становилось всё тяжелее. То ли груза в ней было больше, чем обычно, то ли у меня в тот день силы закончились раньше времени, но, вопреки данному себе самой обещанию не жаловаться и не показывать слабость, я не сдержалась и заплакала. Я старалась не всхлипывать, но слух брата не удалось обмануть. Он обернулся.
– Лиза, ты чего? – спросил он и, увидев слёзы, бросил тележку и подскочил ко мне. – Что? Что случилось? Ударилась? Поранилась? Где? Покажи! Больно?
– Да нет ничего! Я не ударилась.
– А что случилось?
– Не могу больше, – всхлипнула я, – сил нет.
– Что же ты молчишь? Сказала бы раньше! Ну, не плачь. Давай отдохнём… Вот скамейка, пошли, присядем.
Мы оттащили тележку с тротуара, чтобы она не загораживала дорогу, и присели на лавочку, на наше счастье стоявшую тут, возле изгороди.
На календаре давно уже была весна, стоял апрель, но было всё ещё холодно, градусов восемь-десять, что для такой мерзлячки, как я, было равносильно морозу. Несколько минут мы с Гилей просидели, молча обнявшись. Потрогав мои онемевшие пальцы, он сказал:
– Эх, ты, лягушка холодная! Весна на дворе, а ты мёрзнешь!
У меня даже не было сил улыбнуться его шутке. Помолчав, я сказала:
– Я домой хочу.
– И я хочу. А ещё так кушать хочется…
– Нет, ты не понял, я домой хочу, в Могилёв… Как ты думаешь, наш дом цел?
– Вряд ли, – лицо брата помрачнело, – хотя… может быть, какое-нибудь чудо. Может быть. Будем верить.
– Когда мы уже сможем туда вернуться? Скоро уже два года как мы здесь торчим. Сколько ещё нам тут быть?
– Дедушка Исаак сказал бы: “Только Богу это ведомо”, – грустно улыбнулся Гиля. – Пока война не закончится. В Могилёве сейчас немцы. Нам туда нельзя. Представляешь, что бы с нами было, останься мы там? Если бы мама тогда не потащила нас… сегодня нас, возможно, уже бы не было. А мы живы всем ветрам назло! И война, и голод, и эта тележка с углём, – всё это когда-нибудь закончится, и тогда мы сможем вернуться в Могилёв, окончим школу, поступим в институт, будем жить.
В последних словах брата мне послышались победные нотки, и уснувшая было надежда вновь яркой звёздочкой вспыхнула в сером апрельском небе, вернув терпение и придав силы для продолжения борьбы.
XI.“Сына не отдам!”
Новости с фронтов перестали быть столь удручающими, как в самом начале войны, и наряду с тяжёлыми потерями сообщалось об освобождённых от фашистов городах. Летом 1943 года в тяжелейших сражениях на Курской дуге Красная Армия одержала победу. В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве был произведён первый артиллерийский салют. Взятием Харькова завершилась 50-дневная Курская битва. Советские войска подошли к Днепру. Гитлер заявил: “Скорее Днепр потечёт обратно, нежели русские преодолеют его”. Но в сентябре части Красной Армии форсировали Днепр, и началось освобождение территории Белоруссии от немецкой оккупации. Неудивительно, что теперь мы с ещё большим волнением слушали новостные сводки и ещё больше, чем прежде радовались известиям о каждом километре отвоёванной земли… Костюковичи, Климовичи, Кричев, Дрибин, Гомель… Придёт и наш черёд.
В эти дни я всё чаще вспоминала, как однажды, ещё в начале 42-го, я случайно услышала слова учительницы истории. Поднимаясь по лестнице, я столкнулась с Викторией Владимировной, которая в разговоре с коллегой обронила следующую фразу: “Гитлер пошёл против евреев, – он проиграет”.
Родители по-прежнему целыми днями с утра до вечера работали на заводе без выходных и отпусков, как и миллионы советских граждан, трудящихся в эти годы в тылу. Мы их почти не видели. Особенно страдал от этого маленький Алик – брат и сестра, как ни старались, не могли заменить ему маму с папой. Он часто оставался один, привык сам себя развлекать и играть в одиночестве. Возможно, поэтому он рос тихим, замкнутым и скрытным ребёнком. Приходя с детского сада, он обычно садился в уголке и начинал играть в какие-то только ему известные игры. Ему частенько приходилось оставаться одному дома, потому что мы с Гилей, уходя, не могли брать его с собой. В такие дни, возвращаясь, мы нередко находили его сидящим с Любовью Николаевной: она поила его чаем с печеньем. Нам было неудобно, мы начинали извиняться за причинённое беспокойство, на что хозяйка обычно отвечала:
– Ну, какое беспокойство? Разве ваш братик может кому-то помешать?
Любовь Николаевна Столбова была высокая, полноватая, интересная женщина лет тридцати пяти – тридцати семи. При первой встрече она показалась нам слегка надменной, но мы её не осуждали, – не каждый человек способен радоваться непрошеным гостям. Позже эта надменность прошла, и наши отношения с хозяйкой стали вполне терпимыми. Мы, как могли, старались ни в чём не мешать хозяевам, и даже несколько раз слышали от Любови Николаевны, что ей повезло с поселенцами. Она работала в каком-то магазине, кажется, там же, где и муж. Чета Столбовых, судя по всему, жила неплохо и, если бы не война, жила бы ещё лучше. Лишь одно обстоятельство огорчало жену и омрачало отношения супругов – отсутствие детей. Обо всём об этом однажды поведала маме сама Любовь Николаевна.
Как-то вечером наша хозяйка пригласила маму к себе на кухню и, угостив чаем, завела с ней разговор.
– Лена, мы с вами уже два года как под одной крышей живём, – начала Любовь Николаевна, – и хотя вы ничего о себе не рассказываете, мне кажется, ваша жизнь была интересной.
– Ничего интересного, – ответила мама.
– Что-то не верится, – сказала Любовь Николаевна. – В вас какая-то загадка. Скажите, где вы научились со всеми ладить? Как вам это удаётся? Может, что-то в вашем прошлом было такое необычное?
– Нет, – улыбнувшись, ответила мама, – я просто не умею ругаться.
– Да, это видно! Я вот тоже не очень большая охотница спорить. Так… только если уж очень доведут. Но при моей работе, знаете, одни нервы. Но зато обеспеченность. Меня Павел Васильевич туда устроил, когда мы с ним поженились. До этого я официанткой работала в столовой – тоже, знаете, не сахар. Там мы с мужем и познакомились. Он хорошую должность имел, перспективный, ухаживал… ну, я и пошла за него. Вот уже десять лет как живём. Только вот детей не нажили. У Павла Васильевича есть дочка от первого брака, но он всегда о сыне мечтал, а я вот не могу…
Мама была слегка удивлена таким приступом откровенности, но никак не могла прервать эту странную исповедь.
– У вас такая хорошая семья, – продолжала Любовь Николаевна, – дети такие хорошие, послушные, воспитанные. Но, наверно, иногда трудно бывает?
– Нет, мне дети очень помогают, – ответила мама.
– Да, ваши старшие молодцы! Но всё-таки, Лена, мы же видим, как вам тяжело. В теперешнее время прокормить семью, где трое детей – это не просто.
– Все так живут. Все понимают, что война закончится и всё станет на свои места.
– Ну, когда ещё она закончится, не известно… Лена, послушайте меня, – Любовь Николаевна взглянула маме в глаза, – мы тут решили с Павлом Васильевичем… У вас трое детей и вам тяжело, что бы вы не говорили…
– Вы хотите, чтобы мы ушли? – упавшим голосом спросила мама.
– Да, нет, что вы? Зачем? Во-первых, был приказ о вашем подселении. А во-вторых вы, как жильцы мне не мешаете… Я не об этом. Дело в том, что… я хотела сказать вам, я хотела предложить… – хозяйка замялась.
– Что вы хотели предложить?
– Отдайте нам Алика!
– Как отдать? – не поняла мама.
– Отдайте насовсем! Мы его усыновим, он нам будет, как родной, у него всё будет…
– Любовь Николаевна!
– Ну, вы же еле сводите концы с концами! Вам есть нечего, он совсем не растёт у вас! У нас ему лучше будет! А вам меньше ртов кормить…
Мама поднялась и, не глядя в глаза Столбовой, тихо, но твёрдо сказала:
– Даже если буду с голоду помирать, я сына не отдам!
XII. Алик
В 1943 году Гиля окончил девятый класс и поступил в Ленинградское высшее авиационное училище, которое, как и многие другие учебные заведения и предприятия, было эвакуировано. В это училище принимали толковых ребят, прошедших экзамены, уже после восьмого класса, – стране нужны были специалисты. Гилю же взяли в училище без экзаменов, только на основании отличной успеваемости в школе – трудностей в учёбе для него словно не существовало. После занятий он подрабатывал грузчиком на вокзале. Дома мы его теперь мало видели. В том же году Алик пошёл в первый класс.
Мама ушла с завода и устроилась работать в подсобном хозяйстве того же авиационного училища. Там выращивали овощи, и мама, уходя домой, брала с собой маленький кочан капусты, каждый день рискуя жизнью, чтобы нас накормить. За кочан капусты можно было получить очень серьёзный срок. Те, кто это видел, отворачивались, делая вид, что ничего не замечают, и также рисковали, потому что за недонесение тоже могли поплатиться. Но в мире всегда наряду с подлостью и жестокостью встречаются и сострадание с милосердием. Эти люди знали, что кочан капусты спасал от голода троих детей, и совесть заставляла их идти на должностное преступление и рисковать ради чужих жизней.
После того разговора с хозяйкой маме тяжело и неловко было встречаться с ней взглядом, хотя Любовь Николаевна старалась скрыть своё разочарование.
Надо сказать, что Столбовы, вопреки нашим опасениям, с самого начала отнеслись к нашему присутствию в доме с пониманием. Не выказывая особого удовольствия от нашего общества, они, однако, не проявляли и неприязни по отношению к нам. Мы слышали разные истории от людей, оказавшихся в том же положении, что и мы, – Троицк, как и вся Челябинская область, были переполнены эвакуированными. Отношение к ним местного населения было очень разным: от тёплого, дружеского, почти родственного приёма и искреннего стремления помочь и поддержать, до полного равнодушия к чужой беде и нежелания понять ситуацию и даже проявлений враждебности по отношению к людям, бежавшим от смерти в надежде найти приют и понимание среди своих. Рассказывали о случаях нешуточных столкновений местных жителей с беженцами, когда дело доходило до вмешательства милиции. И хотя такие случаи были нередки, в них всё равно не хотелось верить. Помню, как мама говорила по этому поводу: “Неужели возможно такое?! Чтобы советские граждане так поступали друг с другом!” В возможности и реальности таких поступков ей пришлось убедиться самым страшным образом.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Барух аШем – слава богу. Дословно: благословенно Имя (иврит).
2
Слова из Свитка Эстер, который евреи читают в Пурим.

