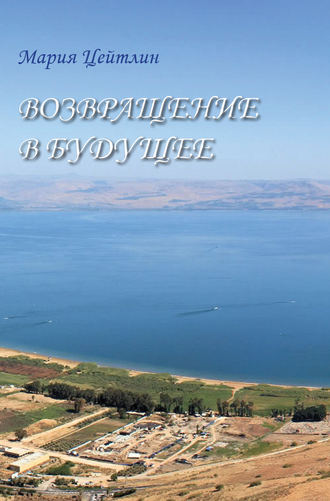
Полная версия
Возвращение в будущее
XVII. Воры
Мама верила в сны, в предчувствия и предзнаменования. При этом свои сны она истолковывала буквально и если видела плохой сон, так и говорила: “Дурной сон приснился”. Она не умела дать хорошее толкование плохому сну, как учит еврейская традиция. Помню, однажды я случайно подслушала её разговор с дедушкой. Она, видимо, рассказала ему свой сон и, как видно, не очень приятный, поскольку была огорчена и встревожена и говорила почти шёпотом, а дедушка нахмурился и сказал:
– Нельзя так, Ента. Нельзя плохое говорить! Запомни, что бы ни приснилось, какой бы плохой сон не был, всегда надо придумать ему хорошее объяснение, потому что сон сбывается так, как ты его истолкуешь. Так говорит наша еврейская традиция.
Но у мамы никак не получалось следовать этому правилу. Из “плохого” сделать “хорошее” она не могла. И от тревоги своей тоже не могла избавиться. Возможно, я не запомнила бы этот случай, если бы не событие, вскоре последовавшее за ним: старший сын тёти Ханы, Сёма, разбился, упав с лестницы, получил сотрясение мозга, которое перешло в воспаление. Ему сделали операцию в Москве, но спасти его не удалось… Что сделалось тогда с мамой! Мы думали, она не переживёт смерти племянника…
Однажды утром в начале весны 1941 года мама проснулась с болью в груди.
– Что, что, Леночка? Что с тобой? – забеспокоился папа.
– Плохой сон приснился, – ответила мама, – что-то не хорошо мне. Я видела наш дом в огне… мы бежим, и люди вокруг бегут… и улицы горят.
– Ну, мало ли что может присниться! Не обращай внимания! Это всего лишь сон, – пытался её успокоить папа. Но мама смотрела остановившимся взглядом мимо него; в глазах у неё застыл страх.
После завтрака в привычных домашних хлопотах мама позабыла о сне, взволновавшем её, и о своём беспокойстве.
Придя из школы, я увидела, что мама с Сарой что-то оживлённо обсуждают, а из кухни доносится аппетитнейший запах пирога.
– У нас будет пирог на обед? – спросила я весело.
– Нет, не на обед, а на ужин, – ответила мама. – Сегодня к дяде Айзеку сестра придёт.
– Ура! У нас будут гости!
У Айзека Сидаревского было два брата и две сестры. Одну сестру, Хасю, мы знали, она жила по соседству. Вторая – Соня – жила на Луполово, работала бухгалтером на заводе. Братья жили в Бобруйске, мы с ними не были знакомы, но Айзек много о них рассказывал, очень сокрушался, что они живут в разных городах. Когда он говорил об этом, мне было его жалко. Мой детский ум вообще не мог представить, как могут родственники, да ещё такие близкие, жить в разных городах так далеко друг от друга? Разве так можно? Не иметь возможности встречаться, когда захочется, быть лишёнными радости видеть друг друга так часто, как сердце пожелает! Не радоваться вместе праздникам, не противостоять вместе невзгодам? Как же так можно? Разве не должны члены одной семьи держаться друг друга? Помочь, поддержать, когда нужно? Жить в десятках километров друг от друга – это ужасно!.. Мне не дано было знать тогда, что членов моей семьи судьба разведёт не по разным городам, и даже странам, а по разным континентам, и разлука их будет длиться долгие годы…
Но, к счастью, тогда я об этом не знала, и вечер прошёл замечательно. Айзек познакомил нас с сестрой Соней. Она оказалась умной, весёлой, приятной молодой женщиной и мы прекрасно провели время в обществе наших дорогих соседей. Допоздна сидели, говорили о жизни, шутили, Айзек рассказывал разные истории. Спать ложиться не спешили – ведь завтра воскресенье. Разошлись далеко за полночь.
На рассвете маму разбудил какой-то щелчок. “Наверно, у соседей,” – подумала мама сквозь сон. Но через мгновенье совсем близко, будто у самого изголовья кровати, мама услышала скрип открывающегося окна и чей-то приглушённый шёпот. Сон мгновенно бежал от неё.
Наш дом стоял на возвышенности, на небольшом холме, который спускался к речке. Окна фасада, выходящие на улицу, были гораздо ближе к земле, чем окна задней части дома, обращённой к Дубровенке; там была комната Сидаревских. А окна родительской спальни выходили на Вербовую. Кровать стояла неподалёку от окна. Прислушиваясь к встревожившим её странным звукам, мама приподнялась на кровати, устремив взгляд на окно. Между задёрнутых занавесок просунулась мужская рука, а за ней и голова.
Мама хотела закричать, но вместо крика у неё вышло еле слышное: “A-а!” Папа проснулся и, увидя жену, сидящую на кровати, с расширенными от ужаса глазами издающую непонятные звуки, решил, что ей плохо и, испугавшись за неё, пытался её успокоить:
– Что, Леночка? Что с тобой?
– А… а… – мама протягивает руку в сторону окна, пытаясь ему объяснить, но папа не понимает, что она хочет сказать ему и не сводит с неё глаз.
– Тебе плохо? Что, Леночка, сердце? Что?
Поднятая мамой тревога всё-таки спугнула воров: дальше они не полезли, но просунувшаяся в окно рука успела схватить одно из двух покрывал, лежащих на подоконнике, тех самых покрывал, которыми наша мама так бережно и с таким искусством застилала кровати.
– Там… воры! – наконец смогла она выговорить.
– Где?! – папа вскочил, кинулся к окну и лишь успел увидеть, как они скрылись за углом. Он выбежал из комнаты, крича: “Айзек! Воры!!” Проснулись Сидаревские. Быстро сообразив, в чём дело, сосед схватил охотничье ружьё и, выскочив на крыльцо, не глядя, сделал два выстрела в воздух. Но воров и след простыл.
Перепуганные Сара с Соней выбежали в переднюю; узнав о том, что случилось, побежали к маме. Потом на всякий случай обошли дом, папа с Айзеком спустились в подвал, проверили там все закоулки, что было не просто, потому что в нашем подвале можно было запросто спрятаться, мы, дети, это хорошо знали и не раз там играли в прятки. К счастью, ни в подвале, ни в комнатах не нашлось ничего подозрительного. Никаких следов. Единственное, что пострадало – это мамино любимое покрывало…
На следующее утро, когда мама пошла за водой, возле колодца она встретила Степаниху. Та посмотрела на неё как-то странно. Мама подумала: “У меня, наверно, на лбу написано о том, что случилось”.
– Эх, Леночка, а вы ведь избежали большой беды, – сочувственно сказала Степаниха.
– Какой беды? – переспросила мама.
– Да вас же хотели убить. Они шли, чтобы вас убить. Думали, у бухгалтерши, у сестры Айзека, деньги с собой. Хотели поживиться, а потом свидетелей убрать.
– Откуда ты знаешь?
– Слухами земля полнится, – ответила Степаниха, – ты уж мне поверь. Слава богу, что так обошлось! И, глянь, надо же, как задумали! Со стороны Сидаревских не полезли, знали, видимо, что ружьё у него. Да и высоко с их стороны. Решили, что вас проще будет… – и, видя, что мама побледнела, поскорее добавила – забудь, забудь, Леночка! Вас Бог спас.
А мама шла домой и думала: “Дай Бог, чтобы этим всё закончилось, чтобы воры и были той бедой, которую пророчил мой сон”.
XVIII. На озере
История с ворами постепенно забылась. Мамина тревога немного улеглась, усыплённая мирным течением времени. А между тем пролетела весна. В мае 1941-го года я окончила пятый класс с отличием и, как всегда, с похвальной грамотой. Гиля, разумеется, тоже порадовал маму таким же листом с портретами Ленина и Сталина. С каким нетерпением мы ждали окончания учебного года! На предстоящее лето у нас было много планов. Папа обещал научить меня плавать, а тётя Гитл ждала в июле нас троих – Гилю, меня и Алика – у себя в Быхове. Мы целый месяц должны были жить у неё.
И вот наконец-то оно наступило, это всеми красками сияющее долгожданное лето. Целыми днями мы бегали по оврагам, наслаждаясь обретённой свободой. А в редкие папины выходные мы отправлялись в парк на карусели или просто гуляли в центре города и были безумно счастливы, как можно быть счастливыми только в детстве.
Любимым местом отдыха могилевчан был парк им. Горького. Красивый зелёный парк на правом берегу Днепра, располагался на валу между Советской площадью и Быховским рынком. Весь город собирался там. Каштановые аллеи при входе вели к памятнику Горькому. Цветущие каштаны – это сказочное зрелище! В пору цветения люди под ними фотографировались. Справа от входа был летний театр, где всегда был аншлаг. В парке играл оркестр, звучала музыка. Отдыхающие сидели на скамейках и слушали. А потом начинались танцы. Большая танцевальная площадка манила и взрослых, и детей, и молодых, и пожилых. Люди танцевали и под оркестр, и под патефон. Рядом был летний ресторан. И там же была смотровая площадка, откуда открывался чудесный вид на Днепр, сверкающий в долине, окружённой высоченной стеной деревьев. С этой площадки, находящейся на возвышении, можно было любоваться плывущими по реке пароходами.
Другим излюбленным местом народных гуляний была улица Первомайская – одна из центральных улиц Могилёва. Она проходила через всю правобережную часть города от Советской площади до лесного массива на окраине. На Первомайской проходили народные гуляния. Иногда по воскресным дням мы отправлялись туда с папой есть мороженое.
С середины мая уже можно было купаться в Днепре. Горожане пользовались этой возможностью и каждый погожий денёк проводили у воды: загорали и плавали. Нам до Днепра было далековато, и потом, как говорил Гиля: “Зачем нам Днепр, когда у нас под окном свой “Днепр” есть”, имея в виду Дубровенку. Он мог целыми днями плескаться в речке.
Чуть севернее нашей улицы, выше по течению, река Дубровенка гораздо шире той части, что катит свои воды вдоль Вербовой улицы и дальше в Днепр. Этот широкий – до 150-ти метров – отрезок реки мы называли озером. Вот на это самое “озеро” мы иногда ходили с мамой, но чаще с папой. Там он учил нас плавать.
Как-то мама, поддавшись нашим уговорам, пошла с нами на озеро. Надо сказать, что уговаривать её на этот раз пришлось долго. С самого утра у неё не было настроения – оно было подпорчено плохим сном, тем самым, который уже однажды снился ей накануне того дня, когда к нам полезли воры. Нечего и говорить о том, как она была встревожена.
– Возле воды настроение поднимется, – уговаривал её Гиля.
– И все дурные мысли волны унесут, – добавила я.
– Верно! И дедушка так говорит.
– Лучше завтра сходим все вместе с папой.
– А вдруг завтра не сможем? – не унимался Гиля. – И потом, ведь папа обещал достать вам билеты в театр, тогда будет уже не до озера.
В конце концов, мама сдалась. Взяв с собой кое-что из еды, мы все отправились на озеро. Алик, которому тогда минуло пять лет, шагал, держа за руки меня и маму, и был беспредельно счастлив. Всю дорогу до озера он болтал о чём-то, не давая маме погружаться в свои мысли. Наше с Гилей предположение сбылось: у воды мамина тревога рассеялась, настроение заметно поднялось. Мы устроились на траве, и с аппетитом съели принесённые пирожки с капустой. Гиля побежал плескаться в речку, Алик – за ним, а я пошла искать в траве “гармошки”, чтобы сплести из них бусы… Некоторое время спустя мы увидели папу, идущего к нам с неизменной коробкой пирожных в руках. Придя домой и увидев, что нас нет, папа не захотел, по его словам, сидеть одному с пирожными и отправился за нами на озеро.
Лёжа на траве возле тихо беседующих папы с мамой, глядя на братьев, весело плескающихся у берега, я думала: “Как жалко, что мы так редко гуляем все вместе, надо бы в следующее воскресенье снова уговорить маму с папой прийти сюда”. Тихая живописная долина Дубровенки, окаймлённая столетними дубами, которые и дали название речке, была в моём представлении райским уголком. Отдельно стоящие дубы своей тяжёлой кроной заменяли беседки, распространяя вокруг себя тень и прохладу. Я лежала, глядя в голубое небо, такое чистое, ясное, безоблачное, вдыхала чудесный аромат дубравы и думала: “Нигде в мире нет такой красоты! Я никогда не покину это место. Когда я буду совсем старая, я приду сюда со своими внуками и расскажу им об этом счастливом дне…” Мои мысли были прерваны возгласом папы:
– Всё, дети, сматываем удочки! Поздно уже.
Начинало смеркаться. Бледная луна появилась на небе, а рядом с ней первая звезда. День закончился. Мама под руку с Гилей, я с папой, Алик, задремавший на папином плече – мы возвращались домой в поздних июньских сумерках, строя планы на завтра. Уже у дома папа воскликнул:
– А! Леночка, я же совсем забыл! Я достал на завтра билеты в театр на “Кровавую шутку”. Вот, смотри!
Мама обрадовалась: Шолом Алейхем был её любимым писателем, она им зачитывалась.
А на билете стояла дата – 22 июня.
Часть II
Война (1941–1945)
I. 22 июня
Воскресному утру 22 июня 1941 года суждено было стать чёрным днём в календаре всех граждан нашей тогда ещё необъятной страны. Обычное летнее утро обернулось кошмаром, перевернуло жизнь миллионов людей.
Сразу после завтрака я убежала к Ите. Дома были только она и Галя. Давид Ааронович и Цива Меировна ушли на рынок, Меир ночевал у друзей. Вчера мы с Итой кое-что задумали и сегодня решили это исполнить.
– Принесла? – спросила Ита.
– Да. А ты приготовила?
– Да, вот, – показала она небольшой свёрток, – пошли!
Когда мы с ней выходили из дома, я увидела краем глаза почтальона, вручающего Гале конверт, и до меня донеслось слово “повестка”, но мне и в голову не пришло придать этому значение. Мы с Итой отправились по берегу Дубровенки в сторону “нашего оврага”. Это был неглубокий овраг, скорее похожий на большую, длинную яму под дубом. Забравшись туда, каждая из нас достала то, что принесла с собой. Ита вынула из свёртка маленькую жестяную коробочку, а я сложила туда кое-какие детские безделушки. Затем, вырыв ямку, мы положили туда наш “клад”.
– Когда-нибудь мы придём сюда, откопаем её и вспомним наше детство, – сказала я.
– Да. Только сделаем это непременно вместе, – добавила Ита.
Мы не заметили, как пролетело время. Было уже, должно быть, около полудня.
– Пойду я, – сказала Ита. – Родители, наверно уже вернулись, мама будет меня искать.
– Подожди, – остановила я её, – мама что-то хотела передать тёте Циве, просила, чтобы ты зашла к нам.
– Ну, пошли.
Мы спустились к речке, перешли мост, поднялись по холму к нашему дому. Нечто странное происходило на Вербовой улице. Толпа людей собралась возле репродуктора. В зловещей тишине громко, отчётливо звучали слова:
“…германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке…”
Послышался женский плач. Мы с Итой переглянулись. Страшный смысл происходящего сразу дошёл до сознания, и в эту минуту мы поняли: наше детство кончилось.
“…Налёты вражеских самолётов и артиллерийский обстрел были совершены…” – продолжал звучать голос…
– Мне надо домой! – и, порывисто обняв меня, Ита побежала вниз к реке. Больше я её не видела.
Забежав домой, я увидела всех наших собравшихся возле радиоприёмника. Женщины тихо плакали. Мужчины серьёзным озабоченным взглядом смотрели в пустоту. Дети притихли, поняв, что происходит что-то важное и нехорошее.
“…Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключён договор о ненападении…”
– Гиля, – тихо позвала я.
– Война, – отозвался брат.
Я посмотрела на него и увидела, как он изменился. Мой старший брат, порой шаловливый, озорной, всегда такой весёлый, насмешливый, неунывающий, стал вдруг серьёзным, задумчивым и сейчас ещё больше был похож на папу. Он словно в одночасье повзрослел. Детство закончилось в один миг: война положила ему конец. Я почувствовала безумный страх за него. “А вдруг его заберут на фронт? Да нет же, нет! Конечно, не заберут, ему ведь только пятнадцать! А вот Меира заберут, ему уже исполнилось девятнадцать…” По радио продолжал звучать голос Молотова, призывая народ сплотиться и дать отпор врагу:
“…Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу… Враг будет разбит. Победа будет за нами”.
Ни у кого не было и тени сомнения в этом. Но до тех пор, пока враг не будет разбит? В глазах у каждого стоял немой вопрос: “Что нас ждёт?”
Утром следующего дня мы провожали на фронт Айзека Сидаревского. Все плакали, обнимали его, наказывали беречь себя и непременно вернуться живым! Сара, рыдая, долго не могла отпустить его. Никакими словами не описать эту картину боли, страха, горя, любви. Сердце жены чувствовало, что больше она его не увидит. “Береги себя и детей”, – сказал он ей и вышел. Он не хотел, чтобы его провожали, и простился со всеми дома.
Так уходил на фронт не только Айзек Сидаревский. Так уходили мужчины почти из каждого дома на нашей улице, и с других улиц, и городов, и деревень всей нашей страны. Уходили молодые, красивые, здоровые, сильные, оставляя свои дома и семьи, уходили, чтобы, возможно, уже не вернуться. Мы смотрели, как идут на фронт соседи, знакомые, как их со слезами провожают матери и жёны. Хаим, сын тёти Гиси, был призван в десант. Также получил повестку Боря, сын тёти Ханы. К счастью, нашей маме не пришлось провожать на фронт ни мужа, ни сына. Папа по документам был старше призывного возраста; то, что в Гражданскую войну позволило ему пойти на фронт, сейчас дало возможность избежать призыва. Он был призван в войска тыла.
А через три дня нас начали бомбить.
II. Сон в руку
Уже на четвёртый день войны – 26 июня – немцы бомбили Могилёв.
С той самой минуты, как объявили о вторжении германских войск и начале войны, радио у нас не выключалось, мама прислушивалась к каждому звуку, в тревоге ожидая новостей. Нас она от себя не отпускала, и очень боялась за папу – он служил в МПВО.
Двадцать шестого июня по радио передали, что на Могилёв движутся немецкие самолёты и людям центра города надлежит бежать прятаться в большой овраг.
На сборы у нас оставались считанные минуты. Мама схватила документы из шкатулки и какие-то бумаги, пару красивых отрезов, что попались ей под руку, завязала в узелок, вручила его Гиле, взяла на руки Алика, и мы выбежали из дома. Мама впереди, мы с Гилей за ней. На улице я обернулась и взглянула на дом. “А вдруг я больше никогда не увижу его?” – подумалось мне. Как странно, иногда молнией мелькнувшая мысль оказывается пророческой! Доля секунды, и я снова бегу, увлекаемая братом, который крепко держит меня за руку. Соседи с Вербовой и с примыкающих улиц, как и мы, бежали в укрытие. Уже ясно слышался в небе рёв самолётов.
Люди бежали вниз, к оврагу, куда было велено. Каким-то чудом папа нагнал нас и в овраг мы уже прыгали все вместе. Оглушительный рёв мотора раздался прямо над нашими головами. Мы едва успели упасть на землю. Из всех нас один Алик, упав навзничь, оказался лицом к небу. Детские глаза видели чёрный самолёт, несущий смерть…
Раздался взрыв, страшной силы оглушительный грохот. Земля задрожала. Нам показалось, что мы уже лежим на дне могилы, и края оврага смыкаются над нами. Одна большая братская могила, вырытая природой и засыпанная вражеской бомбой. Я тихо заплакала и вдруг почувствовала руку брата на своём плече.
– Мы живы, Лизка, ты чего? – услышала я.
В самом деле, мы были живы. Подняв голову, я увидела, что люди на дне оврага так и лежат, как упали, потихоньку поднимаются с земли, все целы и невредимы. Где же был взрыв?
По счастливой случайности, бомба, предназначенная для оврага, где прятались люди, упала на гору и, попав в дом, разнесла его в щепки. Мы увидели пламя огня над нашей улицей. Понять, где именно горели дома, было невозможно. Папа побежал посмотреть, что случилось. Мама попыталась было его остановить.
– Я должен, Лена! Я должен! – крикнул он и побежал наверх.
Вокруг слышался плач и стоны женщин. Люди, что были в овраге, не знали, куда бежать, многие боялись возвращаться в свои дома, не зная, что их там ждёт. Другие, напротив, бежали прочь. Где ещё упали бомбы, мы не знали.
Мы так и остались в овраге в растерянности, не зная, куда идти и что делать. Вернуться домой не решались. Увидеть, во что превратилась наша улица – тоже не могли отважиться. Так и сидели, прижавшись друг к другу и пытаясь осмыслить то, что произошло… Наконец, мы увидели папу: он спускался с холма. Вернувшись, он сообщил, что наш дом, слава Богу, цел. Но наверху, возле синагоги, дом, где жила русская семья, разрушен, горят ближние улицы. Мама вспомнила свой сон и предчувствия последних дней… Немного опомнившись и придя в себя, она приняла решение.
– Нельзя здесь оставаться, Абраша. Пойдём к отцу! – сказала она папе. – Там решим, что делать.
Папе ничего не оставалось, кроме как согласиться. Домой, на Вербовую, мы уже не вернулись. Прямо из оврага, в обход, с тем жалким узелком, который мама успела собрать в последние минуты перед бегством, мы отправились к дедушке в Сельцы, не подумав в панике, что идём прямо в сторону фронта.
III. К дедушке
Сельцы расположены в десяти километрах к юго-западу от Могилёва по обеим сторонам трассы Могилёв-Бобруйск. Своё название местечко получило от слова “селение”. Вся его земля входила в состав колхоза имени Ворошилова. Подавляющее население местечка было еврейским, занималось земледелием, а также промыслами, в основном извозом.
Мы отправились в Сельцы пешком, по шоссе от центра города. Проходя мимо любимого парка на валу, вспомнили, что всего несколько дней назад были здесь, слушали музыку, стоя наверху на смотровой площадке, любовались красотой Днепра и этим зелёным морем старых высоченных деревьев с пышными раскидистыми кронами… Всего несколько дней назад были мир, покой, радость, безоблачное счастье. А сегодня мы бежим, покинув свой дом, растерянные, напуганные, не зная, что нас ждёт в пути…
За парком по обе стороны шоссе расположены жилые районы, потом начинаются территории заводов одного, другого, третьего… Дальше, за городом, поля по обе стороны шоссе. После – посёлок Буйничи на пути, дальше полкилометра дороги проходит возле леса, и за ним Сельцы. Все десять километров пути наш маленький братик, конечно, не мог пройти сам; то маме, то папе приходилось нести его на руках.
Собравшись к дедушке, мы даже не подумали прежде заглянуть домой, взять хоть какие-то вещи. Лёгкая одежда, которая была на нас в минуту бегства в овраг, уже не защищала от прохладного ветра, так как дело было к вечеру. Мы шли, плохо понимая, что делаем, думая лишь о том, что чудом избежали смерти, что мы вместе, целы и невредимы. Вновь и вновь нам слышался рёв самолёта и страшный взрыв, унесший жизнь целой семьи. Мы боялись повторной бомбёжки, особенно страшно было идти почти два километра через поля, где ни укрыться, ни спрятаться. Но всё было тихо. Десять километров мы отшагали без приключений. К вечеру добрели до Сельцов.
Увидев нас, дедушка обрадовался, кинулся всех обнимать:
– Живы! Барух аШем, живы! Молодцы, что пришли! Что с нами было, когда мы узнали, что Могилёв бомбили! Если бы вы не пришли, я бы завтра сам к вам отправился! А как Гися? Хана? Дети? Где они? Что с ними? Их не было с вами? Вы их не видели?
– Не знаю, папа, ничего не знаю. Нам сообщили, что летят самолёты и надо бежать в большой овраг. Мы побежали. Едва успели лечь на землю, полетели бомбы. Прямо над нашими головами самолёт пролетел. В овраге столько людей было! Они, видимо, туда хотели бомбу сбросить, не рассчитали, и она чуть в сторону попала, в дом на нашей улице. Дом возле синагоги. Я знаю эту семью… Сгорели в огне… Нам с оврага было видно пламя. На долю секунды раньше упади эта бомба, нас бы уже не было. Столько людей погибло бы!
– А ваш дом? – спросила тётя Зелда, – ваш дом цел?
– Наш цел, – ответил папа. – Пока цел.
– Не думай о плохом!
– Ладно, – сказал дедушка, – успеем ещё обо всём подумать. Надо вас пока разместить. Зелда, что у нас с постелью? Найдётся для всех?
Зелда пожала плечами. Лишней постели на пять человек у неё не было.
– Придумаем что-нибудь, – сказала она. – Как же вы так ничего с собой не взяли?
– Не до того было. Взяла, что успела, вот… – мама развязала узелок и стала доставать нехитрые пожитки, которые в спешке успела схватить. В узелке оказались два красивых отреза из тех запасов, что хранились у мамы, по одной смене белья каждому, документы и… грамоты мои и Гилины. Те самые почётные грамоты с портретами Ленина и Сталина, что мы с братом исправно получали каждый год, грамоты, которыми наша мама так гордилась, и которые так бережно хранила в своей шкатулке.
– А это что такое? – удивлённо спросил дедушка, указывая на грамоты. – Это вместо одежды, вещей необходимых, ты спасала бумажки?
Мама посмотрела на дедушку так, будто он сказал нечто кощунственное. Крайне удивлённая и поражённая его словами, она воскликнула:
– А что я должна была делать? Оставить их дома? Чтобы фашистам достались портреты Ленина и Сталина?!
Что можно было возразить на эти слова, полные слепой, беззаветной веры? Дедушка даже не попытался.

