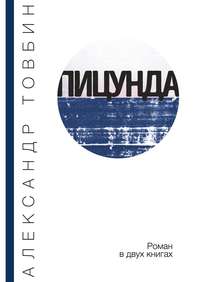Полная версия
Германтов и унижение Палладио
Липа молчал, критика Анюты доставляла ему острое удовольствие.
– Не надоело ли тебе и сподвижникам-приспешникам твоим, записным и прогрессивным умникам-разумникам, дурака валять?
Липа молчал, внимал…
– Умри, а лучше, чем промолчать в знак согласия со мной, ты всё равно не скажешь. Но ты не бойся, пока я только зубы показываю и загрызать тебя не готова, и нет у меня секиры, я не буду отсекать твою повинную голову – лучше изменить её содержимое, если есть оно, понимаешь?
Липа молчал.
А Анюта с укоризной вздыхала.
– Милые вы мои пифагорейцы, где ваших умов палаты? И хотя я забросала уже камнями ваш математический огород, числовая одержимость ваша не может не внушать трепет. Я, трепеща, сама с собой спорю, однако повторю всё же сказанное мной ранее, повторю кратко, в специальном переводе на школьный язык: не смею поучать, мне неловко злоупотреблять нотациями, но неужели некому, кроме меня, вправить ваши скучные математические мозги… à la lettre, да-да, дословно: вправить! Или вы всё ещё без посторонней помощи надеетесь выкрутиться из вопиющих противоречий, которые сами же на свою и общую нашу беду навалили поверх точных своих расчётов? А может, хуже того, ибо нет ничего хуже позора – поманили иллюзиями, теперь готовитесь умыть руки? – И опять вздыхала. – Пока ещё я тьфу-тьфу, но не доводите меня до белого каления, а то искры из глаз посыплются, и я, огнедышащая, за свои слова не смогу ответить, – строго на Липу поглядывала, как если бы именно он стоял во главе сомнительного космического предприятия и нёс полную ответственность за все-все его, предприятия того, планы и начинания.
– Не хочу палки вставлять в колёса ваших идей, не хочу и заранее, до того, как идеи ваши потерпят крах, потирать руки от удовольствия…
Очки у Липы слепяще блестели.
– Да, мёртвых на земле много больше уже, чем живых, с этим, учитывая, что и я, неверующая, вскоре присоединюсь к подземному большинству, надеясь всё же с мамой и папой свидеться, надо бы, действительно, что-то делать, но – без сногсшибательных глупостей, понимаешь? Ты бы знал, как мне не хочется бить лежачего, но терпение моё на пределе, объявить мне вскоре придётся во всеуслышание, что табачок – врозь. Ручаюсь, не поладим мы, не поладим, вы явно переусердствовали. Считали-высчитывали с высунутыми от натуги умственной языками, переписывали начисто и печатями скрепляли свои расчёты, пока не убедились, что дважды два четыре? Или – признайтесь! – ещё так и не убедились?
Пассаж про «дважды два четыре» – в разных вариациях – не раз повторяла.
– Я не взялась бы птицу учить летать, а рыбу – плавать, но математики – особые, трудно обучаемые таблице умножения существа. С присущим мне чувством такта напомню тебе, что притязания высшей математики на всевластие не грех поверять азбучно-арифметическим здравым смыслом.
Липа – удовольствие плавно переходило в наслаждение – смешно водил по сторонам очками, как филин.
– Или вам, новоявленным сынам бури и натиска, отчаянным и неудержимым, слов нет, но, прошу прощения за прямоту – недалёким, лишь бы послать сигнал во вселенскую пустоту, отрапортовать богу или чёрту, что свой абстрактный сигнал послали, а там – трава не расти?
Подняла глаза и как бы мысленно погрозила пальчиком.
– Хорошо, конечно, если денег у них там, у Христа ли за пазухой, у чёрта на куличках, куры не клюют и, повторюсь, с распростёртыми объятиями они закутанных в рвано-истлевший саван земных колонистов щедро готовы встретить. А если всё не так, если у них, на другой планете, нищета нищетой и в карманах дырки, да ещё эпидемия какая-нибудь свирепствует и сами они мрут, как мухи? Что ответишь? Да, мишень давно мною пробита, но я ведь ещё все свои патроны не расстреляла, при том что в резерве у меня, как ты догадываешься, есть тяжёлая артиллерия. Я огорчена, удручена – незавидный у вас удел: посеяв ветер, вы бурю в стакане воды пожнёте. Не побоюсь обвинений в риторическом занудстве и вновь горячо изолью на тебя то, что в голове накипело! Боюсь, однако, того, что вы, ты и единомышленники твои, в красивых словах своих обещающие вечное счастье в космосе, сами с собой заигрались в прятки: познания в высшей математике от простейшей глупости не спасают, да и глупость сама собой не способна сойти на нет. Но это, поверь – глупейшая из всех ваших запредельных затей, во всяком случае, я для её продвижения и пальцем о палец бы не ударила…
У Липы, потешно втянувшего в плечи голову, казалось, быстро-быстро завращались глаза-очки, заблестел на кончике носа пот; увы, доза интеллектуального наслаждения – Липа ведь не только внимал Анюте, но и мысленно подбирал ответные аргументы, – видимо, была чрезмерной. У Липы покалывало и даже с ритма сбивалось сердце, он уже медленно накапывал – раз, два, три, четыре, – шевеля губами, считал капли, – валидол на кусочек сахара…
– А дальше-то что вы соизволите предпринять? – между тем спрашивала Анюта. – Только учти: ты и бедная душонка твоя всё ещё у меня на мушке! Отвечай сразу, кота не тяни за хвост!
А Липа глазами-очками продолжал вращать, но ответ так и не подобрал. Ещё бы, едва сердце унялось, ублажённое валидолом, тыльная сторона ладони у него расчесалась; изводила его много лет экзема, он, как мог, боролся с зудом, смазывал сухую растрескавшуюся кожу и раны – опять стигматы обозначились, с сочувственным вздохом подбадривала Анюта – топлёным бараньим салом.
* * *И… тут, воспользовавшись заминкой, надо в интересах объективности сказать, что Липа, вроде бы лишённый начисто практической жилки, вроде бы витавший за границами атмосферы, за самыми высокими метафорическими облаками, свято веря в отступление всяческой оголтелой косности землян, не говоря уж об отступлении преодолённых в новейших формулах тяг и скоростей силах земной гравитации, был, однако, в тесном и лестном для него деловом контакте не только с провинциальным мечтателем Циолковским, но и с энтузиастами-ракетчиками, предшественниками фон Брауна и Королёва. Скромная Лаборатория реактивного движения в двадцатые годы ютилась, пока тех ракетчиков не разогнали, а многих из них и в лагерную пыль превратили, в одном из бастионов Петропавловской крепости. Липины многостраничные расчёты уже в те далёкие от полёта Гагарина годы имели для близкого космоса практический смысл, сугубо практический: Липа рассчитывал космические скорости ракеты, преодолевающей тяготение, рассчитывал выгодные баллистические кривые, выгодные орбиты… И когда он склонялся над столом – синяки под глазами, сползшие на кончик остренького носа круглые очки с поломанной, замотанной изоляционной лентой дужкой, ввалившиеся, серо-фиолетовые, с залепленными пластырем порезами от бритья, щёки, блеск мокрого подбородка, – казалось, он не фантазирует попусту, а действительно вовлечён в глубокую умственную работу государственной важности. Уже и мифологический Циолковский умрёт и превратится в космическую икону, и о Фёдорове – от греха воинствующего идеализма подальше! – надолго все позабудут, и чудом выживших в годы террора ракетчиков аж до оттепельных лет в шарашках запрут, и много тяжких, невыносимо тяжких лет минет, с войной, блокадой, и Ахматову с Зощенко всенародно осудят в партийной прессе, и на верноподданных научных и литературных собраниях генетиков, кибернетиков, а за компанию с ними и космополитов крикливо разоблачат и смешают с грязью, и даже «дело врачей» закрутится устрашающе, но поджилки у Липы так и не затрясутся, всё будет он уточнять – уточнять и перепроверять – свои расчёты, вычерчивать самые выгодные для заброса в космос максимально полезных грузов баллистические кривые…
Так и умрёт он, счастливо склонившись над столом, заваленным исписанными-исчирканными листками, внезапно умрёт от разрыва, как тогда говорили, сердца; встанет ли он когда-нибудь из могилы, чтобы улететь на другую планету по своей космической трассе?
Или уже встал и летит, летит со старым, из потускневшей крокодиловой кожи с проплешиной у металлического замка портфелем, набитым драгоценными бумагами, в руке; летит, а мы об этом не знаем?
«Что за нелепость, – сонно засомневался Германтов, – на кой ляд Липе на другой планете портфель с устаревшими бумагами?»
И вспомнил, что спустя неделю, не дотянув до объявления о смерти Сталина всего-то несколько дней, умрёт Анюта; гроб с её кукольным тельцем поставят на четыре стула; отзвучит тихо и механистично заупокойно-патефонный Шопен, её увезут на кладбище… и она полетит, полетит вслед за Липой, вдогонку?
Но до смерти своей, понимал теперь Германтов, они – Анюта и Липа – не знавшие серьёзных размолвок, а в пустяковых ссорах всегда делившие пополам вину, поверх физических страданий, поверх всех угроз и страхов, которых им выпало натерпеться, – чувствовали себя счастливыми. Хоть раз на судьбы свои пожаловались? Как трогательно Липа закапывал ей в глаз капли из крохотной пипеточки, когда у неё в глазу лопался кровяной сосуд, а она, моргая, шептала: «Я на эту полупрозрачную голубую занавеску люблю смотреть: её вдруг солнце просвечивает, как крыло бабочки, и она, рукотворная, оживает, будто бы трепещет… и колеблется от ветерка, пузырится».
Германтов опять перевернулся на другой бок, вслушался в удалявшийся перестук трамвайных колёс, тук-тук, тук-тук; увидел, как нафаршированный телами освещённый изнутри трамвай катил к темневшей на фоне неба махине собора Иоанновского монастыря… Донёсся сдавленный, теребящий, уже и саднящий где-то в глубине души гул, – напряжение моторов, гудки; он, растревоженный, казалось, резонировал с суммарным напряжением-раздражением всего невыспавшегося города. Хорошо хоть, что ему не надо было рано вставать, протискиваться в этот утренний час пик в метро, влипать в торопливую, обездвиженную, поделённую лишь на вагонные брикеты толпу. До него донёсся вновь, пробив насквозь дрожью, глухой гул – тысячи машин нетерпеливо, но покорно содрогались в пробках на Большом и Каменноостровском проспектах…
* * *Голубая невесомая занавеска раздвинута – две её половинки, присобранные слева и справа, повисли мягкими складками; и как раз зацвёл кактус… Анюта после проглатывания женьшеневой настойки и закапывания капель в глаз неподвижна в своём стареньком рассохшемся креслице красного дерева с фигурно выгнутыми подлокотниками, накрытыми продолговатыми репсовыми, в косой рубчик, подушечками; бело-кружевной круглый воротничок, жёлтая иссохшая шея… Спокойное испещрённое мелкими морщинками лицо нежно лепится без помощи теней рассеянным заоконным светом; еле заметный ореол окутывает серебристо-пепельные редкие кудельки, мягкое солнечное пятно расплывается по косой поле бордового, с розочками, фланелевого халатика, фоном – чёрный, с проблеском, мазок пианино.
Почему её не писал Вермеер?
Или всё же писал?
* * *Конечно, контакты Липы с ракетной лабораторией не могли не вызывать подозрений. Липу дважды на воронке увозили в НКВД, но, сочтя сумасшедшим, да ещё таким сумасшедшим, какой, наверняка, в клещи карательным органам раньше не попадался, ибо он, бухгалтер, всерьёз объяснял чекистам, как воскрешённых в соответствии с фёдоровской идеей мертвецов будут при помощи реактивной, освоившей сверхскорости, науки и техники расселять в космосе, на необитаемых пока что планетах, нехотя отпускали. Да, троцкисты и английские разведчики, кишевшие вокруг, вряд ли инструктировали его, вряд ли они при всей их вражеской изощрённости научили его так виртуозно прикидываться безумцем. Липа, дважды арестованный и дважды выпущенный из Большого дома на волю, как ни в чём не бывало, трусил к остановке на углу улицы Чайковского и Литейного проспекта, ехал на трамвае по Литейному Владимирскому Загородному домой и брался вновь за свои чернильные вычисления, выводил многоэтажные формулы, вычерчивал лекальные траектории…
– Как, как… ты вернулся?! – спрашивала, по свидетельствам домочадцев, с трудом обретая дар речи, Анюта.
– Как видишь.
– И даже не разукрасили, – с нараставшим удивлением рассматривала живого-невредимого Липу Анюта, явно ожидавшая худшего. – Как… как ты оттуда вернулся? – повторяла вопрос, не веря глазам своим.
– На «девятке» приехал, – бодрился Липа, снимая мокрое тяжёлое драповое пальто, – вот только под дождь попал.
– Что у тебя там, на Литейном, выспрашивали?
– Выспрашивали, чем я занимаюсь.
– И что ты им отвечал?
– Правду!
Осёкся и…
– Ты же меня научила говорить правду и только правду, вот и не смогли они подкопаться. Мне повезло, мне поверили.
– Дуралей ты мой, зачем было говорить? Ты – никудышный врун, у тебя правда на лбу написана, – повеселела Анюта.
Ему вообще везло, и Анюта, комнатный ангел и Лютер в одном лице, конечно, его хранила.
Если верить трагико-анекдотичному семейному апокрифу, как-то, ещё года за три до счастливого возвращения на трамвае из многоэтажной бетонной преисподней, Липу приходили брать по «Кировскому призыву» как зиновьевского пособника, хотя Липа никогда в партии большевиков не состоял, понятия о зиновьевской оппозиции и вероломных её умыслах не имел. Ну, значит, пришли брать – под утро, когда сладкие снятся сны, однако Липа, в кои-то веки командированный в Москву на какой-то слёт, кажется, слёт ударников-бухгалтеров, дома отсутствовал. Раздосадованные опричники грубо напирали на маленькую Анюту: куда сбежал муж, где прячется, когда вернётся, а Анюта грубости не терпела, ей бы помолчать в тряпочку, а она в лобовую пошла атаку.
Поразительно, ей не было страшно!
– Я русским языком сказала, нет дома, в отъезде, – строго-повелительно и при этом презрительно глянула на свирепых гостей в фуражках с синим верхом. – Охотно верю, что послали вас на дело государственной важности, но не порите горячку! И выбирайте выражения, хотелось бы мне, товарищи, понять, что значит – сбежал? Он что, перепуганный заяц, у которого душа в пятках? И не нервируйте меня, и так здоровье пошаливает, – приложив руки к вискам, изобразила приступ мигрени. – И проход, прошу покорно, освободите, мне растения пора поливать… – потянулась к лейке; хорошо хоть ума хватило не указать на дверь.
Отвага и хладнокровие?
– Не надо пересаливать! – осаживала она, взмахнув ладошкой, домашних, которые расхваливали, охая-ахая, её бесстрашие. – Хотя мне изрядно нервы пощекотали, и отвратительно разглядывали, сверлили, сверлили меня оловянными зеньками, и на орехи, конечно, могло достаться, если бы они не на меня пялились, как на ископаемое, а заметили бы на полке немецкие и английские книжки.
Перевела дыхание.
– Конечно, язык мой, как помело, и в тот день я встала с левой ноги, могла поплатиться за неуважение к власти. Не желаю влезать в их поганые волчьи шкуры, но, думаю, особо ретивых, клыкасто-разнузданных по более важным адресам посылали, – скромно объясняла свою эффектную неожиданную победу над карательной машиной, то ли уставшей, то ли дававшей по отдельным адресам сбои. – Эти квёлые какие-то были, а уж когда другие, бравые и бешеные, потом по городу разъезжали, чтобы всех без разбору брать, они и выслушивать бы ничего из-за спешки не пожелали, не то что внимательно обыскивать… Им тогда многих и поскорее, для отчёта, надо было арестовать, привезти к себе в узилище и поставить к подвальной стенке…
Вот и всё, не хотелось ей возвращаться к ночным страхам, к растянутым на многие годы ужасам террора, когда непрерывное ожидание ареста могло быть страшней, чем последний выстрел. Боялась детей пугать? Всё время на Юру, листавшего журналы, посматривала.
– Они нагрянули при Ежове? Или Берия уже верховодил?
– Что вы, тогда ещё Ягода усердствовал.
– Чума на оба дома, и даже на три, с вашего позволения, и сверхчумы не жалко для них, – выносила свой, примиряющий спорщиков приговор Анюта и отмахивалась ладошкой, не желая сравнивать по степени жестокости палачей. Никого, даже Сталина самого, она не боялась, хотя имени усатого деспота, как и имён Ленина, Дзержинского, других вождей-садистов ни разу, если исключить спонтанно пропетую частушку про пришитого в коридорчике Кирова, Германтов от неё не слышал, произнесение презираемых имён было бы ниже её достоинства. Зато иносказания её бывали хлёсткими, ёмкими, правительство, например, называла она «коллегией адвокатов дьявола», при том что имя дьявола всем было хорошо известно. И политические комментарии её к зловещим идеологическим спектаклям бывали убийственно точными, но непременно краткими. Передавали по радио доклад Жданова, а Анюта только сказала:
– Какие позорные, грязные глупости они, изолгавшиеся, талдычат, никогда от грязи им в своих наркоматах-комиссариатах подлостей не отмыться, – и безуспешно пыталась ручку невесомую приподнять, чтобы показать, что всё, что вытворяют они, ей поперёк горла.
Липа тем временем – мало что был простужен – старательно накапывал валидол на кусочек сахара. И бурчал себе под нос: – Но они ведь культурные, главные наши большевики-вожди, классический балет любят.
– Не только большевики наши заядлые балетоманы, – откликалась Анюта, – фон Риббентроп, помнится, по срочным надобнастям ненападения в Москву залетел, но выкроил время, преподнёс Улановой хризантемы.
А спустя полчаса, всё ещё прислушиваясь к продолжавшему вещать радио, нечто непонятное молвила:
– Мармеладовщина, типичная мармеладовщина! Нет, – поправилась, – мармеладовщина пополам со смердяковщиной.
И затеяла сама с собою дискуссию:
– Дело прочно, когда под ним струится кровь? Нет, не обязательно прочно! Реки крови пролили, но большевистское их дело непременно развалится.
Когда же космополитов в кровь били, объясняя широким народным массам кто скрывался под псевдонимами, когда испуганно обсуждались по углам погромные статьи Софронова, Бубеннова, тихо, будто для себя одной, обронила:
– Им воздастся ещё, они поплатятся.
И даже порадовалась.
– Скоро их гнусная песенка будет спета.
А уж когда «дело врачей» они состряпали, силы совсем её оставляли, лишь зашептала: как не поверить, что несусыпно светится кремлёвское окошко в ночи? И еле заметно руку приподняла и дошептала: им конец теперь, уверена, им конец.
Они? Им? Их? Кто они, кто – конкретно?
И кому – воздастся, кому – конец?
Да, Анюта избегала конкретизаций… не из страха – из презрения; и, конечно, многие, очень многие из её смелых суждений давно сделались уже общим местом, но тогда-то юный Германтов услышал их в первый раз, запомнил их и, главное, усвоил ещё в нежном возрасте.
Петергоф, хрустальные струи и султаны фонтанов на фоне тёмной листвы. Благообразный, средних лет господин с бородкой и усами, в фуражке с околышем, запечатлён на парковой аллее у выставленных в ряд по краю аллеи кадок с аккуратно остриженными шарообразными лавровыми и померанцевыми деревцами… Юра рассматривал чёткое коричневое фото на журнальной вклейке, на чуть желтоватой мелованой бумаге.
– Это последний царь, – Анюта еле заметно скосила глаза. – Я видела его близко, так близко, как тебя сейчас, перед отправкой на фронт.
– И где он теперь, что стало с ним? – спросил Германтов.
– Его убили, вместе с женой-царицей, детьми.
– Кто убил?
Анюта поджала губы и промолчала, имена убийц она бы ни за какие коврижки не стала произносить.
Но её молчание было как приговор.
– За что убили?
– За то, что был царём, от рождения, понимаешь?
В разговор вступил простуженный Липа – позавчера ещё Анюта вздыхала: пальцы не двигаются, не могу с сахарным песком желток растереть, а то бы взбила я тебе гоголь-моголь, – но накануне так у Липы подскочила температура, что гоголем-моголем было б уже не обойтись. Липе даже ставили банки, от них на спине и груди сохранялись ещё багровые следы-кружки, и чеснок Липа в лечебных целях активно ел, на чёрную хлебную корочку натирал целый зубчик и жевал, жевал, от густого чесночного запаха в комнате было не продохнуть. Ко всему сердце вчера весь день сбивалось с ритма, ныло, валидол под рукой был… Липа сидел на кровати со старым вафельным, когда-то лицевым, полотенцем на голых коленях; парил ноги, тощие, бледно-жёлтые, с рельефным узором из голубых жил, блаженно шевелил сплетёнными, с бугристыми ногтями, пальцами в тазу с горячей водой. И разговор принял неожиданно радикальный оборот, перекинул совсем уж неожиданный мостик в будущее, конечно, не в то, далёкое и – без обманов! – светлое будущее, обещавшее межпланетные переселения век за веком умиравших, но затем вмиг оживших народов, а в будущее относительно близкое, во всяком случае, вполне обозримое. Липой в том разговоре словно предвосхищалась больная тематика усыхающих советских иллюзий, когда, как утопающий за последнюю соломинку, любой соискатель социализма с человеческим лицом хватался за противопоставление хорошего Ленина плохому Сталину.
– И кто же были те честные коммунисты? – спросил под конец разговора Липа. – Те, кто в Ленина верили?
– Дураки! – Анюта попробовала поставить точку.
– Но у них же сила была, идейная сила.
– Была, да сплыла.
– Когда?
– Окончательно – после «съезда победителей», когда благоверных партийцев, дураков-победителей, пустили в расход.
Липа, однако, пожелал продолжения.
– И чего же, если ты одна такая умная, останется ждать, к чему стремиться? Есть новая историческая идея?
– Есть старая идея, но – на все времена.
– Какая?
– Карфаген должен быть разрушен.
Точка на этот раз получилась жирной.
* * *После двукратного возвращения домой на трамвае оттуда, откуда обычно не возвращались, да потом и все девятьсот дней блокады Липа не выпускал логарифмическую линейку из слабеющих коченевших рук, высчитывал скорости ракет и координаты орбит, вычерчивал траектории для ракет с межгалактическими летунами в капсулах. Чудеса, да и только – Липа и Анюта, безнадёжные хроники, вопреки всем болячкам, голоду и холоду выжили. Им везло: у Липы ни разу не украли в молчаливых замёрзших очередях хлебные карточки, хотя он в очередях не о хлебе думал, в уме проверял расчёты, правда, возвращаясь по ледяным колдобинам домой, не забывал поискать газету с очередным поднимавшим дух рисунком Владимира Гальбы. Рисунки Гальбы вырезала из газет, складывала в «папочку свидетельств» – её название! – Анюта. Да, им везло… И в дом их, такой заметный дом, ни бомба, ни снаряд не попали, а от медленной голодной смерти Липу с Анютой сказочно спас, упав с мешком провианта с неба, Изин одноклассник, преданный Шура Штурм, командир эскадрильи лётчиков-торпедоносцев, который погибнет затем, вернувшись на фронт, в воздушном бою над Кольским заливом. Анюта вздыхала: конец близился, нас уже голодные, «деликатесные», как я их называла, да ещё пахучие при этом, видения посещали: то я вдоль бесконечных пузырчато-стеклянных прилавков с французскими сырами прохаживалась, любуясь оттенками и узорами плесени, вдыхая гнилостные благовония рокфора, то Липа покупал в Торгсине жестянки с сардинами, копчёную лососину, и вдруг… Да, частенько вспоминалось ей чудесное явление Шуры – ладного, энергично напружиненного, возмужавшего и обстрелянного, в щегольски начищенных сапогах и новенькой гимнастёрке с нагрудными скрипучими ремнями крест-накрест. Приехав на побывку с Северного фронта, он привёз им запаянную трёхлитровую банку томатной пасты, бутыль рыбьего – трескового, уточняла Анюта – жира и большой куль муки, да ещё оставил две пачки солоноватых американских галет из своего офицерского пайка. О, хвасталась Анюта, у нас ведь ещё до начала гастрономических видений и до появления Шуры с царскими дарами только соль со спичками на самый чёрный последний день были припасены, боялись, впроголодь куковать, теряя силы, придётся, и вдруг – не дом, а полная чаша: жили на широкую ногу, жарили на том жире лепёшки, по капельке жира, крохотной капельке – на одну лепёшку; как музыкально шипела каждая капелька жира на чёрной чугунной сковороде! Анюта с Липой ещё и делились тем жиром и той мукой с соседкой по лестнице, а та отсыпала им гороха, так что варили по семейным праздникам гороховый суп, на крохотные, как птифурчики из кафе «Куполь», кусочки ржаного чёрствого хлеба намазывали томатную пасту, да ещё соседка им приносила воду. На дрова без сожалений пустили мебель, только пианино, книжная полка и стол с креслицем сохранились. К тому же слушали радиотрансляцию Седьмой симфонии и регулярные выступления Берггольц по радио тарелке – да, в давнишнем радио кумире Яхонтове Анюта разочаровалась, в официальном дикторском гласе Левитана ей не хватало человеческих интонаций, а вот голос Берггольц, страдающий и твёрдый, воспевающий и оплакивающий, её согревал; надежда на бессмертие души, признавалась не раз Анюта, ещё в юные годы была поставлена под сомнение и потому ничуть не грела её, а вот голос, искренний голос внутренней боли и непреклонности, обращённый к ним ко всем, осаждённым, голос не сомневавшегося в победе сопротивления, оказывается, мог согреть…
И благодаря педантичным Анютиным заботам выжили, затем и намного пережили её бегония и кактусы на подоконнике. Один из кактусов даже как-то и после её смерти зацвёл, причём – в день её рождения; такая мистика… И сохранилась маленькая детская леечка.