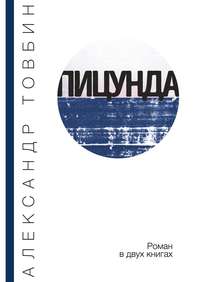Полная версия
Германтов и унижение Палладио
И тогда, спустя столько лет, спустя столько кровавых революций и войн, давали «Аиду». Чудеса, но и тогда, когда впервые я прилетел в Париж, давали «Аиду», удивлялся совпадению Германтов.
Рухнет, проржавев, железный занавес, неожиданно жизнь выйдет из заморозки, и Германтов, без промедлений примчавшись на крыльях Аэрофлота в Париж… Все-все тогда, все, кто натерпелись разбойного, а потом и скучного до зевоты однопартийного гнёта, все, кто всласть – кто до горечи, кто до оскомины – намечтались-наговорились в кухонном своём вольнодумстве, так и эдак прикладывая на пробу к морде зверя-социализма маску человеческого лица, короче, все, кто наивно жаждали перемен, пока нудно длилось относительно безбедное брежневское правление, но не решались поверить, что российский лёд когда-нибудь тронется, едва реально замаячили перемены, возжелали поскорее глотнуть заграничного кислорода, в качестве опорного пункта в жадных и пока лишь воображаемых путешествиях своих по всему свободному миру, конечно, избирали Париж! И Германтов, пусть укоряя себя за стадное чувство – рабы, толкаясь, ринулись на волю, в досель железом отгороженную Европу, а он, будто бы несвободой вообще не задетый, он, франкофил-франкофон, у которого французский язык едва ль не в крови, отстанет? – он тоже, как все, при первой же послабляющей оказии в Париж полетит, а уж там отправится в оперу. Собственно, оперу, этот апофеоз музыкально-вокального жанра, он, сын оперной звезды, терпеть не мог, он тогда и билет-то в оперу вовсе не ради «Аиды» покупал и не ради созерцания скульптур, балюстрад, лестниц, нагромождённых мсье Гарнье, дабы на века, на зависть потомкам, возвести памятник буржуазному самодовольству в непревзойдённо-многопудовом стиле Наполеона III. Он отправится в оперу, чтобы увидеть вмонтированный в грузное рыхлое чудо эклектики тонко выписанный плафон Марка Шагала, и – под плафоном – увидит люстру, ту самую легендарную люстру, тот застывший над головами зрителей переливчатый поток хрусталя, вспомнит Анюту, её возбуждение, её восторги и горести, её бесстрашие, стойкость и твёрдость, её простой, но особенный, приперченный юмор, вспомнит и не поймёт никак, сам ли Шагал, расчувствовавшись, размыл кистью свои зеленовато-малиновые аллегории на плафоне или так преобразила воздушную плафонную роспись навернувшаяся на глазах Германтова слеза.
* * *Нет, живопись, тем паче – скандально-загадочная, нежданная живопись, которая на рубеже веков предъявила растерянно хлопавшему глазами зрителю какую-то заумно-издевательскую мазню, а вовсе не то, что реально видели вокруг себя нормальные люди, Анюту поначалу лишь раздражала, хотя – по её же признанию – разбиралась она в такой – халтурной, по её задиристо-смиренной оценке, – живописи, как свинья в апельсинах: «Я видела, Юрочка, Руанский собор, настоящий великий собор видела, понимаешь? А потом, внутренне содрогнувшись, увидела на музейной стенке какую-то жалкую квашню-размазню в солидной раме и подпись под ней на золочёной табличке – „Руанский собор“; и в какой же из двух соборов, настоящий или ненастоящий, прикажете мне поверить? К чему напрасно спорить с веком? – усмехаясь, смотрела ему в глаза. – Да хотя бы из самоуважения спорю я, поскольку не верю в сказки о мазне как о внезапном раскрепощении духа. Не желаю терпеть злонамеренного обмана, этой шарлатанской имитации высоких порывов, не желаю – понимаешь?» Неугомонная Соня таскала её по парижским выставкам, приобщала, но старания Сони пропали зря, глаза б Анюты не видели этих халтурщиков-импрессионистов или – ещё не легче – постимпрессионистов, не говоря уже о безобразных кубистах!
– И зачем воду они мутили? Зачем? Картина называется «Завтрак на траве»: лежит голая девица, и впрямь на зелёной травке лежит, а рядышком с ней, лежащей в чём мать родила, господа хлыщи в чёрных цилиндрах, фраках, ну и что? Впрочем, pardon, запамятовала, были ли на хлыщах цилиндры.
О, как увлечённо она играла вопрошающее негодование!
Исключительно для маленького Германтова играла… И раздразнила-таки его любопытство, его воображение, раздразнила.
– Они как бы ею, созерцаемой ими девицей, завтракают? А на других картинах и вовсе тела, дома, деревья какие-то размазанные, затуманенные, расплывчатые. Я носом в одну картину утыкалась, в другую, а ничего чёткого и близкого мне никак не могла увидеть, хотела, но не могла: не картина, а лишь многокрасочное, но при этом какое-то закамуфлированное выпячивание своего «я» и какое-то уже не только модное, но и возведённое во всемирное правило надувательство! Стоило в Париж, за тридевять земель, на перекладных ехать, чтобы похлебать киселя? Ну так вот, съездила, нахлебалась, теперь меня на те выставки и на аркане было б не затащить. Хотя такого беспардонного, но якобы добропорядочного, якобы облагородить нас готового надувательства, – ворчала, – с недавних пор уже и дома вполне хватало. Анюта ведь и в Русском музее передёргивалась от «бубновых валетов» и «ослиных хвостов», и от картин художника Махова, соседа по квартире, неутомимо творившего за стеной её комнаты, воротила нос и тихонько, чтобы Махов, не приведи Господи, не услышал её едких суждений и не обиделся, спрашивала: «Если вы все такие умные, скажите мне чистосердечно, на что это похоже, на что? Я, конечно, не семи пядей во лбу, но и не так глупа, чтобы…» И говорила, что никто не убедит её, будто красная и мохнатая – так и говорила, приподняв, будто изображала клятву в суде, ладошку, – мохнатая маховская мазня утаивает от профанов, но зато адресует просвещённым и утончённым натурам хоть какой-то смысл. Анюта смешно морщила носик, её раздражали запахи олифы и скипидара, просачивавшиеся в коридор из комнаты Махова.
Соня, кстати, не только к новой непонятной живописи безуспешно приобщала сестру – брала с собой Анюту в Баварию, на музыкальный фестиваль в Байрейт, но и в музыке она не принимала громких новаций, пусть и связанных с общепризнанными уже именами авторитетов.
– Какая я всё-таки ослица! – весело казнилась Анюта. – Баварский король-утопленник обезумел от этой тяжёлой, оглушительной, неудобоваримой музыки, казну разорил, возводя в честь самовлюблённого напыщенного композитора сказочные замки-дворцы, теперь же все горячечные почитатели новообретённого музыкального божества в баварскую дыру понаехали, все, как по заказу, в экстазе, все, как один, обезумев, воспылав, аплодируют стоя, а я не понимаю, ну никак, хоть убейте, не понимаю, чему надо хлопать, чему? И во имя чего такой гром литавр? Мне, как ты догадываешься, чужда патетика, вдвойне чужда претензия на ложное национальное воодушевление. И что же – заискивать наперекор себе перед тенью велеречиво мрачного германского гения? Присоединяться к беснованиям клаки? Я, как ты, Юрочка, знаешь, при кротости своей даже вежливо поддакивать не приучена, я куда охотнее негодую, открытый бой принимаю, и потому не пожелала я делать при плохой игре хорошую мину: ничего сногсшибательного, поверь! Мало что оркестр сам по себе громыхает и гремит, поглощая мелодию, так ведь ещё оркестр и голоса певцов заглушает, до подвываний низводит. Уши заложены, в глазах, как кажется, непроглядный мрак, да ещё, признаюсь, мочевой пузырь переполнился, боялась – лопнет. И всё вокруг дрожит, всё колеблется. И хлопать до сожжения ладоней надо ураганно-безудержному, подавляющему и сотрясающему напору звуков? – та музыка была для неё чересчур густой и тяжеловесной. И не только для неё. Ей вспоминалась английская книжка и извлечённое из той умной и глубокой при артистичности своей книжки наблюдение некой викторианской аристократки, заметившей за пятичасовым чаем, что музыка Вагнера такая шумная, что под неё, как она, аристократка та, уже проверила на «Лоэнгрине», можно – сухой смешок сорвался с Анютиных губ – громко проболтать в опере целый вечер, и никто из посторонних ничего из болтовни твоей даже при желании не услышит, никто не сделает тебе замечания. Нет-нет, это – не её. К тому же нечеловеческая музыка эта внушала ей страх, из духа этой громоподобной музыки действительно рождалась трагедия… Как бы то ни было, душераздирающему новомодному симфонизму – как, впрочем, и воспевающей тёмные мифы опере – Анюта предпочитала оперу итальянскую. Она могла долго сравнивать достоинства голосов Карузо и Тито Скипа. И Анюта любила театр, классическую драматургию; Сару Бернар она, увы, не застала, однако исправно посещала Французскую комедию, хвалила игру актёров… С той поры сохранился у неё миниатюрный театральный бинокль с отслаивавшейся, если поддевать ногтем, перламутровой облицовкой. Юра частенько силился представить себе молодую нарядную Анюту в пузатой ложе с этим поднесённым к глазам биноклем.
Но вообще-то искусства никогда не заслоняли Анюте жизнь, а вот жизнь, сама по себе французская жизнь, сытная и удобная, с пахучими сырами и утиными паштетами, её высокие духовные запросы никак не могла удовлетворить, такая жизнь вызывала у неё и уважение, и отвращение. Анюте, противнице всех социалистических, тем паче, коммунистических теорий, претил буржуазный дух Парижа. Как понять? Ей, противнице любой уравниловки, претили также скупость, фальшь, пошлость и лицемерие буржуа, их коллективная послеобеденная отрыжка; она спешила вернуться, чуяла, что именно в стране «вечной мерзлоты» – так, слегка перефразировав Победоносцева, говорившего о «ледяной пустыне», окрестила тысячелетнюю Россию Соня, – да, в стране «вечной мерзлоты», где, всяких ужасов натерпевшись, всё равно в рай на печи въезжают, а счастье своё у разбитого корыта находят, и должен был вскоре случиться желанный для Анюты, какой-то особенный, справедливо-праведный поворот в мировой истории. И вот оно! Особенный поворот приближался… А пока не полетело всё вверх тормашками и не плюхнулось в грязь кровавую – её слова, – училась на каких-то престижнейших женских курсах, то ли на Потёмкинской, то ли на Кирочной – Германтов сразу позабыл, где они, курсы те, размещались, – поступала на медицинский факультет, а затем… Сейчас-то она неодобрительно рассказывала, как разграбили германское посольство, как Вагнера с Бетховеном верноподданно выкинули из репертуара, но тогда и сама она в патриотическом опьянении отправлялась вместе с воодушевлёнными добровольцами на войну с Германией, на Первую, империалистическую, главные поля сражений которой отважно исколесила в вагоне-госпитале санитарного поезда как сестра милосердия. На одной из фотографий, висевших на стене, она, серьёзная и строгая, с твёрдым взглядом исподлобья, в белой косынке с крестом на лбу, была запечатлена – в испарениях гноя, крови и пота, как вспоминала, – в отчаянной тесноте, меж перебинтованных, с костылями, раненых-покалеченных; она, между прочим, и в Совете по справедливому распределению пожертвований для раненых заседала. Была у неё в альбоме ещё одна военная фотография, и вовсе страшная, удушающе страшная, подаренная ей фронтовым фотографом: вдаль, чуть ли не в бесконечность, за линию горизонта, туда, где, как смерчи, вставали разрывы снарядов, уходила кривая чёрная щель окопа, в щели, уменьшаясь в перспективе, словно нанизанные на извилистую нить бусины, – остриженные «под ноль» головы солдат вровень с верхом окопа, с землёй: головы солдат, юных совсем, не понюхавших ещё пороху, будто бы покорно ждущих погребения заживо, стоящих в узкой змеевидно-длинной братской могиле, но ещё не засыпанных. А вот она на побывку в конце шестнадцатого года с фронта приехала: фото у афиши, сделанное перед концертом московской балерины Каралли.
– Через день, возможно, через два или три дня, точно уже не вспомню, – говорила Анюта, – убили Распутина; нет, чего плохого, господа хорошие, в меру прогрессивные, не подумайте, – говорила.
Распутин не был и никак, ну никак не мог быть героем её романа, она его, заскорузлого крестьянского мистика, на дух не выносила, но… легко ли сердцу стерпеть такое? Сама видела, великий князь Дмитрий Павлович с романтической поволокой в глазах вчера-позавчера ещё в ложе своей вычурным танцам Каралли хлопал, но… ларчик просто открывался: Каралли эта, выяснилось, писала от лица некой таинственной красавицы письма Распутину с просьбой о встрече, заговорщикам надо было в условленный вечер выманить Распутина из его дома на Гороховой, понимаете? Высокообразованный и утончённый великий князь и другие, близкие к царскому двору и дворянской верхушке негодяи-недоумки с леденящей кровь жестокостью убили Распутина! Мало что сделали из развратного старца святого мученика, так ещё и так получилось, что всем-всем-всем, кто думать-страдать умел, просигналили тем убийством: пришла беда – открывай ворота! И всё-то шло поначалу так, как порешили всевластные недоумки – а у них и совести было с гулькин нос, – всё во благо отечества; долго ждать блага ведь и впрямь не пришлось: пьяное ликование, красные банты, радостно заброшенные в небо треухи, но… Злобная мстительная орда вскоре запрудит улицы, обитатели дна с гиканьем погонятся за городовыми – их камнями добивали, затаптывали в кашу из грязного снега, навоза, крови. Относительно мирная революция? Не верьте! Толпа бросилась штурмовать «Асторию», где укрывались ещё верные царю офицеры, так толпу поливали свинцом из пулемётов, а потом тех же офицеров из тех же пулемётов и постреляли. И повсюду посвистывали шальные пули… Как точно совпадут рассказы Анюты, которые запомнит Германтов, с картинами революции, которые выпишет в «Красном колесе» Солженицын! А у родовитых и высоко вознесённых душегубцев, «благородных господ», изводивших незадолго до того в Юсуповском дворце старца, не подозревая, что нажимают при этом на курок революции, навсегда рыльца в пуху остались. Сколько раз Анютой всё это повторялось?
– Старец-то недурным был пророком: если меня убьют – скромно предупреждал, – погибнет Россия. А они, – без устали повторяла-уверяла Анюта, – и рады стараться, погибнет, так погибнет, туда и дорога ей, такой паскудной и ненавистной под продажным самодержавием, – в бездну.
Что это – следствие долгого исторического невезения или закономерная расплата за скудоумие политиков? Своими ядовитыми пирожными, которыми травили ненавистного, но крепкого, как дуб, старца-сибиряка, сумели и разуверившуюся, ослабленную войной страну отравить. Политиканы привычно грызлись между собой, у них в каждой партийной избушке свои погремушки были, а тут вдруг объединились в революционной одури, трон обрушили, империю согласно, под восторженные пьяные вопли, в разнос пустили; при попустительстве скудоумных временных министров и склочной Думы вскоре и армия, вся армия, которую Анюта чтила, ибо и сама на своём медицинском посту всю войну под бомбами-снарядами отстояла в тесном вагоне, провонявшем карболкой, оружие побросала, побежала… Трёхсотлетнее романовское царство агонизировало, потом и сразу дух испустило, когда в Могилёве генерала Духонина, порядочного и честного, по её оценке, самого порядочного и честного из когорты царских генералов, пьяная матросня схватила и растерзала. Помолчав, посмотрела Германтову в глаза; так-то, ненавязчиво, не по «Краткому курсу…» и по-взрослому, с малых лет преподавалась ему История.
Между прочим, «Краткий курс истории ВКП(б)» однажды был обнаружен Германтовым среди книг Сиверского. Да, среди внушительных томов по искусству: Шуази, Виоле ле Дюк в толстых кожаных, с золотом, переплётах и на тебе, – книжка в картонной, серой, как сталинская шинель, обложке… а уж как долго Германтова интриговало маленькое прописное «б» в скобочке…
– Что означает это «б»? – не удержался, спросил.
– Большевиков, – отозвался Липа, не поднимая головы от расчётов. – Партия большевиков.
– А почему «б» – маленькое?
– С большой буквы писать «Большевиков»? Масло маслить…
– И слишком много чести… – скривила губы Анюта.
Липа, не поднимая головы, улыбнулся.
– Та тёмная зимняя ночь на Мойке, когда садистически-долго убивали и, наконец, убили Распутина, если мозгами пораскинуть, для всех нас сделалась роковой, исходно-роковой, была допущена вопиющая, хуже, чем преступление, историческая ошибка; Анюта всю свою долгую жизнь мучительно расставалась с мечтами о просвещённом абсолютизме, хотя… не раз, ссылаясь на мудрость какого-то великого правителя, говорила, что царская корона – всего лишь дырявая, не спасающая даже от дождя, шапка. Вернувшись с войны, прослужив до самого октябрьского переворота в госпитале, который размещён был в Зимнем дворце, – красногвардейцы, ворвавшись, на её глазах искали среди раненых и, – улыбалась, – под кроватями, – членов Временного правительства, – а помыкавшись по разным непотребным, по её оценкам, конторам, служила потом, после НЭПа, когда безраздельно и навсегда уже утвердилась советская власть, хранительницей заплесневелых старинных рукописей в Публичной библиотеке – крыша по закону всемирной подлости протекала как раз там, где тесно стояли шкафы с самыми древними рукописями, – перебивалась частными уроками, дрессировала малограмотных аспирантов, рвавшихся в ряды красной профессуры, о, она прекрасно знала три языка… В юности она выучилась также играть на фортепиано, разучила все двадцать четыре этюда Шопена, уверяла, что давала благотворительные, в помощь беспризорным детям и голодающим Поволжья, концерты, исполняла, обычно в финале концерта, самый знаменитый из шопеновских этюдов, номер 12, или «Фантазию-экспромт» – указывая еле заметным поворотом головы на пианино и из последних силёнок пытаясь взмахнуть ладошкой, чтобы затем хотя бы в воображении неподвижными пальцами ударить по клавишам, назидательно повторяла: не грохотать надо, не грохотать, а мягко, нежно… Она обожала Шопена, к слову сказать, жалела его, болезненного, хрупко-беззащитного гения, сведённого в могилу бездарной – при всей революционной экзальтированности её: выряжалась в мужские костюмы, в своё удовольствие дымила сигарами, а туберкулёзник Шопен задыхался, – да! – настаивала, – бездарной и разнузданной, безжалостно-похотливой сочинительницей, да, бездарной, всё, чем осчастливила человечество эта Жорж Занд, – безвкусица и дешёвка, понимаете a priori безвкусица и дешёвка. И разумеется, едва затихали аккорды воображаемого идеального фортепиано, едва изобличённая Жорж Занд укрывалась от вечного позора в пышных пыльных кулисах своего великого века, Анюте вспоминались чаще всего стихи; не упускала случая, дабы поточнее проиллюстрировать в зарифмованных строках сценку ли из жизни, бытовую ситуацию, призвать на помощь любимого ею Надсона; символист Блок с эгофутуристом Северяниным блистали потом, после Надсона, и Иннокентий Анненский, поэт поэтов, вышел благодаря внезапной смерти своей из тени, и акмеисты чуткие сердца покорили, умы – Мандельштам, Ахматова. Позже нарождались поэты, хорошие, разные, а Анюта, зная и ценя многих из них, хранила тем не менее с гимназических лет верность Надсону.
Какими многословными бывали её рассказы! Но вдруг она выговаривала короткие фразы, простые и чёткие, без завитков, вроде такой: «Не надейтесь, что глупость сейчас сморожу, у меня мозги ещё не отсохли…» Или: «Я сейчас вам скажу такое, что всё, прежде сказанное, померкнет…» Хотя куда больше нравились Германтову и – пусть это и странно, пожалуй, необъяснимо – лучше ему запомнились как раз фразы сложные и витиеватые; а отдельные слова, знакомые ли, загадочные, она произносила весомо, отдельно одно от другого.
И – будто механическим, с нарастающим скрипом, голосом.
Природная деликатность – и твёрдость характера, твёрдость принципов и поступков, твёрдость слов; за ней угадывалась толпа пророков, а сама она, убеждённая, непреклонная, оставалась в словах и жестах своих естественной и живой, при том давным-давно и хорошо – до морщинки, до складочки на халатике – всем нам знакомой; сошедшей ли с нравоучительной театральной сцены, со страниц старинного английского романа или перешагнувшей раму выцветшего фламандского полотна.
– Всем плевать на высокие материи, но кому, как не мне, оплакивать до сих пор потери? Конечно, старый русский самодержавный мир прогнил, уверовав в тупое охранительство, сам себя привёл к слому, но чем же заменили груду обломков? После революции, Юрочка, вся жизнь была уже исковерканной, вся-вся была исковерканной-изувеченной, понимаешь? А из Петербурга, из неземной красы его, особенно после того, как «бург», заменённый по патриотичному недомыслию «градом», повторно и уж совсем преступно переименовали, какие-то дьявольские насосы даже исковерканную, даже изувеченную жизнь выкачивать начали, а уж потом город понуро и безнадёжно умирал, изнутри как-то умирал.
Как, не допуская и тени сомнений, произносила она убойную присказку свою: а priori. И переспорить, переубедить Анюту, когда она на своём стояла, было нельзя. Как она доказывала Елизавете Ивановне, соседке, жене художника Махова, преступность большевистской реформы орфографии, насильственно, как только и умели большевики, лишившей язык таинственной многосложности, как доказывала… И ведь не главным преступлением большевиков была та спорная орфографическая реформа, отнюдь не главным, а и тут не давала спуску… «A priori преступная реформа, а priori», – твердила Анюта, а Липа, прислушиваясь к спору, шептал: «Мой комнатный Лютер…»
Не исключено, впрочем, что твёрдость её убеждений имела куда более древнюю, чем лютеровская, пробу: дед и прадед Анюты были раввинами.
Но и твёрдость её была своей – особенной, одной ей присущей. Анюта ведь не только могла естественно сопрягать пристрастия своего старорежимного прошлого с лирическими песнями последней войны, которые ею отделялись от казённого идеологического официоза, не только… Из разнородных явлений жизни, искусства и даж из разных религий она интуитивно вычленяла близкое именно ей, важное – для неё, а вычлененное, сочетая, гармонизировала одной ей известным методом. О, она была творцом уникального богословия: без апологетики, без верховного авторитета, прямо скажем – без Бога. Как ни странно, иудаизм вообще не был для неё религией в общепринятом, затворённом на мистике смысле этого понятия, ибо Анюта не верила в жизнь после смерти. Зато верила в то, что порядок в мироздании поддерживается самим словом священной Книги; Ветхий Завет ли, Тору Анюта воспринимала исключительно как этическое уложение жизни, сложнейшее и именно к ней, Анне Геллерштейн, обращённое уложение, смысл которого надо было всякий раз самостоятельно отыскивать в бесконечной сумме толкований этого смысла, а Новый Завет, хотя и восхищалась Христовым подвигом и, между прочим, обожала многоголосые церковные песнопения, и вовсе могла ласково пожурить – мол, почти два тысячелетия веры, надежды и любви минули, мистических потрясений, если заглянуть в святцы, – уйма, а вот простенький фактик бессмертия души никто так и не удосужился подтвердить. Новый Завет она рассматривала исключительно сквозь призму выпестованной веками христианства великой культуры, органично связанной, к радости Анюты, с культурой античности. Она вообще считала, что Иерусалиму с Афинами нечего делить и не о чем спорить. Соборы, романы, философские системы – всё это для неё теперь и было христианством: и живой плотью его, и вместилищем действенного, непрерывного, святого, если угодно, духа.
* * *Вспоминая её, Германтов думал и прежде, и теперь, ранним утром: как много всего умела и знала Анюта, сколько всего успела…
И – ничего показного.
Ей выпали редкостные по насыщенности эмоциями и деяниями будни. Она была практиком малых дел, великим, вдохновенным практиком малых и незаметных дел, великим стоиком среди тихих непрерывных жизненных бедствий, которых не перечесть. Заболев, страшно заболев, превратившись в солевое изваяние, страдала она, наверное, не столько от боли и жестокой такой телесной неподвижности, не позволявшей ей незаметные, но исключительно важные дела свои продолжать, сколько от удивления: почему-то её знания и душевный опыт больше никому не нужны? Ни знание латыни и древнегреческого языков, ни свободное владение тремя европейскими языками – она и по-украински умела, если б надо было, чисто и певуче заговорить, – ни кровавые картины сражения в Галиции, ставшего для неё боевым крещением, ни кошмары панического отступления, почти бегства. «Ветер всю ночь выл в каминной трубе особняка, где временно разместили тяжело раненых, и хотя нас охраняли солдаты-преображенцы, беспокойство не покидало… И вдруг кто-то из солдат испуганно заорал: газы, газы! Но это была ложная тревога», – начало, достойное готической новеллы, жаль, Германтов позабыл, что же с Анютой страшной ночью той приключилось, а она, возможно, вспоминала то военное приключение через много-много лет, вслушиваясь в завывания вьюги…
И тут уже эхо последней войны её оглушало, будто ближний разрыв снаряда… Суровым вдруг сделалось её отвердевшее в каждой своей морщинке, словно не восковое уже, а за миг какой-то из камня высеченное лицо, когда радиоголос взволнованно, сильно картавя, принялся зачитывать молитвенно-проникновенное, но жестокое поэтическое воззвание: «Если дорог тебе твой дом…».
О, ей действительно было о чём рассказать, не только о военных страхах и напастях в Галиции или о падении люстры в парижской опере. Однако коронный, многократно и торопливо, ибо времени, чувствовала, не оставалось, повторявшийся её рассказ, повторявшийся на протяжении многих лет, звучал всякий раз как последний, предсмертный: ею воспроизводился эпизод вовсе не своего, а чужого, причём отчаянного показного геройства. В одну из предвоенных ещё вылазок своих в центр города, и не куда-нибудь к Неве (болезнь обострялась, но Анюта находила силы активно с нею бороться), ей довелось очутиться на Троицком – или Дворцовом? Нет, всё же на Троицком, – мосту в тот самый миг, когда под мостом пролетел воздушный хулиган Чкалов. И – в груди ёкнуло, и померещилось ей, что мост приподнялся и она будто бы сама, едва чкаловский самолётик благополучно стал недосягаемой точкой в небе, поднялась ввысь вместе с мостовыми фермами, трамваями, фонарями…