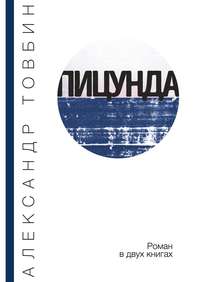Полная версия
Германтов и унижение Палладио
Между тем ленты Хичкока лишь предлагали художественную аналогию, а объяснение самой тревоги, запечатлённой кистью Джорджоне, точнее, объяснение её, тревоги, природы, возможно, было…
– Юра, всё гениальное просто, – кивнёт Штример, обжигая Германтова доверчиво-насмешливым взглядом; вот и Штримера нет уже, жаль.
– Как вы вникали в мир мыслей и чувств Джорджоне? – допытывалась пёстрая, с чёрным хохолком, птичка на пресс-конференции в Болонье.
– Упаси бог, я не вникал и не пытался вникать, как-никак в Лету утекло пятьсот лет…Я сам, понадеявшись на своё воображение, думал и чувствовал; я просто рассматривал стародавнюю живопись из нашего времени.
– Не заметили ли вы в «Грозе» масонской символики?
– Не заметил.
– Не объяснимы ли тревоги Джорджоне тем, что именно тогда, когда писал он «Спящую Венеру» или – как вы доказываете – «Сельский концерт», неприятельские войска вторглись во владения Венеции, ландскнехты разграбили его родной город, Кастельфранко?
– Применительно к Джорджоне это было бы прямолинейное объяснение.
– Как вам легенда, согласно которой отрубленная голова Олоферна у ног джорджониевской Юдифи – автопортрет?
– Забавная легенда, тем более забавная, что Юдифь, вероятно, писалась с возлюбленной Джорджоне, куртизанки Чечилии.
– Разве вы, рассматривая стародавнюю живопись из нашего времени, не навязываете Джорджоне свои взгляды, идеи и ощущения?
– Ничуть; если эти идеи и ощущения возникли у меня при встрече с полотнами Джорджоне, то и значит, что я эти идеи и ощущения «добыл» в холстах, я – лишь улавливатель и коммуникатор.
– И всё-таки удивительно! – ещё один голос сомнений. – Вы себе верите больше, чем Джорджоне? Своим фантазиям, если не сказать – сумасбродствам, вы подчиняете гениальную его кисть?
– Ничего удивительного! Джорджоне, как и любой художник, не знал, да и не мог знать, что он пишет при всех своих внутренних позывах и планах-намерениях, направляющих его кисть; художник, когда пишет, впадает в транс и превращается в бессознательное существо; повторяю, я – не больше, чем улавливатель и коммуникатор.
– И что же, если отвлечься от идей-фантазий и ощущений, вы хотите высмотреть-разгадать в холстах Джорджоне?
– Резко индивидуальный код.
– Код?!
– Да, код единственной в своём роде художнической судьбы: судьба самого Джорджоне определила атмосферу его холстов.
Giorgione е Hitchcock – как не вспомнить? Он задержался тогда в Болонье, сделал несколько выездов в разные стороны… Какой яркий, солнечный был январь! В городах – нереальное восхитительное безлюдье; редкие прохожие в красно-кирпичном Урбино, под синим небом; сонная оцепенелость Римини: изгнавшая прихожан, будто бы дремлющая церковь Альберти; густо-розовые ставни-жалюзи, задраившие на зиму высокие арочные окна кремового Гранд-Отеля, убраны даже с площадки перед ним такие привычные белые столики уличного кафе; по-зимнему пустынный бескрайний серовато-жёлтый пляж, такой же пустынный, наверное, как и в детские годы Феллини, и зелёная-зелёная, с барашками, Адриатика. И день ли сиял, ночь опускалась? Стоило зажмуриться от яркого солнечного света, как – уже по пути в Равенну – во тьме кромешной над морем, покачиваясь, проносились сказочной россыпью огни огромного многопалубного аморфного корабля, заплывшего в современность из «Амаркорда».
Да, да… код художнической судьбы.
Джорджоне, утончённый и нервный живописец-музыкант, был и интеллектуалом, и интуитивистом. Он предчувствовал скорую свою смерть, он жил – совсем недолго жил – до чумы, которая пресекла его молодую жизнь, он, весёлый, жизнерадостный, словно изначально знал, что сброшен будет в наполненную трупами чумную яму, сброшен в яму и залит известью… Вот и дышат необъяснимой вроде бы тревогой холсты, авторство которых неблагодарные потомки припишут затем другим, куда более расторопным, удачливым… да Тициану, законному прославленному наследнику, и припишут! Да, Тициану, а также Тинторетто, Веронезе и всем благополучно последовавшим за ними пальмам-тьеполо выпало свои плодовито-долгие художнические жизни прожить после той чумы, а до следующей большой чумы, аж до 1576 года, у них было ещё столько времени… После той чумы, унёсшей Джорджоне, воспарили…
* * *Впрочем, сейчас Германтова занимал один Веронезе.
Веронезе писал счастье? И – сам восторг творчества, счастье творчества, выделенные им из тёмных суггестивных основ творения? Разводил на палитре краски, брал кисть и – писал счастье? Раз за разом, собравшись в Мазер, становился в последние дни и ночи Германтов за спиной Веронезе, жизнерадостного дарителя счастья, и будто бы не только финикийскую царевну, но и его, Германтова, пухлявые эроты, помахивая крылышками, игриво осыпали райскими яблочками; стоял за спиной Веронезе и следил за смешением лёгких мазков, растяжкой цветовых гамм, выбором оттенков бирюзы и лазури; а какое богатство оттенков розового: оттенки словно мерцали в воздушно-подвижном ворохе розовых лепестков, подхватываемых ветром… Счастье выделялось из всех пор внутренних трагедий и драм, из тьмы и света, чтобы стать зримым. Веронезе, единственный, умел писать не мифологический сюжет сам по себе, не панорамную историю, а в чистом виде то, что зримо не существует: фантасмагорическое и прозрачно-нежное, идиллическое, то, что не умели писать другие?
Не языческое ли у него ощущение и выражение счастья? Ну да, языческое, какое ещё, усмехнулся Германтов своему вопросу, недаром у Веронезе случались неприятности с инквизицией.
«Самая счастливая картина…»
Точнее не скажешь.
Но никак не вспомнить, кто, какой тонко чувствовавший провидец это смог понять и высказать…
И почему-то не вспомнить никак, кто написал об особом таланте божественных венецианцев – таланте счастья?
Неужели сдавала память? Как пели в благословенно застойные брежневские годочки от лица впавшего в маразм генсека? Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню… Надо бы сделать томографию, проверить мозговые сосуды.
Но тут, забеспокоившись, вспомнит он про виллу в Мазере.
И вновь, вновь увидит то, что хотел увидеть.
Может быть, и фрески, заказанные братьями Барбаро, стали зримым воплощением счастья, зримым, по крупицам собранным кистью Веронезе образом земного рая? Ну да, рассматриваешь росписи, а слышишь пение ангелов. Ну да, ну да, Веронезе в привычном порыве счастья расписал виллу… открытие ценой в две копейки.
Может быть, всё может быть; хотя воспринял ли так те фрески, восславившие счастье и затем прославившиеся в веках, но сплошь закрасившие и грубо исказившие его архитектурный замысел, сам Палладио?
Противоречие? А ведь красота рождается из противоречия, обязательно – из противоречия. Вспомнились разговоры об этом с Соней… Да-да, Палладио и Веронезе, сами того не понимая… да-да, хмурый строгий замкнутый Палладио и жизнерадостный, осчастливливающий Веронезе… Догадка: интроверт и экстраверт, творческие и психологические антиподы, сошедшиеся в Мазере, в вилле Барбаро, а? Запомнить, запомнить… Интроверт и экстраверт! Гипотеза о сшибке контрастных психик может стать плодотворной.
Его притягивали сверхъестественно яркие и чёткие росписи виллы; странно: счастье – в красках, а у самого Веронезе, только что вдохновенно-весёлого, вдруг блеснули злые-злые глаза; смоляная борода с рыжевато-палевыми подпалинами вокруг рта будто бы разрослась, сделалась гуще, губы – обычно, если верить эрмитажному автопортрету, обесцвеченно-бледные – были уже красными и блестящими, а Палладио…
Боже, как они, оба, такие разные, такие великие и недосягаемые на своих сложенных из слепых восторгов, ложных представлений и банальностей пьедесталах, такие идеализированные и по заслугам восславленные – избивали, душили, волокли по грязи… Пугающе ясно увидел вновь забрызганный кровью белый отложной воротник.
За что его так, – за что?
Всего-то за абстрактные допущения?
Нет, он не философ, он не бытию, а искусству задаёт нелицеприятные вопросы, вот почему два контрастно разных именитых венецианца согласованно конкретную угрозу почуяли, они ни за что не расстанутся со своей художественной тайной, не позволят ему… Германтов погружался вновь в тревожный, клочковато-рваный какой-то сон – великие тени опасались его наитий, а когда ожили, уже расправлялись с ним за то, что полез без спросу в святая святых, в творческую их кухню.
* * *Итак, впервые познакомился с Веронезе у Махова, разглядывая чёрно-белую репродукцию «Похищения Европы».
А когда и как довелось узнать о Палладио?
Тогда, наверное, когда Сиверский, дабы маленькому Юре удобнее было сидеть за обеденным столом, машинально взял с соседней полки, положил на стул увесистый толстый том, «Четыре книги о зодчестве».
Да, изданный под редакцией Академии архитектуры, толстый и тяжёлый том с желтоватой, с чёрным жирным шрифтом, обложкой.
И – твёрдый-твёрдый том, на нём неудобно было сидеть.
Сколько раз листал и перелистывал потом Германтов этот многоуважаемый том, вместилище ордерных штудий и палладианских премудростей, упрямо развивавших штудии и премудрости древних, прежде всего Витрувия. – Разглядывал и разгадывал, не умея ещё их читать, такие непонятные, но красивые, как чёрные узоры, чертежи! Листал, листал, как листал и другие книги и старинные журналы с картинками, гравюрами, листал в ожидании зримых неожиданностей. О, его отличала, возможно, до болезненности чрезмерная, но загнанная внутрь детская впечатлительность; листая-всматриваясь и оставаясь внешне спокойным, он возбуждался, увиденное где-то глубоко-глубоко и долго, перепрыгивая из одного неосознанного пароксизма в другой, жило в нём, превращалось – при его-то замкнутости! – в универсальное переживание. С годами, конечно, впечатлительность убывала, разум остужал чувства, будто бы остерегал от восторгов зрения. Да. С годами он пропитывался скепсисом, предвестником равнодушия. И только тогда омертвение души отступало, когда он внезапно ощущал перед собою цель – зовущую и тревожащую; появлялась цель, и жить он начинал заново.
Так-так-так – Германтов взволнованно заворочался. Так-так, интуиция, эмоция, логика. Так, всё связано-перевязано. И прежде чем сделать что-то стоящее, надо обозреть собственную жизнь? События жизни, включая события самые, на первый взгляд, незначительные, и впрямь были связаны невидимыми приводными ремнями с глубинным и непостижимым творческим механизмом.
Связаны-то они связаны… А случай при этом скачет верхом на случае и случаем погоняет.
Но ведь грех жаловаться, случайности издавна, едва ль не с младенчества, будто бы благоволили ему, намечали и затем заботливо корректировали этапы его развития, его путь; и всегда вдохновляюще подсказывали потом, в решающие моменты, нужные повороты мысли.
Восседал когда-то за обеденным столом, восседал, как на приподнятом троне, на фундаментальной книге Палладио. А ложась спать или просыпаясь, посматривал на фасад его церкви. В самом деле, на одной из двух повешенных Сиверским над кроватью Юры гравюр, тех самых гравюр, что и теперь, кстати, тускло отблескивали стёклами в спальне у Германтова, мучнисто белел над волнами лагуны портик монастыря Сан-Джорджо-Маджоре.
Случайность… как ключ зажигания… Или – как приводной ремень?
Или – никакой техники-механики, просто-напросто – мистическое послание, давний намёк судьбы?
А если и случайность, то счастливая ли она? Останется ли и дальше случай на его стороне?
Но ведь случайности – и отдельные, и вся их вездесущая цепь, – каким-то образом связаны с индивидуальной судьбой, со всеми её предупреждениями, намёками… случайности ведь не сами по себе…
Вот-вот, эврика! Случайности не существуют сами по себе.
Случайности намертво вмонтированы в поступь судьбы, случайности определяют её ритмы и повороты?
Так-так, вспомнил, так-так: душа вытащила жребий – слабо вообразить саму процедуру небесной жеребьёвки? Но… допустим, жребий где-то в многомерной запредельности, где обитала до его рождения душа, был вытащен, а Сиверский, тайно оповещённый о сути и векторе жребия, который вытащила душа перед вселением в тело пасынка, своевременно положил затем на стул том Палладио, повесил над кроватью Юры соответствующую гравюру. А Махов, тоже тайно оповещённый свыше, в нужный момент прикнопил к стене своей комнаты-мастерской фото «Похищения Европы», всего-то прикнопил плохонькое, собранное из четырёх частей фото, но привлёк, ещё как привлёк внимание Юрика, усилил тайное любопытство, которое угнездилось в нём… Всё складно складывалось: в скрытно устремлённых подоплёках-планах своих жизнь воспроизводила уже судьбоносно-временной пазл; для всякого значимого жизненного фрагмента, ориентируемого случаем на главную, но пока неясную цель, в нём, пазле, заранее отведено было строго определённое место. Так-так, судьба, покорная жребию, который вытащила душа, и – жизнь-судьба как ограниченное отпущенным сроком пространство предопределённостей, как невидимый пазл… Да ещё управляющие случайности, орудующие внутри пазла, уточняющие кофигурации психологически-событийных фрагментов жизни, чтобы плотно и цельно они в окончательности своей сплотились. Но какой долгий инкубационный период! Давным-давно, в детстве, с учётом итоговой сборки, подбирались сквозные мотивы насчитанных ему лет, в детстве зачинались, потом терпеливо вынашивались идеи, изводящие сейчас? А он, маг и маэстро обратной перспективы, он, умеющий, как никто, «предвидеть прошлое», оглядывается, чтобы выследить…
И оживала в памяти вечеринка, не та, на которой Германтов вознамерился похитить Галю Ашрапян, а Сперанский эффектно надел на своё голое колено очки и веселье едва не переросло в ссору, нет, не та, другая: одна из многих буйно-безмятежных – никто не ожидал скорого на расправу – обухом по коллективной голове? – «Постановления об излишествах» – вечеринок у Сиверского, ему всегда хватало поводов что-нибудь отпраздновать и отметить; перебрасывались через стол весёлые голоса.
– Я вовсе не палладианец, не обзывайтесь, – смеялся Сиверский, разливая по рюмкам водку, – кишка тонка.
– Не открещивайтесь! Кто же, если не вы, Яков Ильич, палладианец? Я что-то, наверное, не расслышал, не понял, – очаровательный лукавец Левинсон, прикладывая раструбом ладонь к уху, артистично симулировал глухоту.
– Жолтовский, один Жолтовский у нас истинный палладианец, учтите, остальным это не по чину, не доросли.
– Да, дальновидный старец безошибочно делал ставки, вот при жизни и угодил в архитектурные святцы!
– Нет, ныне все ему компанию в выгодных святцах спешат составить, – выпад в сторону Левинсона и Фомина? Все, даже недобитые конструктивисты, ныне – записные палладианцы; все вмиг поменяли веру и подновлённым классицистским богам отбивают поклоны, всем захотелось с партийной тарелки кушать.
– Соломон, попрошу аппетит присутствующих не обсуждать! – на правах хозяина с игривой строгостью Майофиса упрекнул-укоротил Сиверский; недобитые конструктивисты-вероотступники, Игорь Иванович и Евгений Адольфович, между тем, плотоядно урча, жевали.
– Слушаюсь, мой генерал! – Соломон Григорьевич лихо поднёс два пальца к виску, однако пустился в алкогольные разглагольствования. – Тем паче что побрезговал нашим столом Жолтовский – впереди всех нас, нечистых, из последних силёнок знаменем веры машет, он, только он, в авангарде «освоения классического наследия»: главный и официальный старец-палладианец с маршальскими эполетами.
– Соломон, – повелительно воскликнул Сиверский, – уважайте седины!
– Рад стараться! – выпученные а‑ля Швейк глаза, два пальца, приложенные к курчавому виску.
– Уважая седины, будем всё-таки справедливы: почтеннейший Иван Владиславович безбожно в молитвах своих засушил Палладио; – Соломон Григорьевич уже состроил серьёзную мину, с деловитой сосредоточенностью-медлительностью намазывал на хлеб с маслом кетовую икру.
– Вы что скажете, Евгений Адольфович, – засушил?
– Когда я ем, я глух и нем!
Игорь Иванович, не переставая жевать, кивнул в знак согласия; так вкусными угощениями увлёкся, что не только жалеть не захотел посмертно засушенного Палладио, но даже про ненавистный храм Спаса на Крови не вспомнил.
– Кто не засушивал? – с обидой в голосе спросил Жук. – Кваренги?
– Эпигоны засушивали-мумифицировали гения – уверовали, что за эту доблесть самих их сочтут великими?
– Разве не сочли? Эпигоны-ампирщики и Кваренги, и Камерон, и ещё кое-кто, но не будем о присутствующих судачить – давно великие.
– Великие – на чужих костях?
– Как иначе? Кости предтеч догнивают, новое величие – прорастает.
– На фоне римского барокко строгий Палладио сыграл роль архитектурного Лютера, теорией и практикой своей всё зодчество, подобно новой церкви, хотел выстраивать, а уж затем, когда сами зодчие причастились, взялись, кланяясь и расшибая в молитвах лбы, упрощать-повторять-насаждать… Всякая стандартизация сушит, – опустив нос, примирительно улыбался Штример, – вот и самого Палладио преданно благодарные сухари-потомки не пощадили.
– Размочим? – Сиверский поднял рюмку.
– Расшибая лбы? – переспросил Фомин и, растерянно заморгав, посмотрел на Сиверского.
Взрыв хохота, опрокидывания рюмок.
Весь вечер именем Палладио в пинг-понг играли.
А заходя наутро к Махову, Юра уже посматривал, пусть и мельком, на репродукцию «Похищения Европы».
Тоже случайность? Конечно, случайность, вмонтированная в судьбу; Палладио и Веронезе повторно, однако – заново, совсем не так, как когда-то, соединялись друг с другом в его судьбе.
Звезда вела? Анюта из последних своих силёнок сжимала его ладошку, про путеводную звезду говорила. Или – проще, зато весомее и… страшнее, куда страшнее – судьба вела, прямо ли, извилисто, но, не спрашивая согласия Германтова, вела, вела и почти что подвела к цели?
Мысли, назойливые мысли, которые он старался, но никак не мог отогнать, варьируясь, замыкались.
Да, теперь, когда цель близка, несомненно – близка, он истово стремится в Мазер, как если бы вилла-фреска заждалась его последнего взгляда, способного наконец увидеть в синкретичном памятнике то, главное но потаённое, скрытое, то, что до сих пор никто другой не увидел.
Так-так, Палладио, твёрдый в принципах своих, – Лютер, архитектурный, и Анюта – Лютер, правда, комнатный; смешно. Мысли уносились и к наставлениям-желаниям Анюты. Надо чем-то жить, чем-то кроме жизни самой, чем-то важным, сверхважным для тебя, чем-то, что… Да, бывают странные сближения, бывают.
Палладио и Веронезе, Палладио и Веронезе как соавторы; уже нерасторжимые для Германтова Палладио и Веронезе; нерасторжимый союз интроверта-зодчего и экстраверта-живописца… Старческий пунктик? С досадой ощутил вновь сухость во рту, противную сухость; вдобавок к тревожным перебоям с памятью не хватало диабета ему для полного счастья… Упрямица Анюта, бескомпромиссная в защите высшей правды и жизненной правоты своей Анюта была комнатным Лютером, а вот Палладио, потомственный каменотёс, твёрдый и стойкий в призвании своём дать обновляемому им зодчеству высокий закон, как и подлинный реформатор Лютер при реформировании церкви, никак не мог, судя по словам и делам своим, отойти от непреложных, всеобъемлющих, по его разумению, строгих принципов строения пространства и формы, не мог, и всё тут! Да, прав Штример, прав: Палладио – по своему непримиримому внутреннему посылу – архитектурный Лютер. А кем же был Веронезе, волшебник драпировок и позолот? Предтечей тотальной визуализации, теснящей и мало-помалу, хотя и всё быстрее, вытесняющей сущности видимостями, изводящей ныне и пространства, и камни?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.