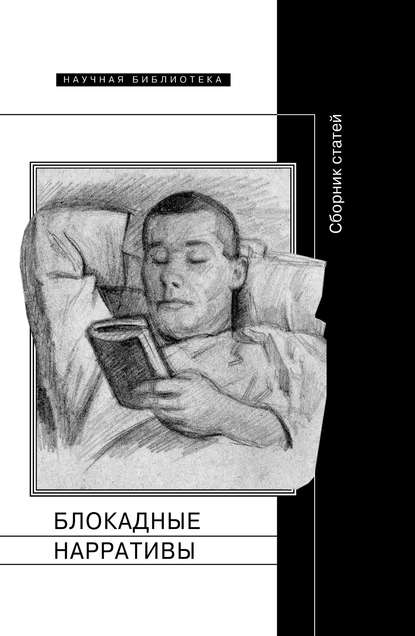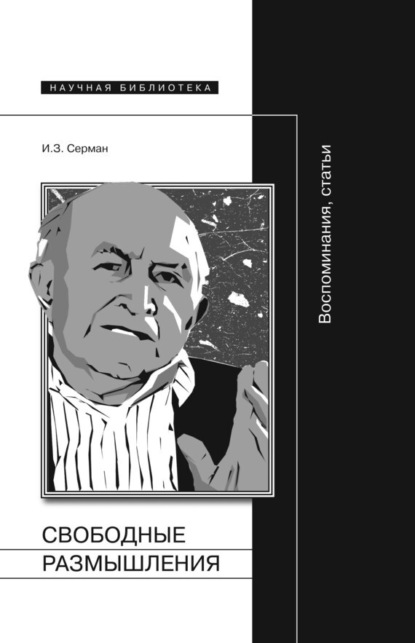Полная версия
Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты
Под таким углом стоит заново обратиться к соотношению понятий «мы» и «партия». Заканчивая отчетный доклад на XV съезде обычными ритуальными лозунгами, Сталин среди прочего объявил:
Трудности будут. Но мы их преодолеем, как преодолевали до сих пор, ибо мы – большевики, выкованные железной партией Ленина.
Сквозь эту, казалось бы, заурядную сталинскую тавтологию сквозит чисто метафизическая дихотомия, идущая от «энтелехии» Аристотеля: дихотомия между органической целостностью и простой совокупностью элементов. Оказывается, партия – как отвлеченное субстанциальное единство – «выковывает» именно тех, из кого она состоит, т. е. самое себя. Партия одновременно имманентна и трансцендентна сообществу большевиков, тождественна и внеположна ему. Ср. в более ранней сталинской речи – на XIII съезде:
Основное в чистке – это то, что люди такого сорта [провинившиеся] чувствуют, что есть хозяин, есть партия, которая может потребовать отчета за грехи против партии. Я думаю, что иногда, время от времени, пройтись хозяину по рядам партии с метлой обязательно следовало бы. (Аплодисменты)
Примечательна уже концовка первой из двух этих фраз: «против партии», а не против себя, что выглядело бы более естественным. Но повтором прикрыт семантический сдвиг. В тавтологической вроде бы конструкции партия латентно раздваивается – на себя самое как активный субъект («хозяин») и пассивный объект действия. Так что, признаться, я не совсем понимаю, чему, собственно, аплодируют участники съезда. Тому, что партия – в целом – как-то загадочно «хозяйничает» над всеми, кто входит в ее состав? И что означает тогда другая льстивая фраза – о партии как хозяине, подметающем «ряды партии»? Ведь такой «хозяин» должен заведомо находиться вне этих самых рядов, занимать по отношению к ним некую обособленную, наружную позицию. Вероятно, делегатов зачаровала комплиментарность и мнимая простота, иллюзорная ясность сталинской элоквенции.
Итак, в партии вычленяется нечто вроде отвлеченного духа охранительной целокупности, субстанциальный сакральный субъект, равный и одновременно внеположный самому себе как эмпирическому скоплению личностей. Вообще говоря, тенденция к метафизическому раздвоению опорных социальных сил заложена была в самой диктаторской природе коммунизма, владычествующего над классом от лица класса и над партией – от лица партии при безотказном содействии «демократического централизма». Ср., например, у Ленина уже в феврале 1918 года, в его обращении от имени ЦК: «Мы уверены, что все члены партии исполнят свой долг перед партией». Вовсе не Сталин изобрел «павлинистскую» интерпретацию РКП как церкви и целостного организма (о чем еще пойдет речь во 2-й главе), но именно он сообщил ей столь заостренно-метафизическое выражение109, проглядывающее, например, уже в заметке 1921 года «Партия до и после взятия власти», где он рассуждает о начальной фазе партийного строительства. Партия вновь распадается – на субъект и объект попечения:
Центром внимания и забот партии [субъект] в этот период является сама партия [объект], ее существование, ее сохранение. Партия рассматривается в этот период как некая самодовлеющая сила.
Кем «рассматривается»? Да, конечно, самой же партией, напоминающей здесь мистико-биологическую Artsееlе или то, что специалисты по экологии называют иногда «гением популяции», пекущимся о выживании последней. Все же Сталин поначалу ощущал, видимо, какое-то неудобство, связанное с ноуменальным инобытием партии, и через несколько строк обратился к другому, правда еще более абстрактному, гению-хранителю:
Основная задача коммунизма в России в этот период – вербовать в партию лучших людей <…> поставить на ноги партию пролетариата110.
Сходную мистическую роль могут выполнять и прочие абстракции, включая науку. В мае 1938 года, выступая в Кремле перед работниками высшей школы, Сталин поднял тост «за науку, которая <…> готова передать народу достижения науки»; «за науку, которая понимает смысл <…> союза стариков науки с молодыми людьми от науки» (тогда же он предложил выпить и «за здоровье науки», что, конечно, усиливало мотив ее ощутимой и без того анимизации)111. Столь же легко раздваивается и сам советский народ у Сталина сообразно его насущным пропагандистским потребностям. Напомню цитату из «Краткого курса»: «Советский парод приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу. НКВД привел приговор в исполнение. Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам». Очевидно, советский народ в первом своем образе – как коллективный судья, действующий посредством карательного аппарата, – отличается от того народа, который лишь пассивно одобряет эту кару. Любопытны тут изменения, которые Сталин внес в проект Государственного гимна СССР. Первоначальную редакцию стиха: «Нас вырастил Сталин – избранник народа» – он переделал так:
Нас вырастил Сталин – на верность народу.
Даже в первом варианте строка выказывала некоторую зависимость от сталинских семантических дублей («нас», т. е. народ, вырастил наш собственный, народный избранник); но знаменательным результатом его вмешательства явилось уже совершенно непостижимое расслоение смысла: Сталин вырастил народ («нас») на верность народу – как целостному и сакральному понятию, отграниченному от своей подвижной и переменчивой земной ипостаси. Между обеими функциями «народа» обретается сам вождь, соединяющий их своим божественным величием.
В дуалистических конструкциях такого рода потусторонний наставник, «коммунизм», «народ» или его столь же надмирные и всегда персонифицированные аналоги неизбежно выказывают фамильные приметы все той же органической энтелехии либо метафизического начала, статичной парадигмы, управляющей бесконечно изменчивой повседневной жизнью. Это недвижное русло коварного диалектического потока – та именно школьно-богословская «основа основ», к всевозможным заменителям которой в риторических видах постоянно прибегает Сталин.
Затейливый образчик раздвоения и даже размножения собственной особы, а вместе с ней Кагановича, как и руководимого тем метро – одновременно и «коллектива», и самого сооружения, – являет собой послание, датированное 4 февраля 1935 года:
До ЦК дошли слухи, что коллектив метро имеет желание присвоить метро имя т. Сталина. Ввиду решительного несогласия т. Сталина с таким предложением и ввиду того, что т. Сталин столь же решительно настаивает на том, чтобы метро было присвоено имя т. Кагановича, который прямо и непосредственно ведет успешную организационную и мобилизационную работу по строительству метро, ЦК ВКП(б) просит коллектив метро не принимать во внимание протесты т. Кагановича и вынести решение о присвоении метро имени т. Кагановича. – Секретарь ЦК И. Сталин112.
Сталин как секретарь ЦК, ставший его суммарным олицетворением, извне смотрит на входящего в состав этого ЦК скромного т. Сталина и одобряет его отказ, внося альтернативное предложение переназвать метро именем столь же скромного т. Кагановича как руководителя всего этого проекта, невзирая на протесты т. Кагановича – уже как члена ЦК, обязанного подчиняться его решению.
Теоретическая жесткость базового сакрального абсолюта – или, лучше сказать, сталинской веры в его наличие – прямо пропорциональна неудержимой текучести его протеических проявлений, предельная статика отвечает предельной динамике113. «Необходимо, – говорит он, – чтобы партия умела сочетать в своей работе непримиримую революционность… с максимумом гибкости и маневроспособности». На уровне стиля такой стратегической двупланности изофункциональна повсеместная особенность сталинской метафорики, маркированная в начале настоящей книги, – синкретизм статики и движения: «Наша партия стояла, как утес <…> ведя рабочий класс вперед», и т. п. И всегдашней особенностью Сталина будет это соединение алтарного догматизма с неимоверной тактической изворотливостью, трупной застылости – с поистине нечеловеческой живостью особого, богомольного упыря.
Иное дело, что под мощным влиянием этого циничного диалектического релятивизма любые конкретные кандидаты на должность абсолюта – Маркс, Энгельс, Ленин, рабочий класс, политбюро, партия – у Сталина постоянно меняют значение и пропорции, взаимоограничиваются.
В бурлении тактических хитростей и борьбы за власть контуры верховной истины, ее концентрические круги неуклонно сужаются вокруг сталинского «мы», подчиняющего себе ту самую «партию», с которой оно вроде бы отождествлялось. Перечисляя на XIV съезде большевистские достижения, Сталин возгласил: «Мы укрепили партию». Анонимные «мы» суть члены той же самой партии, вернее, уже ее руководство, по отношению к которому она оценивается как производная и в чем-то внеположная ему масса, нуждающаяся в цементировании. Но бывает, что и это авторитарное «мы», в свою очередь, незаметно расслаивается, выделяя из себя таинственный остаток, сквозящий за внешне элементарной словесной конструкцией. Ср. в его речи 1937 года:
Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антея.
Кому это – «нам»? Участникам пленума, т. е. самим же большевикам? Исходя из прямого смысла фразы, логичнее было бы заключить, что в данном случае «мы» – это как раз небольшевики, которым большевики (взятые в третьем лице, т. е. «они») кого-то там напоминают. Конечно, подобное толкование идеологически недопустимо, но ясно тем не менее, что между обеими категориями партийцев есть какая-то чуть приметная, молчаливо подразумеваемая грань: «большевики» – это объект, а «мы» – субъект суждения. Однако здесь же раскладывается и сам этот (коллективный) субъект. Как главная, авторизованная его часть, «я», будучи всего лишь одним из «нас», претендует одновременно на некий обособленный – третий – статус: «Я думаю, что они нам напоминают». В качестве сверхсубъекта «я» арбитражно возвышается и над «нами», и над «большевиками»114.
Приведем другое, нарочито запутанное высказывание, пригодное для того, чтобы стать наглядным введением в сталинский дискурс:
Партия, – говорит Троцкий, – не ошибается. Это неверно. Партия нередко ошибается. Ильич учил нас учить партию на ее ошибках. Если бы у партии не было ошибок, то не на чем было бы учить партию. Задача наша состоит в том, чтобы улавливать эти ошибки, вскрывать их корни и показывать партии и рабочему классу, как мы ошибались.
Кого, спрашивается, Ильич «учил учить» ошибающуюся партию, кто здесь авторитарное «мы»? Конечно, это руководство, неповинное в ошибках всей остальной «партии». К кому же тогда относится последующее обвинение в огрехах – «показать партии… как мы ошибались» – ко всей партии или все-таки к «нам» лично, т. е. к этим самым лидерам, кающимся перед кругом соратников? «Мы» снова то растягивается на всю партию, то съеживается до размеров сталинского ЦК. В любом случае совершенно ясно, что только это руководство, обученное Ильичом («мы»), сохраняет, в отличие от профанной публики, целительную прикосновенность к верховному мерилу истины – гаранту распознания и исправления ошибок.
Партия, Ленин и ЦК у Сталина «неслиянны и нераздельны», как лица Св. Троицы в определении Халкидонского собора. Генсек будет то идентифицироваться с любым из этих божеств, то расчетливо от него отстраняться, приобщаясь к смежному сакральному авторитету. В этой постоянной овнешненности взгляда проявляется его ошеломляющая способность к предательству, отступничеству, мгновенному отречению, получившая с годами столь эпохальное воплощение. И пусть в редуцированном виде, но та же диалектика неслиянности и нераздельности распространяется на его собственный «авторский» образ.
Везде и всюду в его писаниях доминирует готовность выйти из пределов своего «я», взглянуть на него, как на объект, со стороны, отграничиться от собственного облика (как всегда отрекался он от своих сообщников) – с тем, чтобы дать ему оценку, претендующую на непредвзятость. Очень часто такая позиция, как и следовало бы ожидать, граничила с прямым распадом или дроблением личности. Вот, например, фрагмент из его беседы с иностранным визитером:
Людвиг. Вы даже не подозреваете, как Вы правы.
Сталин. Как знать, может быть и подозреваю.
В шутливо-несуразную и скептическую ответную реплику мимоходом привнесен оттенок раздвоенности: Сталин как бы вчуже, извне «подозревает» о правоте Сталина, реагирующего на замечание Людвига. (Как можно «подозревать» о собственной правоте, коль скоро без самоочевидной убежденности в ней было бы немыслимо то самое высказывание, которое тут комментируют собеседники?)
Но, конечно, несравненно более внушительный образчик грамматической шизофрении дают его бесконечные упоминания себя в третьем лице, представленные в широчайшем смысловом диапазоне: от нарциссического призыва Сталина – председателя Госкомитета обороны «сплотиться вокруг партии Ленина–Сталина» (в начальный период войны) до критических замечаний относительно устарелости или неактуальности некоторых положений, выдвинутых в трудах «тов. Сталина». Впервые такую отсылку, данную еще в шутливо-конспиративной форме, я нашел в его письме 1914 года, отправленном Малиновскому из ссылки: «Здравствуй, друг! <…> Мне пишет один из питерских моих приятелей, что работников-литераторов страшно мало в Питере. Если это верно, напиши – я скажу И. Сталину, чтобы он почаще писал. Все-таки помощь»115. С середины 1920‐х он всячески закрепляет этот диковатый грамматический ход – причем не без стимулирующего влияния Троцкого, который тогда тоже повадился говорить о себе в этой манере116.
Склонность к автоцитатам объясняют обычно сталинской мегаломанией, что все же не совсем справедливо. Разумеется, было здесь, как у Троцкого, и самолюбование, упоение своим звучным псевдонимом. Но вместе с тем эту привычку говорить о себе в третьем лице Сталин субъективно мог интерпретировать совсем по-другому – как пропагандистски выигрышную декларацию скромности, сопряженной с отказом от кичливого выпячивания своего «я». Подобно Троцкому, он опирался на классическую и весьма почтенную традицию, заданную, в частности, Юлием Цезарем, который в своих «Записках о Галльской войне» писал о себе в третьем лице.
Вообще говоря, иерархическое соотношение между «тов. Сталиным» и ссылающимся на него «я» (чаще всего, правда, само слово «я» в таких случаях скромно опускалось) было сложным и переменчивым. Ему случалось и восхвалять, и, как сказано, порицать свои работы. Но в обоих случаях тот, кто выступал с их овнешненной оценкой, представительствовал от некоей глобальной, непререкаемой истины, безотносительно к тому, облачался ли он в одеяние ее харизматического вестника или смиренного служителя. Впрочем, подробнее о двупланности его авторского образа будет сказано в последней главе.
Хозяин и работник
В социально-административной риторике Сталина место абсолюта занимают, естественно, официальные правители страны – ее партийно-пролетарские «массы». Ведь, согласно усвоенному генсеком канону «демократического централизма», авторитарная элита в конечном счете управляется партийными низами, делегирующими ей свою волю. В борьбе с оппозицией Сталин виртуозно, как никто другой в партии, орудует этими демагогическими трюизмами, ревностно отстаивая культ «дисциплины», который он начал усваивать еще на заре своей партийной карьеры, когда боролся с горделивыми меньшевиками. «Оказывается, – писал он в 1905 году, – партийная дисциплина выдумана для таких, как мы, простых работников!» Добиваясь массовой поддержки, Сталин с 1920‐х годов грубо имитирует верноподданническую преданность идеалу плебейского коллективизма, противопоставляя его зазнавшимся партийным вельможам и облекая эту антитезу в доходчивые формы примитивно-экономической субординации, в отношения между «хозяином» и работником. Поучая Троцкого, он превозносит партию за то, что у нее «выросло чувство силы и достоинства, что партия чувствует себя хозяином и она требует от нас, чтобы мы [т. е. члены партии] умели склонить голову перед ней, когда этого требует обстановка». Впрочем, чудесный прилив совершенно аналогичных чувств испытывают, по наблюдению генсека, и все прочие хозяева Советского государства. На этот счет он ничуть не скупится:
За последнее время, – говорит он в 1925 году, – у рабочего класса особенно развилось и усилилось чувство силы и чувство своего достоинства. Это есть возросшее чувство хозяина у класса, представляющего в нашей стране господствующий класс.
Словом, не прошло и восьми лет после объявления «диктатуры пролетариата», как этот последний – причем почему-то на взлете нэпа – наконец-то начал ощущать себя пусть не диктатором, но все же хозяином страны. Уже в 1950‐е годы Сталин снова говорит, что рабочий класс «держит в своих руках власть и владеет средствами производства». По-хозяйски ведет себя, как следовало ожидать, и колхозное крестьянство. В начале 1933 года, т. е. в разгар Голодомора, генсек, выступая на пленуме, порадовался за счастливого советского мужика:
Теперь крестьянин – обеспеченный хозяин, член колхоза, имеющего в своем распоряжении тракторы, сельхозмашины, семенные фонды, запасные фонды и т. д., и т. п.
Здесь уже упоминался тост, который на самом разбеге террора, в июне 1937 года, Сталин поднял в Кремле за руководителей работников металлургической и угольной промышленности и в котором он, согласно черновой записи, семь раз обмолвился словом «вышка». Стремительная текучесть уничтожаемых им кадров, видимо, навела его на унылую мысль о бренности всего живого, и тогда он впервые противопоставил им нетленную субстанцию – народ как неисчерпаемый резерв подданных (подробнее об этом см. в 4‐й главе, в предпоследнем разделе – «Русло потока»). «Руководители приходят и уходят, – сказал вождь, – а народ остается и он всегда будет жить. Скажите, кто живет вечно? Если кто живет вечно, – это народ. Был руководитель – ушел». Более того, добавил он с вещим скепсисом, «я даже не уверен, что все присутствующие, я очень извиняюсь перед вами, здесь за народ. Я не уверен, что и среди вас, я еще раз извиняюсь, есть люди, которые работают при Советской власти и там еще застрахованы (sic) на западе у какой-либо разведки – японской, немецкой или польской. Я не уверен еще в этом»; «Очевидно, люди не поняли, на какие вышки их история поставила».
Нас, однако, интересует пока другое – неистребимая тяга генсека к симметричным конструкциям, развернутым в данном случае применительно к взаимоотношениям народа и начальства. «Быть хозяином в старое время – это значит заслужить ненависть у народа, заслужить кличку „лакея“, заслужить ненависть народа, – сообщил он. – Некоторые наши руководители – наши хозяйственники не понимают еще, на какие большие посты их история поставила и что это значит» (подразумеваются, конечно, именно те непонятливые руководители, что уже завербованы японской и другими разведками). Безотносительно к этому позыв к жесткой симметрии сам по себе побуждает его, однако, назвать советских руководителей (и лояльных, и прочих) тоже «хозяевами» – вместо «хозяйственников», – а бранную кличку: «лакей», ненавистный народу, заменить ее советским адекватом. В итоге получилось нечто до того странное, что и сам оратор был озадачен собственной риторикой – ничуть, впрочем, не смутившей восторженную аудиторию: «Наши руководители – это хозяева народные, руководители народа, его слуги. // Как видите, тост у меня получился необычайный, конечно, и может быть не совсем понятный (голоса: понятно, понятно)». Но ведь «хозяева народа» при любом раскладе – это все же никак не его «слуги»? Чтобы выйти из положения, Сталин под конец попросту отождествил напрямую этих своих «хозяйственников» и «хозяев»: «Так вот: за хозяйственников, которые <…> должны быть хорошими хозяевами»117.
Ясно, что от благорасположения этого державного народа безоговорочно зависит и его руководство, включая советское правительство и самого вождя. Ведь всевластному народу ничего не стоит уволить своих нерадивых слуг, особенно тех, кто претендует на диктатуру: «Никогда, ни при каких условиях, наши рабочие не потерпели бы теперь власти одного лица», – втолковывает он в 1931 году Э. Людвигу, очарованному советской демократией.
Дело не только в демагогии, сверхъестественном лицемерии или лицедействе Сталина. Отработанная им комическая инверсия подлинной социальной иерархии внутренне мотивирована, ко всему прочему, той же метонимической и синекдохической поэтикой. Его «авторский образ» беспрестанно балансирует между двумя полюсами, по карнавальной оси перемещаясь от амплуа вождя, олицетворяющего и концентрирующего в себе волю всего советского общества, до мизерной частицы этого необъятного социума, послушной его суровой власти. В этой шутовской амплитуде было нечто от забав Петра Великого или – если обратиться к еще более употребительной аналогии – от Ивана Грозного, который подвизался то на правах богоравного самодержца, то в карнавальной роли «пса смердящего» – жалкого грешника либо убогого подданного государя Симеона Бекбулатовича. Подобным государем или, если угодно, всемогущим «князь-кесарем» мог быть для Сталина пленум ЦК и партийный съезд, а также ВЦИК, президиум «всенародно и свободно избранного» Верховного Совета и его августейший председатель – «Михалываныч» Калинин, возглавлявшие, согласно сталинской конституции, Советское государство. Для своих бесчисленных рабов Сталин всегда оставался «вождем и учителем», «солнцем народов», «корифеем» и пр., но официальный его титул в течение долгих лет маркировал подчиненную, вспомогательную миссию при коллективном начальстве, – всего-навсего «секретарь ЦК», как он расписывался на директивных документах. «Я человек подневольный», – любил он повторять.
У всесоюзной игры имелся пародийно-домашний эквивалент, подсказанный как плебейско-подьяческим воображением Сталина, знавшего лишь две социальные ниши – холопа и властелина, – так и его национально-этнографическими ассоциациями. Свою малолетнюю дочь диктатор величал «хозяйкой» (во 2-й главе мы коснемся и непосредственно кавказской подоплеки этого прозвища), у которой он, ничтожный «секретаришка», покорно испрашивал «приказы»118.
Копыта партии
Инверсии такого рода отражаются в диалектических причудах пространственно-двигательной семиотики Сталина, неоднократно упоминавшихся на этих страницах. Мы говорили, помимо прочего, о свойственном ему сплетении статики и динамики. В остальных случаях отмечалась странная взаимообратимость и двуединство таких симметричных категорий, как внешняя и внутренняя, лицевая и обратная стороны объектов, движение вперед и назад, верх и низ. Удобной иллюстрацией к сталинскому восприятию социальной иерархии может служить традиционнейшая метафора политического движения к цели или государственного строительства как скачки. Сталин настойчиво пользовался этой кавалерийской аллегорикой, словно компенсируя свой – действительно странный для кавказца и так называемого создателя Первой конной – страх перед лошадьми и верховой ездой. «Эти государства… – бросил он как-то в беседе с Роем Говардом по поводу соседей Советского Союза, – прочно сидят в седле». По отношению к народу и стране правящая партия изображалась им в контурах Петра Великого – т. е. в образе седока или жестокого, властного наездника. Комментируя «итоги первой пятилетки», он высказался на этот счет достаточно откровенно:
Партия как бы подхлестывала страну, ускоряя ее бег вперед <…> Нельзя не подгонять страну, которая отстала на сто лет.
В 1930‐е годы он не раз призывает «новых людей», новые промышленные кадры – «оседлать» и «погнать вперед» технику, а на склоне лет, в «Экономических проблемах социализма», говорит о способности общества «оседлать» даже экономические законы. В то же время и сама эта партия наделяется теми же приметами ездового животного, что и все прочие подданные, – например, копытами:
Партия должна подковать себя на все четыре ноги.
Если тут с газетной непринужденностью собраны в нелепый химерический образ конь и подковывающий его кузнец, то чаще всего Сталин ограничивается прямым сопоставлением любимой партии с тягловой скотиной:
В партии имеются коренники и молодые… центровые и окраинные люди.
Большинство ЦК, запрягшись в государственную телегу, двигает ее вперед с напряжением всех своих сил.
Согласно его речи от 13 апреля 1928 года, не обделен этой почетной обязанностью и рабочий класс – тот самый, который (в том же выступлении) изображается им в качестве «хозяина» страны:
Нам нужно поставить дело так, чтобы бдительность рабочего класса развивалась, а не заглушалась, чтобы сотни тысяч и миллионы рабочих впрягались в общее дело социалистического строительства119.
Не забыта, разумеется, вторая классовая составная советского общества. Еще раньше Сталин выразил надежду на то, что удастся