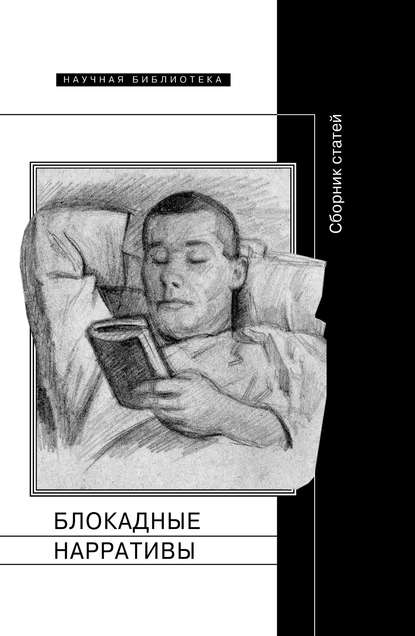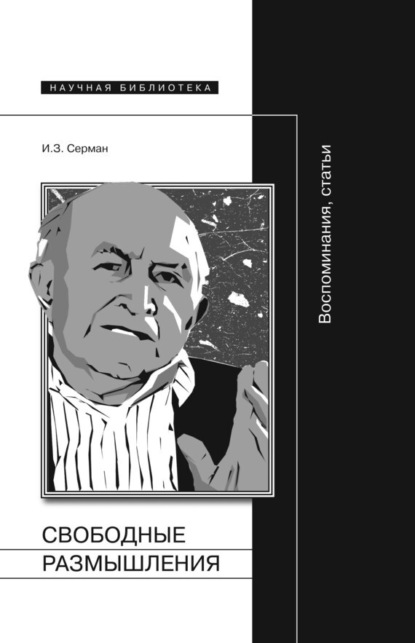Полная версия
Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты
в) Поступать так, «как это делает т. Ярошенко, – значит подменить марксизм богдановщиной» [прямое отождествление с врагом] (С. 70).
Но Сталину нужен гораздо более демонизированный противник, чем полузабытый Богданов, – и он без труда его находит:
а) У него [Ярошенко] получается… что-то вроде бухаринской [аналогия] «общественно-организационной техники» (С. 64);
б) В этом вопросе т. Ярошенко перекликается с Бухариным [контакт, т. е. общность] (С. 71);
в) На самом деле он делает то, что проповедовал Бухарин и против чего выступал Ленин. Тов. Ярошенко плетется по стопам Бухарина [непосредственное отождествление и причастность] (С. 72).
Справедливости ради надо сказать, что приоритет в использовании подобных приемов принадлежит все же Ленину, о чем можно судить хотя бы на материале «Материализма и эмпириокритицизма». У Сталина такие ходы могут носить принципиально безличный характер, как происходит, допустим, в его докладе на XVII съезде (1934): «Эта путаница в головах и эти настроения, как две капли воды, похожи на известные взгляды правых уклонистов». Затем от сходства «двух капель» дается переход к их прямому слиянию; точнее, аналогия подменяется гомогенностью, идеей прорастания (ср. «зародыш») и губительного укрупнения уцелевшей части: «Как видите, остатки идеологии разбитых антиленинских групп вполне способны к оживлению». Инквизиторская отмычка действует безотказно: «Случайно ли это совпадение взглядов? Нет, не случайно…»
Несколько иную версию ступенчатой схемы Сталин использовал в 1940 году, когда гнобил А. Авдеенко. Динамика такова: 1) «Весь грех Авдеенко состоит в том, что нашего брата – большевика – он оставляет в тени, и для него у Авдеенко не хватает красок»; 2) «Он так хорошо присмотрелся к врагам, познакомился с ними до того хорошо, что может изобразить даже с точки зрения отрицательной и с положительной»; 3) «Я бы хотел ошибиться, но, по-моему, едва ли он сочувствует большевикам»; 4) «Я думаю, что он человек вражеского охвостья <…> и он с врагами перекликается»86. Главное – приобщить жертву к врагам, агентами которых и предстают все эти Богдановы, Бухарины, как и примкнувшие к ним Ярошенко или Авдеенко.
Мы соприкасаемся здесь с универсальным качеством сталинской риторической технологии: несмотря на свою дань революционной метафорике, подлинное первенство она отдает метонимии и синекдохе, роднящим ее одновременно и с архаикой, и, естественно, с авангардом (к которому так настойчиво прикрепляет Сталина Борис Гройс87). В позитивном аспекте эта – по сути, чисто пространственная – поэтика эстетически соответствовала организационной модели большевизма, исходно строившегося – по крайней мере, в теории – как унифицированная структура однородных расходящихся ячеек, управляемых из общего центра88. (И под ту же модель со временем подстраивался образ идеологического противника – только он представительствовал от другой, враждебной совокупности.) Сам этот центр официально призван был замещать «партию в целом», подавляя от ее имени любые претензии на качественные отличия и самобытность. По определению Ленина в «Шаг вперед, два шага назад», такая система обуславливалась неукоснительным подчинением «части целому», готовностью «пожертвовать всей и всякой групповой особностью и групповой самостоятельностью в пользу великого, впервые на деле создаваемого нами, целого: партии»; так налаживалась «единая партийная связь всех социал-демократов России», «материальное единство организации» – в противовес идейной, т. е. субъективной и расплывчатой, «интеллигентской» доминанте, выдвигавшейся меньшевиками.
Легко разглядеть, конечно, кровную связь между этой декларативной ориентацией на принципиальную гомогенность движения и марксистско-плехановским пафосом безличных масс, растворяющих или приобщающих к себе индивида. Марксизм дружески аукался с традиционной имперсональностью и «соборностью» отечественной религиозной традиции, перелицованной на пролетарский и пролеткультовский лад. «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз. Сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени класс», – писал уже в советское время бывший сверхиндивидуалист Маяковский, вторя заветам агитпропа. И когда Сталин лицемерно рассуждает о «капле» и «океане», он просто переиначивает траурное обращение ЦК после смерти Ленина: «Каждый член нашей партии есть частичка Ленина»89.
Безусловно, сталинская пропаганда вовсю разрабатывала именно «исторические параллели»: Александр Невский, Иван Грозный и Петр Первый как бы «прообразовывали» вождя. Но тут необходимо учитывать установочное расхождение между официально-экстатическим сталинским культом и его «авторским образом», канонизированным в речах и писаниях90. Индивидуальная стилистика Сталина по большей части манифестирует умышленный разрыв с этой выспренней пропагандой, опирающейся на громоздкие исторические прецеденты, создавая вождю алиби за счет его большевистской «скромности», деловитости и реализма. Он выступает как часть, адекватно представляющая целое, как безлично-аскетическое воплощение партийной веры, воли – и несокрушимой марксистской «логики». Рассмотрим ее подробнее, начав, так сказать, с математических представлений Сталина.
Процент истины
Марксистская политэкономия и большевистский коллективизм, вечный примат класса, массы над ничтожной «частицей» стимулировали цифровой подход к реальности, который уже в сталинские (и послесталинские) времена трансформировался в статистическую манию режима, вечно озабоченного подсчетами своих военных, экономических и прочих достижений. С неменьшим усердием режим занимался, однако, их агитационной фальсификацией. И конечно, непревзойденным мастером или изобретателем подобных ухищрений и подтасовок был Сталин.
Цифры, как и сама жизнь, должны соответствовать его теоретическим прозрениям – а не наоборот. Выступая на XV съезде (декабрь 1925 года), он свирепо обрушился на крайне неприятные ему статистические данные по социальной дифференциации крестьянства в советское время (до «великого перелома» еще далеко, и Сталин, придерживающийся «правой» ориентации, пока вовсе не заинтересован в увеличении процента кулаков):
Я читал недавно одно руководство, изданное чуть ли не агитпропом ЦК, и другое руководство, изданное, если не ошибаюсь, агитпропом ленинградской организации [т. е. зиновьевцами, «левыми»]. Если поверить этим руководствам, то оказывается, что при царе бедноты было у нас что-то около 60%, а теперь у нас 75%; при царе кулаков было что-то около 5%, а теперь у нас 8 или 12%; при царе середняков было столько-то, а теперь меньше. Я не хочу пускать в ход крепких слов, но нужно сказать, что эти цифры – хуже контрреволюции. Как может человек, думающий по-марксистски, выкинуть такую штуку, да еще напечатать, да еще в руководстве? <…> Как могут болтать такую несусветную чепуху люди, именующие себя марксистами? Это ведь смех один, несчастье, горе.
На сталинском жаргоне точные данные называются утратой научной объективности91 (хотя в повседневной работе он предпочитал, разумеется, реальную статистику, а не диалектические выкрутасы).
Мы верим в то, – добавил он, – что ЦСУ есть цитадель науки <…> Мы считаем, что ЦСУ должно давать объективные данные, свободные от какого-то ни было предвзятого мнения, ибо попытка подогнать цифру под то или иное предвзятое мнение есть преступление уголовного характера.
Напрасно протестовал П. Попов из ЦСУ, взволнованно обвинявший Сталина в клевете на свое учреждение и в фальсификации выводов, – его статьи «Правда» отказалась печатать92.
В конце 1935 года (период второй пятилетки), призывая комбайнеров усерднее работать ввиду «колоссального роста потребности в зерне», вождь сослался на демографический бум:
Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается около трех миллионов душ93.
А всего через три года, уже после Большого террора, когда перепись катастрофически поредевшего населения была объявлена вредительской, Сталин на XVIII съезде инкриминировал работникам Госплана использование тех же цифр:
Эти товарищи ударились в фантастику не только в области производства чугуна. Они считали, например, что в течение второй пятилетки ежегодный прирост населения в СССР должен составить три-четыре миллиона человек, или даже больше того. Ого тоже была фантастика, если не хуже.
К статистике, предназначенной для пропагандистских целей, он вообще относится творчески, избегая начетничества, что явствует, к примеру, из продиктованного им числа погибших в войне 1941–1945 годов, которое он снизил до семи миллионов. Тогда же, еще во время войны, перед ним возникла неприятная дилемма. Чтобы как-то убавить, приостановить массовую сдачу в плен, нужно было припугнуть красноармейцев указанием на массовое же истребление военнопленных, проводимое немецкими властями. С другой стороны, ему требовалось всячески скрывать подлинные масштабы этой ужасающей капитуляции, которую он приравнивал к измене и дезертирству. Двойственная задача разрешилась статистическим компромиссом. В ноябре 1942 года, когда количество советских солдат, погибших или замученных в немецком плену, уже приблизилось к трем миллионам94, Сталин заявил: «Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них».
Он ловко манипулирует пропорциями явлений, степенью их «внутренней значимости». В 1935 году, выступая на Всесоюзном совещании стахановцев, он сказал:
Стаханов поднял техническую норму добычи угля впятеро или вшестеро, если не больше.
Задача сталинской демагогии – распространить фантастические достижения Стаханова на всю промышленность, сделав их чуть ли не обязательной нормой производительности труда. Для этого он далее, в той же самой речи, преподносит некий статистический фокус, внезапно удваивая стахановские рекорды:
Стаханов перекрыл существующую техническую норму, кажется, раз в десять или даже больше. Объявить эти достижения новой технической нормой для всех работающих на отбойном молотке (sic) было бы неразумно. Очевидно, что придется дать норму, проходящую где-либо посредине между существующей технической нормой и нормой, осуществленной тов. Стахановым.
Иначе говоря, за счет эластичного «кажется», объем выработки, навязываемый уже всем шахтерам, и составит изначальное стахановское завышение нормы «впятеро или вшестеро».
Подчас его идеологические выкладки выглядят настолько причудливо, что напоминают школьные упражнения с дробями:
Мы в СССР осуществили девять десятых тех двенадцати требований, которые выставляет Энгельс.
Раковский изменил втрое и сократил вчетверо резолюцию.
Почему, спрашивается, в 1929 году внезапно (и к изумлению Бухарина) начала обостряться классовая борьба, хотя число «капиталистических элементов» неимоверно сократилось? Оказывается, дело в том, что, «несмотря на падение их удельного веса, абсолютно они все-таки растут». Это сказано без тени юмора.
Неважно, какова доля правды в тех или иных – отрицательных или положительных – утверждениях Сталина. Ему достаточно любой зацепки, чтобы вызвать к жизни исполинскую тень врага на пропагандистском экране. По этому поводу часто цитируется его заявление, прозвучавшее на докладе «О работах апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК» (1928):
Иногда ругают критиков за несовершенство критики, за то, что критика оказывается иногда правильной не на все 100 процентов. Нередко требуют, чтобы критика была правильной по всем пунктам, а ежели она не во всем правильна, начинают ее поносить, хулить. Это неправильно, товарищи. Это опасное заблуждение. Попробуйте только выставить такое требование, и вы закроете рот сотням и тысячам рабочих, рабкоров, селькоров <…> Ежели вы будете требовать от них правильной критики на все 100 процентов, вы уничтожите этим возможность всякой критики снизу, возможность всякой самокритики. Вот почему я думаю, что если критика содержит хотя бы 5–10 процентов правды, то и такую критику надо приветствовать, выслушать внимательно и учесть здоровое зерно. В противном случае, повторяю, нам пришлось бы закрыть рот всем тем сотням и тысячам преданных делу Советов людей, которые недостаточно еще искушены в своей критической работе, но устами которых говорит сама правда.
Выходит, надо защищать не оклеветанных людей от травли, в которой содержится всего лишь «5–10 процентов правды» (их возражения и контраргументы парадоксально оцениваются как «хула на критику»), а самих клеветников. Это не только прямое поощрение массового доносительства95 – здесь предвосхищены будущие разнарядки по процентам арестов в годы коллективизации и массового террора96. И действительно, в 1937‐м он объявит, что если в доносах «будет правды хотя бы на 5%, то это уже хлеб»97.
Вместе с тем, если того требуют тактические условия, та же минимальная норма достоверности легко может быть обращена против стукачей, «устами которых говорит сама правда». В статье «Против опошления лозунга самокритики» (июнь 1928 года) Сталин, стремясь застраховать своих выдвиженцев, дает цифрам совершенно противоположную, но столь же гибкую интерпретацию98, на сей раз отождествляя именно критику с недопустимой травлей:
Конечно, мы не можем требовать, чтобы критика была правильной на все 100 процентов. Если критика идет снизу, мы не должны пренебрегать даже такой критикой [т. е. уже не «приветствовать» ее], которая является правильной лишь на 5–10 процентов. Все это верно. Но разве из этого следует, что мы должны требовать от хозяйственников гарантии от ошибок на все 100 процентов? <…> Разве трудно понять, что самокритика нужна нам не для травли хозяйственных кадров, а для их улучшения и их укрепления?
Если «5–10 процентов правды» могут быть важнее тьмы низких истин, ибо определяют главенствующую тенденцию, то последняя вообще не нуждается в реальной основе или, точнее, испытывает в ней самую минимальную потребность. В предисловии к брошюре Е. Микулиной «Соревнование масс» (1929) Сталин высоко оценил ее «попытку дать связное изложение материалов из практики соревнования» – «простой и правдивый рассказ о тех глубинных процессах трудового подъема, которые составляют внутреннюю пружину социалистического соревнования». Приведу некоторые зарисовки этого трудового подъема из главы «Зарядье»:
Даже сама фабрика словно не та стала. На полу ни соринки не найдешь <…> В воскресенье собрались ткачихи фабрику мыть. В первый раз узнали стены и окна, что такое мочалка и мыло.
От прядильни говорила Бардина <…> – Пусть ткачихи нос не дерут перед нами. Я думаю, бабочки, что как мы возьмемся, так очень просто можем их обогнать99.
Но Сталина поджидала неприятность – Феликс Кон переслал ему уничижительный отклик некоей Руссовой на простую и правдивую брошюру Микулиной, в котором указывалось, что журналистка просто выдумала воспеваемое ею «соревнование масс» со всеми его реалиями. В ответ уязвленный Сталин осудил не благонамеренные домыслы Микулиной, а вполне конкретные возражения Руссовой:
Рецензия т. Руссовой производит впечатление слишком односторонней и пристрастной заметки. Я допускаю, что прядилки Бардиной нет в природе и в Зарядье нет прядильной. [Т. е. нет тех самых предприятий, где проводится «соревнование».] Допускаю также, что Зарядьевская фабрика «убирается еженедельно». Можно допустить, что т. Микулина, может быть, будучи введена в заблуждение кем-нибудь из рассказчиков, допустила ряд грубых ошибок, и это, конечно, нехорошо и непростительно. Но разве в этом дело? Разве ценность брошюры определяется отдельными частностями [т. е. ее достоверностью], а не общим направлением? Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений <…> но разве из этого следует, что «Тихий Дон» – никуда не годная вещь, заслуживающая изъятия из продажи? В чем состоит достоинство брошюры т. Микулиной? В том, что она популяризирует идею соревнования и заражает читателя духом соревнования <…> Я думаю, что брошюра т. Микулиной, несмотря на ее отдельные и, может быть, грубые ошибки, принесет рабочим массам большую пользу (1929; первая публикация – 1949).
Этот подход уже полностью предопределяет или, как говаривали в семинарии, «прообразует» утопию социалистического реализма100. В 4-й главе «Краткого курса» Сталин объявил: «Для диалектического метода важно прежде всего не то, что кажется в данный момент прочным, но начинает уже отмирать, а то, что возникает и развивается, если даже выглядит оно в данный момент непрочным, ибо для него неодолимо только то, что возникает и развивается». Фактически он действует по тому же способу, который однажды приписал основателю большевизма. По его утверждению, дабы «предупредить партию и застраховать ее от ошибок», Ленин «иногда раздувает „мелочь“ и „делает из мухи слона“». (На сей раз полемический смысл данного заявления, впрочем, состоял именно в том, чтобы дискредитировать ссылки оппозиции на Ленина, сведя его высказывания к «мелочи».)
Часть или целое
Труднодостижимый ленинский идеал идеологической и организационной целостности – сплоченности, спаянности – большевизма был одной из тех установок движения, которые наиболее импонировали Сталину уже благодаря церковным ассоциациям, а также, вероятно, в силу ее самоочевидного родства с фольклорно-магической оппозицией целый – нецелый, целое – часть. В его сочинениях целостный образ – например, партии, ленинского учения, некоей политической ситуации – постоянно противопоставляется дробному и ущербному восприятию тех же предметов, непременно отличающему меньшевиков, троцкистов и пр. Вместе с тем, как мы только что видели, само соотнесение частного и общего, совокупного носит у него несравненно более хитроумный, скользкий и взаимообратимый характер, чем у всех других партийных писателей, – обстоятельство, парадоксально связанное и с гораздо большей его приверженностью к таким допотопным формам мировосприятия, как тавтологические и особенно кумулятивные модели, о которых мы будем говорить отдельно. Если в тавтологической цепочке все положения наличествуют в самом первом или даже любом из них, значит, эта часть («основа, корень», т. е. потенция развития) на деле равна целому.
Любую деталь, взятую в умозрительной проекции, Сталин готов объявить целокупным феноменом, любую целостность – частной и незначительной подробностью целого. В апреле 1928 года, к примеру, он следующим образом оспаривал критику Бухарина, встревоженного террористической практикой хлебозаготовок: «Поступать так – значит закрывать глаза на главное, выдвигая на первый план частное и случайное».
Беспрестанно генерализуя чьи-либо выдергиваемые из контекста словеса, обмолвки, «документы», бумажные «факты», ленинские и прочие цитаты, Сталин демонстрирует настоящие чудеса вербальной эквилибристики. Его политическое чувство слова и функциональная обработка чужого стилевого материала граничат с писательским озарением. Но если к «документам» и цитатам прибегает противник, то Сталин обвиняет его в использовании метода «вырванной цитаты», в неспособности к целостному, духовному усвоению текста. «Тут богатое поле для цитат, – говорит он с горечью о ленинских высказываниях разных лет, – тут богатое поле для всякого, кто хочет скрыть правду от партии»; «В чем состоит зиновьевская манера цитирования Маркса? Ревизионистская манера цитирования Маркса состоит в подмене точки зрения Маркса буквой, цитатами из отдельных положений Маркса», – и именно в этой манере уличается Зиновьев. (Выходит, ревизионизм заключается не в ревизии, т. е. пересмотре Марксовых текстов, а в дотошном следовании им.) Семинаристская выучка только стимулирует тягу Сталина к этому общебольшевистскому противопоставлению духа и буквы марксизма, которое он успешно обращает против соратников по партии: «Некоторые „читатели“, умеющие „читать“ буквы, но не желающие понять прочитанное, все еще продолжают жаловаться, что Ленин их „запутал“ в вопросе о природе нашего государства <…> Выход, по-моему, один: изучать Ленина не по отдельным цитатам, а по существу, изучать серьезно и вдумчиво, не покладая рук».
Сам же Сталин, если возникает необходимость, охотно эксплуатирует не только «отдельные цитаты», но и какие-то полунамеки и просто невразумительные замечания Ленина, раздувая их в целостную концепцию, «простую и ясную». А когда несравненно более «простые и ясные» ленинские тезисы действительно складываются в целостную доктрину, но по каким-то соображениям его не устраивающую, в дело идут всевозможные выверты по расподоблению целостного понятия, освобожденного от бремени однозначности и строгой очерченности: «То, что у тов. Ленина является оборотом речи в его известной статье, Бухарин превратил в целый лозунг». Ленинскому слову в подобных случаях Сталин приписывает несвойственную ему метафоричность, иносказательность, поступаясь тем самым своей обычной тягой к прямолинейно-расширительным выводам.
Выразительный пример такой лексической джигитовки – история с термином «диктатура партии», которым охотно оперировал достаточно откровенный Ленин, так что выражение, естественно, закрепилось в официальных партийных резолюциях (хотя оно драматически расходилось с Марксовым пониманием «диктатуры пролетариата», обозначавшей правление народного большинства). Сталину, с его ориентальным лицемерием, ленинский термин не пришелся по вкусу, и он стал опровергать его затейливыми ссылками на самого автора, который будто бы «не считал формулу „диктатура партии“ безупречной, точной, ввиду чего оно употребляется в трудах Ленина крайне редко и берется иногда в кавычки». Протестуя против ее отождествления с «диктатурой пролетариата», Сталин поучает:
«Но это же чепуха, товарищи. Если это верно, то тогда не прав Ленин, учивший нас, что Советы осуществляют диктатуру, а партия руководит Советами». Ср. в другом месте сходную мысль насчет правления политбюро: «Я вовсе не хочу сказать, что партия наша тождественна с государством. Нисколько. Партия есть руководящая сила в нашем государстве. Глупо было бы говорить на этом основании, как говорят некоторые товарищи, что Политбюро есть высший орган в государстве. Это неверно. Эта путаница, льющая воду на мельницу наших врагов. Политбюро есть высший орган не государства, а партии [что, кстати, неправильно: по уставу, «высший орган» партии – ее съезд], партия же есть высшая руководящая форма государства.
Казалось бы, раз в стране установлена «диктатура пролетариата», которой, в свою очередь, «руководит партия», то отсюда непреложно следует, что руководство диктатурой и есть сама диктатура в ее высшей инстанции, – но Сталину совсем ни к чему пересуды о том, что именно он, как генсек партии, теперь практически правит государством (в те годы уже популярна острота оппозиционеров насчет «диктатуры секретариата»). Везде и всюду срабатывает двойная формула: «Нельзя противопоставлять… Нельзя отождествлять». Ср. в его выпаде против Зиновьева:
Что значит отождествлять диктатуру партии с диктатурой пролетариата? Это значит… ставить знак равенства между целым и частью этого целого, что абсурдно и ни с чем не сообразно.
В таких случаях целое и его часть расслаиваются уже поэтапно:
Между партией и классом стоит целый ряд массовых беспартийных организаций пролетариата, а за этими организациями стоит вся масса пролетариата.
На сей раз задача – ввести посредующие звенья, чтобы удлинить дистанцию и забормотать, загромоздить, заслонить главенствующее место партаппарата в системе власти. Однако я предложил бы читателю обратить внимание на совсем другой аспект этой сталинской аргументации. Речь идет о хитроумной манере прикровенно, вскользь менять пропорции и местоположение объекта, то вводя его в гомогенную группу, то выделяя (или, вернее, выталкивая) объект из нее. В данном случае соответствующее скольжение смыслов отражено в двойственном статусе всех составных элементов приведенного ряда.
Дабы разобраться в только что процитированной фразе о партии и классе, вспомним, что, согласно официальной догматике, партия есть непосредственная – хотя и ведущая – часть рабочего класса. А раз так, то между ней и «классом» в целом нет и не может быть никакого буфера, представленного Сталиным в виде «массовых беспартийных организаций пролетариата» – т. е. профсоюзов и пр., – коль скоро последние – это просто другая (только подчиненная партии) часть все того же пролетариата. Наконец, ряд замыкается «всей массой пролетариата», анонимно стоящей «за» своими же собственными организациями (а не состоящей в них?). Тождественна ли эта «вся масса» богоносному пролетариату в целом или она тоже остается всего лишь его частью, хотя и самой обширной (которую, если понадобится, можно будет трактовать как несознательный слой класса, нуждающийся в просвещении и строгой опеке)? Все обтекаемо, все двоится – незыблема только иллюзия непреклонной твердости и ясности определений.