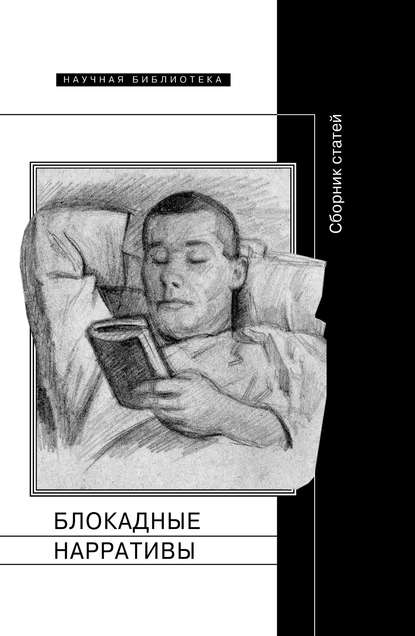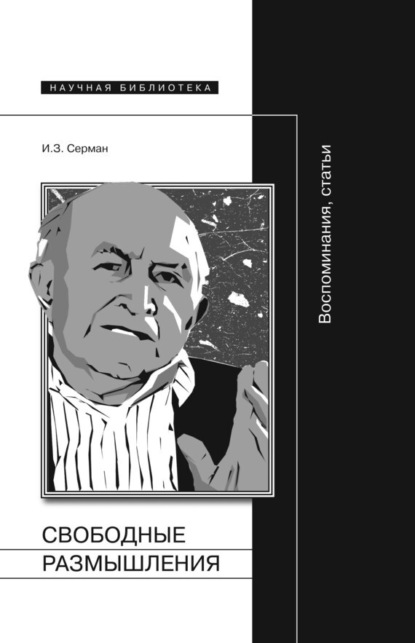Полная версия
Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты
запрячь крестьянство в общую упряжку с пролетариатом по пути строительства социализма.
Чтобы докомплектовать тройку, к ней осталось присоединить советскую интеллигенцию:
Она вместе с рабочими и крестьянами, в одной упряжке с ними, ведет стройку нового бесклассового общества («О проекте Конституции Союза ССР»).
Тут впору напомнить о профессоре Устрялове, обреченном «возить воду» на большевизм. С другой стороны, если не в меру старательные партийцы зарываются, бестолково ускоряя бег, «таких товарищей надо осаживать» (Речь на XIV съезде). Хуже всего, конечно, когда головокружительная скачка уносит их прочь от генеральной линии, когда, как пишет Сталин в 1930 году по поводу «ошибок в колхозном движении»,
одна часть наших товарищей, ослепленная предыдущими успехами, галопом неслась в сторону от ленинского пути.
Живописуя эту опасность, Сталин доходит в своем наездническом пафосе до невольного подражания пушкинскому Медному всаднику, сумевшему спасти Россию, остановив ее «над самой бездной»:
Трудно остановить во время бешеного бега и повернуть на правильный путь людей, несущихся стремглав к пропасти.
Иногда он, напротив, побуждает коней сбросить седока – например, в наказе избирателям «следить за своими депутатами и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, смахнуть их с плеч». Вероятно, он был знаком с классическим, заимствованным у Платона, святоотеческим образом: разум как всадник или возничий, управляющий мятежными силами, воплощенными в конях. Как бы ни был фальшив демократизм Сталина, прозвучавший в этом увеселительном наказе, глубоко показательно все же его подстрекательское обращение именно к хтоническому символу, к низшему, аффективному слою коллективной советской личности, к ее волюнтативно-бунтарскому началу, – при несомненной самоидентификации с безжалостным тираном-возничим. Подстрекательский призыв – на сей раз к доносительству («критика снизу») – прозвучал и в только что процитированной здесь речи от 13 апреля 1928 года, где метафору пролетарской трудовой упряжки он соединил с требованием поднять «бдительность» рабочего класса как подлинного «хозяина» страны. Так он и управлял своей партией, своим государством – порабощая низы, он одновременно натравливал их на те или иные неугодные ему верхи в нескончаемом процессе циркуляции власти, освежаемой притоком новых, рвущихся к ней социальных сил.
Сверхжесткость и сверхрастяжимость понятий
Итак, мы могли удостовериться, насколько сложна политическая поэтика Сталина, которую принято называть примитивной и однозначной. Волкогонов был глубоко неправ, когда писал: «В мышлении Сталина трудно выделить оттенки, переходы, оговорки, оригинальные идеи, парадоксы. Мысль вождя однозначна»120. Напротив – именно «оттенки и переходы», амбивалентное скольжение тончайших нюансов и составляют секрет его мышления, запечатленного в, казалось бы, топорном и монотонном языке. Одним из уникальных свойств сталинского стиля мне видится сочетание этой обманчивой ясности, точности, тавтологической замкнутости ключевых понятий и их внутренней двусмыслицы, предательской текучести, растяжимости.
Если тавтологические конструкции маскируются под ступенчатое логическое развертывание, то, с другой стороны, как мы не раз видели, одно и то же слово таит в себе запас контрастных значений, как бы спрессованных в его мнимой четкости и однозначности. Даже слово «колхоз», столь любезное Сталину, на поверку предстает сгустком бинарных оппозиций, вступающих между собой в непримиримый конфликт. Оказывается, что
колхозы и Советы представляют лишь форму организации, правда, социалистическую, но все же форму организации. Все зависит от того, какое содержание будет влито в эту форму <…> Колхозы могут превратиться на известный период в прикрытие всякого рода контрреволюционных деяний, если в колхозах будут заправлять эсеры и меньшевики, петлюровские офицеры и прочие белогвардейцы, бывшие деникинцы и колчаковцы <…> Колхозы могут быть либо большевистскими, либо антисоветскими.
По этой заговорщической логике, предельно далекой от ортодоксального марксизма с его приматом «производственных отношений», и рабовладение, и крепостное право, и наследственный земельный надел можно объявить всего лишь «формой организации»121, в которую достаточно влить социалистическое содержание. И напротив: весь режим «диктатуры пролетариата» и сама коммунистическая партия легко могут наполниться капиталистическим контрреволюционным содержанием, если в них «будут заправлять» агенты разгромленной ранее буржуазии. Так, собственно, и произойдет позднее – в сталинской трактовке – с Югославией.
Как пример криминальной двусмыслицы стоит привести и слово «товарищ». В своей, уже упоминавшейся тут, речи на выпуске Академии Красной армии (1935) Сталин, подводя итоги партийно-государственным достижениям (коллективизации и индустриализации, сопряженной с «жертвами» и «жесточайшей экономией»), сказал:
Но не у всех наших товарищей хватило нервов, терпения и выдержки <…> Эти товарищи не всегда ограничивались критикой и пассивным сопротивлением. Они угрожали нам поднятием восстания в партии против Центрального Комитета. Более того: они угрожали кое-кому из нас пулями. Видимо, они рассчитывали запугать нас и заставить нас свернуть с ленинского пути. Эти люди, очевидно, забыли, что мы, большевики, – люди особого покроя. Они забыли, что большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами <…> Понятно, что мы не думали сворачивать с ленинского пути. Более того, укрепившись на этом пути, мы еще стремительней пошли вперед, сметая с дороги все и всякие препятствия. Правда, нам пришлось при этом на пути помять бока кое-кому из этих товарищей. Но с этим уже ничего не поделаешь. Должен признаться, что я тоже приложил руку к этому делу. (Бурные аплодисменты, возгласы «ура».)
Спрашивается, являются ли для большевиков «товарищами» враги ленинизма, люди, угрожающие им пулями? Эластичное слово «товарищ» таит в себе обвинения, чреватые грядущим истреблением тех, к кому оно прилагается. Сталинское слово отличается тем самым двурушничеством, которым он так любил попрекать своих противников. Перед тем как расстрелять Зиновьева и Каменева, он, обращаясь к обоим арестантам, доставленным в Кремль, тоже назвал их «товарищами»122. А в 1937‐м на закрытом заседании Военного совета он так же назвал военных руководителей, якобы завербованных Германией (и уже проходящих пыточное следствие): «Вот эти малостойкие, я бы сказал, товарищи, они и послужили материалом для вербовки»123.
Порой двусмыслицы подаются в ироническом освещении, как, например, в «Ответе товарищам колхозникам» (1930):
Я получил за последнее время ряд писем от товарищей колхозников с требованием ответить на поставленные там вопросы. Моя обязанность была ответить на письма в порядке частной переписки. Но это оказалось невозможным, так как больше половины писем было получено без указания адреса их авторов (забыли прислать адреса). Между тем вопросы, затронутые в письмах, представляют громадный политический интерес для всех наших товарищей. Кроме того, понятно, что я не мог оставить без ответа и тех товарищей, которые забыли прислать свои адреса.
Многочисленные товарищи124, подверженные внезапной рассеянности, представляют собой весьма характерный образчик сталинской иронии.
Почти каждое слово прячет в себе собственный негатив. В принципе тут бесспорна прямая зависимость от Ленина, который, по определению Ю. Тынянова, занимается «анализом лексического единства слов; полемизируя, разоблачая лозунг, он дает его словарный анализ и указывает затуманивающее действие фразы и лексического плана: «Спрашивается: – Равенство какого пола с каким полом?» (Увы, надо признать, что ввиду необычайного обилия полов, предполагаемого ленинским вопросом, поучительная сила цитаты несколько поколеблена.) И далее: «Лексическое единство взрыхлено. Слово как название лексического единства перестает существовать. Исчезает эмоциональный „ореол“ „слова вообще“, и выдвигаются отдельные конкретные ветви лексического единства»125. Вся разница, однако, в том, что Сталин не «взрыхляет», а резко раздваивает лексическое единство; он заботится вовсе не о разоблачительной конкретизации различных «ветвей», а о строго симметрическом противопоставлении двух смыслов:
Нам нужна самокритика – не та критика, злобная и по сути дела контрреволюционная, которую проводила оппозиция, – а критика честная, открытая большевистская самокритика. [Как будто злобная критика не может быть честной и открытой.]
Само собой понятно, что речь здесь идет не о «всякой» критике. Критика контрреволюционеров является тоже критикой. <…> Критика нужна нам для укрепления Советской власти, а не для ее ослабления.
Два слова о характере наших трудностей. Следует иметь в виду, что наши трудности никак нельзя назвать трудностями застоя или упадка <…> Наши трудности не имеют ничего общего с этими трудностями <…> Они есть трудности подъема, трудности роста.
И вообще:
Нам нужна не всякая индустриализация.
Нам нужен не всякий рост производительности народного труда.
Нам нужен не всякий союз с крестьянством.
Нам нужна не всякая связь между городом и деревней.
Нам нужна не всякая дискуссия и не всякая демократия.
Не всякого старика надо уважать, и не всякий опыт нам важен.
Более того, сами эти диалектические контрасты тоже подвержены взаимному противопоставлению или разделению:
Нельзя сваливать в одну кучу два ряда неодинаковых противоречий. (И наоборот – при случае он может объединить их, заявив: «Наши разногласия – не принципиальные разногласия».)
Расподоблению внутренних контрастов отвечает их обратное соединение в диалектических оксюморонах:
Капитализм, развивавшийся в порядке зашивания.
Прогрессивное загнивание капитализма.
Запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства.
Отрицательный омоним способен лишь мимикрировать под симметричное ему положительное понятие. Отсюда суеверная сталинская манера – присущая, впрочем, всей советской публицистике начиная с Ленина – закавычивать самые обычные слова, коль скоро они увязываются с политическим противником: «работа» врага, его «сочинения», «отдых» и пр. Это псевдослова, вербальные маски лицемера и подлого оборотня, которые требуется поскорее сорвать126. Взять, к примеру, слово «мир». Еще в 1913 году Сталин писал: «Когда буржуазные дипломаты готовят войну, они начинают усиленно кричать о „мире“ и „дружественных отношениях“. Если какой-нибудь министр иностранных дел начинает распинаться на „конференции мира“, то так и знайте, что „его правительство“ уже отдало заказ на новые дредноуты и монопланы <…> Хорошие слова – маска для прикрытия скверных дел». В общем, как и во множестве сходных заявлений («Пацифизм нужен буржуазии для маскировки» и т. п.), Сталин очень точно предсказал здесь пацифистскую кампанию, организованную им в период подготовки к третьей мировой войне127. Мы еще не раз встретимся с этой гротескной и хорошо известной особенностью его симметрических построений: инкриминировать врагу свои собственные преступления, собственную тактику – или же, зачастую вполне откровенно, присваивать себе приемы противника.
Другие его словоупотребления носят заведомо расплывчатый, безразмерный характер, облегчающий свободу маневра. Достаточно присмотреться, например, к пресловутому термину «кулак». Без конца бичуя кулаков, противопоставляя их середнякам и беднякам, Сталин ни разу не озаботился опубликовать свое сколь-нибудь ясное и отчетливое определение для этих, по существу, крайне зыбких обозначений128. Более того, он раздраженно реагирует на любые попытки строгой «марксистской» классификации этих слоев. На июльском пленуме 1928 года генсек процитировал записку сотрудника газеты «Беднота» Осипа Чернова: «Необходимо <…> грубее сделать признаки, откуда начинается эксплуататорское, кулацкое хозяйство». В ответ Сталин дает волю своему негодованию: «Вот оно – „расширение“ нэпа. Как видите, семя, брошенное Троцким, не пропало даром». Позднее он с возмущением пересказывает возражения Бухарина, который искренне недоумевал по поводу применения подобной градации к условиям нищей советской деревни: «Он так и говорил здесь в одной своей речи: разве наш кулак может быть назван кулаком? Да ведь это нищий, – говорил он. А наш середняк – разве он похож на середняка? – заявлял здесь Бухарин. – Это ведь нищий, живущий впроголодь129. Понятно, что такой взгляд на крестьянство является в корне ошибочным взглядом, несовместимым с ленинизмом». (Через несколько лет, уже восхваляя блаженную колхозную жизнь, вождь для контраста упомянул о прежней бедности – и из его замечания явствует, что все-таки прав был Бухарин. «Добрая половина середняков, – сказал Сталин, – находилась в такой же нужде и лишениях, как бедняки».)
Десятки раз до того, в согласии с основоположниками, Сталин говорил о крестьянстве как целостном классе – а именно «мелкой буржуазии». Теперь, в целях порабощения деревни, Сталин, следуя отчасти за Лениным, вносит экзотические дополнения в марксизм, существенно расширяя его скромную классовую гамму благодаря превращению крестьянства в целую совокупность классов130.
Перераспределение канонической схемы вызвало недоумение у излишне любознательных «товарищей-свердловцев», которые не смогли отыскать соответствующее определение у Ленина. Отвечая им, Сталин заявил:
Ленин говорил о двух основных классах. Но он знал, конечно, о существовании третьего, капиталистического класса (кулаки, городская капиталистическая буржуазия). Кулаки и городская капиталистическая буржуазия, конечно, не «сложились» как класс лишь после введения нэпа. Они существовали как класс и до нэпа, причем существовали как класс второстепенный. Нэп на первых стадиях развития облегчил в известной степени рост этого класса.
В этой марксоидной эквилибристике странно, во-первых, вычленение какого-то особого класса «городской капиталистической буржуазии», чем-то отличающейся, видимо, от всей прочей городской буржуазии, а во-вторых, внезапное приобщение к этому городскому классу тех самых «кулаков», которые в других случаях трактуются лишь как «капиталистические элементы крестьянства» или даже как еще более заурядные «агенты буржуазии» в деревне. Установка, однако, ясна – так или иначе противопоставить «кулаков» крестьянам, но противопоставить так, чтобы избежать сколь-нибудь четкой дифференциации, могущей в чем-то ограничить или притормозить репрессии. Здесь та же неясность, размытость критериев, в которой он обвинил Бухарина, – но только с обратным знаком: не реалистическая, а идеологизированно-полицейская. «Кулак» – это не тот, кто эксплуатирует наемный труд, а тот, кто просто чуть устроеннее, зажиточнее своих нищих односельчан. Фольклор чутко отреагировал на эту умышленную невнятицу «классовой борьбы», запечатлев ее в пародии на популярный романс: «Вам восемнадцать лет, у вас своя корова. / Вас можно раскулачить и сослать». Аморфность, произвольность сталинских дефиниций обернется гибелью для миллионов людей, зачисленных в обреченные группы простой казенной разнарядкой, процентом раскулачивания, спущенным из ЦК.
Но при необходимости Сталину ничего не стоит вообще упразднить всякие классы, ибо его «окостенелый догматизм», о котором охотно рассуждали хрущевцы, всегда дополнялся феноменальной идеологической гибкостью и готовностью мгновенно отречься от любой догмы. Думаю, что известное полуюмористическое высказывание Гитлера – после разгрома СССР поручить Сталину управление захваченными территориями (поскольку «тот знает, как обращаться с русскими») – в принципе вполне могло реализоваться: светоч марксизма с ходу подыскал бы для своей новой должности потребное идеологическое обоснование. В отличие от Гитлера и Ленина он не был идеалистом. (Показательно, что в годы войны у Сталина отступает на второй план даже любимое слово «партия», и когда оно появляется, то в иерархическом списке следует за словами «правительство», «армия» и т. п., а не предшествует им, как раньше.)
В марте 1936-го, когда обсуждался проект конституции, Сталин так разъяснял своему американскому интервьюеру Говарду тот факт, что в Советском Союзе существует только одна политическая партия:
Наше общество состоит исключительно из свободных тружеников города и деревни – рабочих, крестьян и интеллигенции. Каждая из этих прослоек может иметь свои специальные интересы и отражать их через имеющиеся многочисленные общественные организации. Но коль скоро нет классов, коль скоро грани между классами стираются, коль скоро остается лишь некоторая, но не коренная разница между различными прослойками социалистического общества, не может быть питательной почвы для создания борющихся между собой партий. Где нет нескольких классов, не может быть нескольких партий, ибо партия есть часть класса.
Все помнят, что с официальной точки зрения, закрепленной Сталиным в бесчисленных тирадах и в той же самой конституции, СССР считался государством рабочего («правящего») класса и колхозного крестьянства, к которым примыкала интеллигентская «прослойка». (Раньше интеллигенция признавалась прослойкой между эксплуататорскими и угнетенными классами. Теперь, при социализме, стало неясно, что именно она прослаивала.) В своем интервью, растиражированном «Правдой», Сталин походя смазал все эти жесткие сакральные категории. То он, полностью отменяя классы, заменяет их «прослойками» (между чем?), то сообщает, что грани между этими – уже вроде бы не существующими – классами еще только стираются – и все для того, чтобы как-то предотвратить предвкушаемый им вопрос Говарда: почему не разрешено иметь свою партию такому классу, как крестьянство. (А как быть с несколькими партиями одного и того же «класса» на Западе, например в США?) Можно себе представить, как отреагировал бы Сталин на подобную правооппортунистическую расплывчатость, если бы ее продемонстрировал кто-нибудь другой.
В письме к С. Покровскому (май 1927 года) он порицает адресата за склочные «придирки» к его, сталинским, фразам: «Вы просто изволите придираться, не в меру „диалектический“ товарищ». Мы, однако, не найдем ни малейших следов столь же снисходительного отношения к чужим «неточностям» у самого Сталина. В июне 1927 года, отвечая на новое письмо Покровского, он мстительно цепляется именно к нюансам, придавая им кардинальное значение и обвиняя того в манере «бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами»:
Но, признавая шепотком эту свою неправоту, Вы тут же стараетесь громогласно свести ее к пустячкам насчет «словесных» неточностей <…> Выходит, что спор шел у нас о «словесности», а не о двух принципиально различных концепциях! Это называется у нас, говоря мягко, – нахальством <…> Я думаю, что пришло время прекратить переписку с Вами.
Но он умеет и полностью игнорировать слово в тех обстоятельствах, когда к речениям оппонента придраться нельзя. Тогда Сталин, на ленинский манер, предпочитает обвинять противников – до революции меньшевиков, после революции оппозицию – в «расхождении слова с делом». Ту же риторику «дела», не нуждающегося в какой-то жалкой письменной фиксации, он внедряет и в свои положительные идеологемы. Словесные же свидетельства, собранные оппонентами, Сталин безапелляционно третирует. Этот сверхбюрократ, дотошный коллекционер досье и партдокументов обрушивается на буквоеда Слуцкого в известном директивном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция» (1931):
Какие ему [Слуцкому] нужны еще документы? <…> Кто же, кроме безнадежных бюрократов, может полагаться на одни лишь бумажные документы? Кто же, кроме архивных крыс, не понимает, что партии и лидеров надо проверять по их делам прежде всего, а не по их декларациям? <…> Почему же он предпочел менее надежный метод копания в случайно подобранных бумагах?
С единством «слова и дела» Сталин обращается столь же гибко. Скажем, в конспективной заметке «О политической стратегии и тактике русских коммунистов» (1921; впервые напечатана в Сочинениях) он их отчетливо разделяет:
«Лозунг агитации и лозунг действия. Смешивать их нельзя, опасно». А спустя несколько лет он пишет: «Нельзя ставить вопрос так, как его ставят некоторые товарищи; „рабоче-крестьянское правительство – фактически, или как агитационный лозунг“ <…> При этой постановке вопроса выходит, что партия может давать внутренне фалышивые лозунги, в которые не верит сама партия <…> Так могут поступать эсеры, меньшевики, буржуазные демократы, так как расхождение между словом и делом и обман масс являются одним из основных орудий этих умирающих партий. Но так не может ставить вопрос наша партия никогда и ни при каких условиях.
В первом случае Сталин был откровеннее, во втором – он прибегает именно к той аргументации, которую сам определил как «агитационный лозунг». Что это значит на практике, мы можем уяснить из его сверхсекретных «замечаний к тезисам товарища Зиновьева» (август 1923 года), связанным с подготовкой коммунистического путча в Германии:
Нужно прямо указать, что лозунг рабочего правительства является лишь агитационным лозунгом, питающим идею единого фронта, что он в своем окончательном виде (правительство коалиции коммунистов и социал-демократов) вообще неосуществим, что если бы он, паче чаяния, все же осуществился, то такое правительство было бы правительством паралича и дезорганизации <…> Нужно ясно сказать немецким коммунистам, что им одним придется взять власть в Германии131.
Я забыл прибавить, что «прямо и ясно», «открыто и честно» – это одна из любимейших риторических формул Сталина.
Братья и сестры Сталина
Чрезвычайно яркий образчик коварной двусмыслицы представляет собой его знаменитое выступление 3 июля 1941 года – первое с начала войны:
Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Безусловно, человечный призыв к «братьям и сестрам», столь откровенно выдававший бывшего семинариста и как бы свидетельствовавший о его смятении перед лицом страшной угрозы132, был очень успешно рассчитан именно на патриотический и на «христианский» эффект133, который продолжает и сегодня умилять одряхлевших сталинистов. Однако им стоило бы внимательнее вчитаться в его литургические тирады.
Начнем с того, что показательна уже сама иерархическая градация: сперва «товарищи» (т. е. в первую очередь члены партии, единомышленники), затем прочие «граждане» страны и лишь потом – перед «бойцами» – «братья и сестры». За исключением этих самых «братьев» и «друзей», иерархическая последовательность здесь та же, что раньше дана была в речи Молотова, произнесенной им по радио 17 сентября 1939 года по случаю советского вторжения в Польшу (в рамках договоренности с Гитлером): «Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!» А «братья и сестры» отсутствовали у Молотова просто потому, что именно к ним, по официальной версии, и направлялись советские войска – «подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белоруссам, населяющим Польшу».
Что касается Сталина, то в следующей по счету его военной речи – от 6 ноября 1941 года – наличествует только суммарное обращение «товарищи!», но далее говорится: «Наши братья в захваченных немцами областях нашей страны стонут под игом немецких угнетателей».
В зачине выступления, прозвучавшего на другой день и обращенного непосредственно к армии, «братья и сестры» снова сдвинуты к концу: сначала «товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники», потом «рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда» (тут строго выдержана официально-классовая субординация: рабочие, за ними крестьяне и, наконец, интеллигентская прослойка), а в заключение: «Братья и сестры в тылу нашего врага, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!»
В его приказе от 1 мая 1942 года установлена еще более ясная последовательность: на первом месте – армия, за ней – «партизаны и партизанки», далее рабочий класс, крестьянство и интеллигенция и после нее, уже на самом последнем месте, «братья и сестры по ту сторону фронта в тылу немецко-фашистских войск, временно подпавшие под иго немецких угнетателей». А ниже, в основном тексте, сказано: «Мы хотим освободить наших братьев украинцев, молдаван, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, карелов от того позора и унижения, которым подвергают их немецко-фашистские мерзавцы».