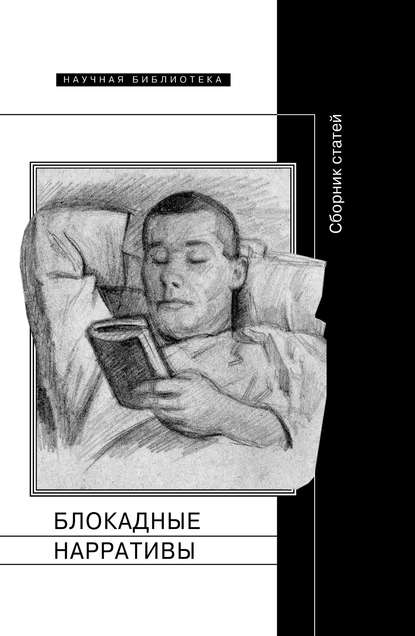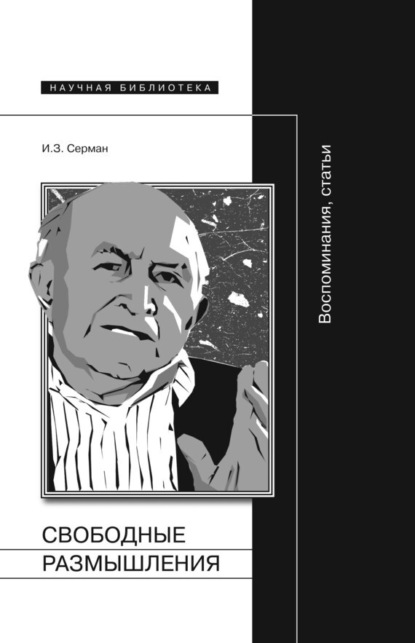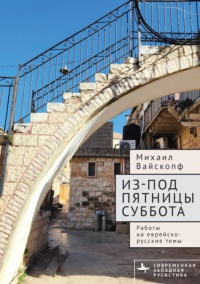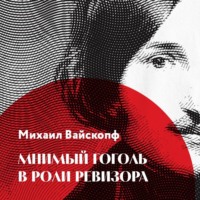Полная версия
Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты
Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда герои и героини труда. В этом корень стахановского движения.
Очень рано были отработаны и негативные версии схемы, в которой еще ощутимо свежее дуновение семинарии:
В этом коренная ошибка съезда, за которой сами собой должны были последовать все остальные ошибки.
Датируется эта формула 1906 годом, но верность ей Сталин сохранил на всю жизнь. Спустя пятнадцать лет он пишет: «В этом непонимании источник ошибок Троцкого», – а спустя двадцать: «Основная ошибка оппозиции состоит в том… Из этой ошибки вытекает другая ее ошибка, состоящая в том… Эти две ошибки ведут к третьей ошибке оппозиции». Своя основа имеется у самых многоликих явлений, например у чьей-либо «слабости»: «Что лежит в основе этой слабости капиталистического мира? В основе этой слабости лежат…»
Таким подходом обусловлено, конечно, и встречное желание Сталина, – роднящее его, впрочем, с другими идеологами большевизма, – непременно «подорвать основы» или «вырвать корни» враждебных тенденций: «Опасность… усиления антисоветской агитации в деревне будет наверняка подорвана в корне»; «Значение этих вопросов состоит прежде всего в том, что марксистская их разработка дает возможность выкорчевать с корнями все и всяческие буржуазные теории», и т. п. – примеры бесчисленны. Сами же «основы» порой прихотливо варьируются им даже в рамках одного и того же выступления; но еще чаще они счастливо совпадают во всем с собственными «следствиями».
Бог весть, как его обучали логике, но с чисто формальной стороны сталинские умозаключения представляют собой обширную коллекцию логических ошибок, главные из которых – использование недоказанного суждения в качестве посылки и так называемое petitio principii, т. е. скрытое тождество между основанием доказательства и якобы вытекающим из него тезисом. Тавтологичность сталинских аргументов (idem per idem) постоянно образует классический «круг в доказательстве»:
«Правильно ли это определение? Я думаю, что правильно. Оно правильно, во-первых, потому, что правильно указывает на исторические корни ленинизма» и т. д.
Часто наличествуют перестановка так называемых сильных и слабых суждений, подмена терминов, ошибки – вернее, фальсификации, – сопряженные с соотношением объема и содержания понятий, с дедуктивными и индуктивными выводами и пр. Имитация каузальных схем приводит к тому, что причины и следствия, ввиду их полной тождественности, свободно меняются местами в общем потоке псевдологической суггестии:
Глубочайшая ошибка новой оппозиции состоит в том, что она не верит в этот путь развития крестьянства, не видит или не понимает всей неизбежности этого пути в условиях диктатуры пролетариата.
Ошибка как частное следствие общего непонимания уравнивается здесь с самим непониманием, а выше – с неверием, т. е. феноменом не рационально-логическим, а интуитивным. Затем те же смежные, данные в порядке соположения понятия внезапно рисуются как логически соподчиненные, и число их нарастает (забегая вперед, следует отметить и симптоматический примат веры над пониманием):
А не понимает она этого потому, что не верит в победу социалистического строительства в нашей стране, не верит в способность нашего пролетариата повести за собой крестьянство по пути к социализму. [Почему бы не наоборот – «А не верит она в это потому, что не понимает…»?]
Отсюда непонимание двойственного характера нэпа <…>
Отсюда непонимание социалистической природы нашей государственной промышленности <…>.
Отсюда непонимание <…> громадной работы партии по вовлечению миллионных масс <…>.
Отсюда безнадежность и растерянность перед трудностями нашего строительства.
Всю эту бесконечную цепь выводов можно без малейшего ущерба свернуть в исходное состояние рокового «непонимания» или «неверия» в упоительные возможности советского крестьянства. Надо сказать, что Ленин временами тоже вытягивает «семинарско»-ритмическую цепочку логических производных, разделенных абзацем, – например, в одной статье 1916 года («Здесь „гвоздь“ его злоключений <…> Отсюда – игнорирование <…> Отсюда – упорное свойство…»), – но осмысленность у него имитируется чуть старательнее, тогда как у Сталина эта мнимая последовательность представляет собой чисто декларативное развертывание одинаковых или смежных утверждений, латентно содержащихся в самом первом из них. Вместо каузальной преемственности дается синонимия:
Слова и дела оппозиционного блока неизменно вступают между собой в конфликт <…> Отсюда разлад между делом и словом.
Несчастье группы Бухарина в том именно и состоит, что они <…> не видят характерных особенностей этого периода <…> Отсюда их слепота.
Уж лучше бы перевернуть этот квазилогический ряд, ибо неспособность видеть те или иные «особенности» обусловлена общей слепотой, а не наоборот.
Свой безотказный аналитический прием он начал осваивать еще в молодости – в интеллектуальном отношении все же чрезмерно затянувшейся, – и тут наиболее примечателен его ранний теоретический трактат «Анархизм или социализм?», написанный в возрасте 28 лет (конец 1906 – начало 1907 года). В этой работе содержится множество умопомрачительных тезисов, один из которых открывается величавой максимой: «Диалектический метод говорит, что жизнь нужно рассматривать именно такой, какова она в действительности»77. (Вероятно, другие методы предлагают рассматривать ее как-то иначе.) А дальше сказано:
То, что в жизни рождается и изо дня в день растет, – неодолимо <…> То есть, если, например, в жизни рождается пролетариат как класс и изо дня в день растет, то <…> в конце концов он все же победит. Почему? Потому, что он растет <…> Наоборот, то, что в жизни стареет и идет к могиле, непременно должно потерпеть поражение <…> То есть, если, например, буржуазия постепенно теряет почву под ногами и с каждым днем идет вспять, то <…> в конце концов она все же потерпит поражение. Почему? Да потому, что она как класс разлагается, слабеет, стареет.
Физиологическая рисовка диалектики (соприродная архаично-крестьянскому жизнеощущению) концептуально подсказана, быть может, школьным Аристотелем с его классификацией движения – возникновение, уничтожение, рост, старение, – но сама аристотелевская логика схвачена каркасом сталинских тавтологий: один класс растет, потому что растет, а второй – стареет, потому что стареет.
Отсюда и возникло известное диалектическое положение: все то, что действительно существует, т. е. все то, что изо дня в день растет, – разумно, а все то, что изо дня в день разлагается – неразумно.
Этот животноводческий силлогизм, посильно стилизованный под Гегеля, совершенно непригоден к дальнейшему употреблению, и напрасно мы стали бы задаваться вопросом, верно ли, что неразумное все-таки существует, хоть и разлагается, или же оно попросту иллюзорно. Его мысль развертывается в других измерениях, неподвластных философскому дискурсу. Уже в первой из бесспорно атрибутируемых Сталину статей – «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (1904) – он изобретает чрезвычайно нетривиальные аргументы:
Я вспоминаю русских метафизиков 50‐х годов прошлого столетия, которые назойливо спрашивали тогдашних диалектиков, полезен или вреден дождь для урожая, и требовали от них «решительного ответа». Диалектикам нетрудно было доказать, что такая постановка вопроса совершенно не научна, что в разное время различно следует отвечать на такие вопросы, что во время засухи дождь полезен, а в дождливое время – бесполезен и даже вреден.
Хотелось бы, естественно, узнать имена этих потрясающих метафизиков и диалектиков, утаенные автором. Проделанные разыскания привели меня к тому историко-философскому выводу, что соответствующим авторитетом в области русской диалектики «50‐х годов прошлого столетия» для него мог служить вышеупомянутый Козьма Прутков, опубликовавший в 1854 году назидательный афоризм:
Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? – ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц – ночью.
Все же у Сталина имелся, помимо Пруткова, непосредственный текстуальный источник. Я подразумеваю глубокомысленное рассуждение Чернышевского, который в 1856 году в «Очерках гоголевского периода русской литературы» так иллюстрировал гегелевскую диалектику, противопоставляя ее ситуативную конкретность всевозможным отвлеченностям:
Например: «благо или зло дождь?» – это вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: «после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, – надобен ли был он для хлеба?» – только туг ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен». – Но, в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шел проливной дождь, – «хорошо ли было это для хлеба?» Ответ так же ясен и так же справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в гегелевской философии все вопросы78.
Абсурдистский колорит сталинскому поучению сообщает само снятие этой четкой аграрной «определительности», дополненное выдуманным спором между какими-то русскими метафизиками и их столь же юродивыми оппонентами. Но диалектический пассаж Чернышевского Сталин мог почерпнуть и у Плеханова, уважительно цитирующего максиму о дожде в своем «Монистическом взгляде» (1895). В 1901 году этот мыслитель, которого Ленин, несмотря на политические расхождения, твердо считал лучшим марксистским философом после Энгельса79, тоже обратился к метеорологическим доводам:
Историческая эволюция есть цепь явлений, подчиненных определенным законам. Явления, подчиненные определенным законам, суть явления необходимые. Пример: дождь. Дождь есть явление закономерное. Это значит, что при определенных условиях капли воды непременно падают на землю. И это вполне понятно, когда речь идет о каплях воды, не обладающих ни сознанием, ни волей.
Как мы помним, еще в 1904 году Сталин пожурил Плеханова за недостаточную тавтологичность аргументации. Но не к этому ли авторитету – а совсем не к тифлисской семинарии, как обычно говорят, – восходит и тавтологичность самих сталинских максим, привнесенных им в марксистскую сокровищницу чванливого пустословия? И вовсе не в духовном, а в юнкерском училище воспитывался отечественный преемник Энгельса, изрекавший следующие умозаключения:
Если бы первобытный человек смотрел на низших животных нашими глазами, то им, наверное, не было бы места в его религиозных представлениях. Он смотрит на них иначе. Отчего же иначе? Оттого, что он стоит на иной ступени культуры. Значит, если в одном случае человек старается уподобиться низшим животным, а в другом – противопоставляет себя им, то это зависит от состояния его культуры («Письма без адреса»).
Идеалистическое понимание истории правильно в том смысле, что оно заключает в себе часть истины. Да, часть истины оно заключает в себе <…> Есть поэтому доля истины в идеалистическом понимании истории. Но в нем нет еще всей истины («Материалистическое понимание истории»)80.
Столь же непреклонной, воистину плехановской, логикой блещет и сталинский анализ капиталистического строя в «Анархизме или социализме»:
Почему плоды труда пролетариев забирают именно капиталисты, а не сами пролетарии? Почему капиталисты эксплуатируют пролетариев, а не пролетарии – капиталистов?
Потому, что <…> капиталисты покупают рабочую силу пролетариев, и именно поэтому капиталисты забирают плоды труда пролетариев, именно поэтому капиталисты эксплуатируют пролетариев, а не пролетарии капиталистов.
Но почему именно капиталисты покупают рабочую силу пролетариев? Почему пролетарии нанимаются капиталистами, а не капиталисты – пролетариями?
На этот таинственный вопрос Сталин отвечает с той же изнурительной доходчивостью:
Потому, что главной основой капиталистического строя является частная собственность на орудия и средства производства… —
и т. д. и т. п., вплоть до нового логического тупика.
В любом случае этот квадратно-гнездовой способ аргументации нельзя списывать только на авторскую молодость или неопытность, поскольку любовь к нему Сталин сохранил на всю жизнь. Так, в 1925 году он снова «бабачит и тычет»:
Мы имеем, таким образом, две стабилизации. На одном полюсе стабилизируется капитализм <…> На другом полюсе стабилизируется советский строй <…> Почему одна стабилизация идет параллельно с другой, откуда эти два полюса? <…> Потому, что мир раскололся на два лагеря – на лагерь капитализма <…> и лагерь социализма, во главе с Советским Союзом.
При всех ссылках на влиятельные прецеденты странно все же другое – как сочетался такой идиотский назидательный вздор с громадным практическим умом Сталина? Это одно из многочисленных и трудноразрешимых противоречий, с которыми надо считаться при изучении его текстов. Как бы то ни было, он и здесь выказал замечательную прозорливость. Семена идиотизма, трудолюбиво посеянные им в умах советских людей, принесли пышные всходы, и само фантастическое обилие дураков на сегодняшних коммунистических сборищах великолепно подтверждает неиссякаемую действенность сталинского учения.
Ассоциации по смежности
Мы видели, насколько пестры, контрастны и несогласованны между собой составные элементы его агрегатных метафор, которые объединяются по принципу мнимой тождественности. Однако в тропах Сталина прослеживается и обратная тенденция – почти зощенковская склонность к моторному собиранию смежных смысловых рядов. Здесь у него наличествуют как имитация развертывания, динамического расподобления скрытых тавтологий, так и сущностная неподвижность, застылость выстраиваемого из них образа, стесненного в нищенские пределы собственных отражений. Несколько примеров:
Черная реакция собирает темные силы (1905).
Можно и в обратном порядке:
Темная работа черных сил идет непрерывно (1917).
Буржуазия знает, где раки зимуют. Она взяла да и выставила пушки у Зимнего дворца. (Зимующие раки автоматически подверстываются к Зимнему дворцу.)
Устрялов – автор этой идеологии. Он служит у нас на транспорте <…> Пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет.
Устряловская служба на транспорте трансформировалась у Сталина в должность водовоза (есть тут, видимо, и фольклорный подтекст: воду в преисподней черти возят на грешниках).
Одну из своих речей, напечатанную в «Правде» 2 августа 1935 года, он закончил тостом за то, чтобы железнодорожники «подняли транспорт, который идет уже в гору, но идет еще покачиваясь».
В другой раз он обратился к проблемам классового расслоения в деревне, обличая клеветников, изображавших дело таким образом, будто
большевики <…> не ставили своей задачей проведение борозды между беднейшим крестьянством и зажиточным крестьянином.
Идея о размежевании крестьян подсказывает автору аграрные, хотя и неуместные ассоциации с бороздой (вместо межи).
Так родилась социал-демократическая партия Германии. Бебель был ее повивальной бабкой <…> Зато правительство наградило его двумя годами тюрьмы, где он, однако, не зевал, написав знаменитую книгу «Женщина и социализм».
Гинекологическая метафора, подкрепленная аллитерацией (Бебель – баба), направила здесь Сталина к смежному мотиву брачного союза между женщиной и социализмом.
Депутата, свернувшего с дороги, они [избиратели] имеют право прокатать на вороных.
Тут же дается аляповатая реализация этой земско-помещичьей идиомы («на вороных»), отождествляющая избирателей с лошадьми, которые сбрасывают всадников:
Мой совет <…> следить за своими депутатами и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, смахнуть их с плеч.
В другом случае колористические ассоциации, навеянные тезисом насчет расового равенства граждан СССР, переходят у Сталина в соседний мотив лошадиных мастей и столь же сумбурную дорожно-транспортную метафорику:
Черные и белые, русские и нерусские, люди всех цветов и народностей стоят в одной упряжке и тянут вместе дело управления нашей страной.
Ср. типологически близкие примеры:
Двух зайцев хотели убить в день выстрелов. (Имеется в виду «Кровавое воскресенье».)
Вы умели биться на улицах против царских фараонов.
«Фараоны», т. е. городовые, механически соотнесены с царем, который явно ассоциируется с египетским правителем из Библии. Столь же автоматически «сэр» тянет за собой смежных «джентльменов»:
Из кого состоит эта самая революция? Из «неизменного» Керенского, из представителей кадетов <…> и из одного сэра, стоящего за спиной этих джентльменов.
Ср. также:
Беспартийность чувствует свое бессилие в деле объединения несоединимого и поэтому вздыхает: «Ах, если бы, да кабы во рту росли грибы!»
Вероятно, Сталин принял эту, оборванную им, пословицу за творение какого-то неведомого стихотворца и потому предусмотрительно ее закавычил и разбил на поэтические строки. Продолжение же пословицы – насчет «огорода» – тут же провоцирует его на незатейливое расширение ботанического смыслового ряда:
Но грибы во рту не растут, и беспартийность каждый раз остается на бобах, в чудаках. Человек безголовый, или – точнее – с репой на плечах вместо головы – вот беспартийность.
Сходным образом переплетающееся с тем же набором аграрных ассоциаций слово «растут» влечет за собой «расцветают», употребленное, однако, совсем не по назначению:
На наших глазах растут и расцветают новые люди.
Даже конспиративная фантазия Сталина предпочитает созидать новые формы из подручного, близлежащего материала. Когда во время войны ему от избытка бдительности захотелось замаскировать фамилии своих полководцев, он снабдил их псевдонимами, которые были всецело выстроены на основе их собственных имен. Из отчества Баграмяна – Христофорович – возник Христофоров, а из отчества Жукова – Константинов. Семен Буденный сделался Семеновым, Александр Василевский – Александровым, Климент (Клим) Ворошилов – Климовым81 и т. п.
Временами моторные ассоциации носят чуть более сложный характер:
Каменевщина периода апреля 1917 года – вот что тянет вас за ноги, т. Покровский.
То есть «каменевщина» пробудила у автора представление о камне, который тянет за ноги утопленника.
Вступая в работу, мы знаем, что путь наш усеян терниями. Достаточно вспомнить «Звезду», перенесшую кучу конфискаций.
Соединение «терний» со «Звездой» подсказано знаменитым «через тернии к звездам», тогда как «куча конфискаций» представляет собой, вероятно, прямое видение газетных кип, конфискованных полицией.
Сопричастность вместо аналогий
За любыми литературными приемами Сталина ощутимы те или иные культурные, ментальные и политические притяжения, взывающие к реконструкции в рамках более широкого контекста. Забегая вперед, следует уточнить, что речь идет о некоторых специфических приметах, разделяющих раннебольшевистский и меньшевистский дискурс и обусловленных базисными особенностями обоих движений. Оплодотворенный семинарией жречески-наставительный слог Сталина мог так впечатляюще разрастись лишь на пажитях раннего большевизма, обладавшего полнотой истины (имеется в виду, конечно, ленинский, а не богдановский извод этой идеологии). При всей своей догматической зачарованности, меньшевизм отличался от него все же большей внутренней свободой, сопряженной с организационной нестабильностью, центробежностью и автономизмом; кроме того, смягчению суровых марксистских нравов несколько способствовала и меньшевистская теоретическая установка на сближение с «либеральной буржуазией». Большевистскому волевому централизму, прагматике и дисциплине (соединявшимся с разжиганием массовых стихийно-разрушительных импульсов) здесь отвечал скорее морально-идеологический консенсус, рассудочный диктат старой доктрины. Само собой, мы тут по необходимости упрощаем живую реальность – эмоциональную, текучую и хаотическую, подверженную влиянию случайных факторов; но ясно, что регулятивные принципы или главенствующие тенденции соперничающих группировок не могли не сказаться на культурном самосознании их сторонников.
Как известно, меньшевизм, сохраняя верность статической модели марксизма, подбирал для всякого данного этапа предуказанного социального развития ближайшее соответствие на исторической шкале82. Традиция пришла с Запада, но обилие евреев среди меньшевиков и впрямь придавало раввинистический привкус этой методе, в которой проглядывало нечто от талмудической экзегезы с ее сопоставительной синхронизацией разновременных явлений и приемом расширительных аналогий («каль ва-хомер»). Конечно, у большевиков, включая Ленина, тоже мелькали все эти сравнения современных российских событий с Великой французской революцией, 1848 годом, Парижской коммуной и т. п. (уже в 1920‐е годы такие параллели – преимущественно между сталинским режимом и «термидором» – возлюбил Троцкий), но эксплуатировались они все же гораздо реже и почти исключительно в ритуальных или полемических целях. Мало затронула большевизм и древнехристианская традиция аллегорического «прообразования». Сама эта манера была принципиально чужда ленинскому направлению, упорно претендовавшему на живую, диалектическую динамику, открытость и злободневность. Так, говоря о своем режиме, Ленин называет его прямым «продолжением», а вовсе не аналогом Парижской коммуны. Соответственно, и Сталин объявляет последнюю не прообразом, а «зародышем» советской власти. Видимо, это была действительно общая черта большевистской поэтики, присущая и тем, кто, как А. Богданов, призывал «освободить большевизм от ленинизма». Скажем, в программно-«впередовской» статье «Социализм в настоящем» (конец 1910 года) он пишет, что пролетарская организованность и сотрудничество – «не прообраз социализма, а его истинное начало»83. Бухарин в 1922 году высмеивает свойственный «социал-демократическим талмудистам» прием «аналогий и исторических параллелей», «крайне рискованных» и даже «бессмысленных» («Буржуазная революция и революция пролетарская»)84.
Привычно подражая в определениях «лучшему теоретику», Сталин вполне искренне солидаризуется с его подходом. К мишуре интеллигентских сравнений он относится с открытым презрением, поддержанным сочетанием невежества, патриотизма и здоровой житейской эмпирики: «Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и директивы не на основе заученных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных условий», – в 1925 году говорит он немецкому коммунисту Герцогу. «Меньшевистскую группу» в марксизме Сталин порицает именно за то, что «указания и директивы черпает она не из анализа живой действительности, а из аналогий и исторических параллелей», – и за ту же манеру бранит Троцкого (бывшего меньшевика), увлеченного «детской игрой в сравнения».
В конце 1931 года, отвечая на вопрос Эмиля Людвига о своем предполагаемом сходстве с Петром Великим, Сталин слово в слово повторил формулы не упомянутого им Бухарина: «Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна»85. Сопоставлению он обычно предпочитает уже знакомый нам принцип смежности или причастности: «Я только ученик Ленина, и цель моей жизни – быть достойным его учеником <…> Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин – целый океан». Капля и океан – часть и целое: сравнение заменено как прямой преемственностью («ученик»), так и включением в общность.
Смена тропов далеко не безобидна. Ср. ее грозные возможности, приоткрывающиеся, например, в поздней брошюре Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», где разбор «ошибок т. Ярошенко» строится в двух планах – отрицательном (это не Маркс и не Ленин) и положительном (к кому же они тогда восходят?). Проследим последовательность его ходов, развернутых на протяжении нескольких страниц; для наглядности я использую отдельное издание 1952 года:
а) Вместо марксистской Политической экономии у т. Ярошенко получается что-то вроде [аналогия] «Всеобщей организационной науки» Богданова (С. 64);
б) Следует отбросить не ленинскую формулу, являющуюся единственно правильной, а так называемую формулу т. Ярошенко, явно надуманную и немарксистскую, взятую из богдановского арсенала [причастность] «Всеобщей организационной науки» (С. 66);