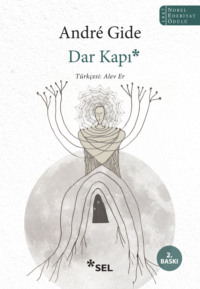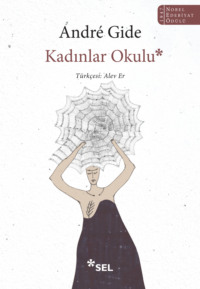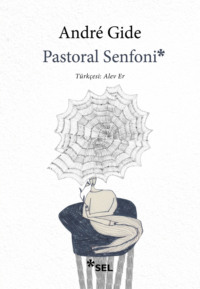Полная версия
Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики (сборник)
До этого дня Арника Пьерди, беззащитная и беззлобная, даже не подозревала, какая у нее смешная фамилия. Поступив в пансион, она убедилась в этом немедленно; под волной насмешек девочка согнулась, как лента водоросли, покраснела, побледнела, заплакала, а госпожа Семен разом наказала за непристойное поведение весь класс и своим неловким поступком безобидные поначалу шуточки сделала злобными.
Длинная, дряблая, хилая, хмурая стояла Арника посередине маленького класса, а когда госпожа Семен указала: «Садись, Пьерди, за третью парту слева», – все началось пуще прежнего, невзирая на любые учительские кары.
Бедняжка Арника! Жизнь уже простиралась перед нею длинной пустынной дорогой, обсаженной колкостями, с обидами на обочинах. По счастью, госпожа Семен не осталась бесчувственной к ее страданиям, и вскоре малышка обрела убежище у колен вдовицы.
Арника частенько оставалась после уроков в пансионе, потому что отца можно было дома и не застать. У госпожи Семен была дочь лет на семь старше Арники, немножко горбатая, но симпатичная; в надежде зацепить ей мужа, госпожа Семен воскресными вечерами принимала гостей, а дважды в год даже устраивала маленькие домашние утренники с декламацией и танцульками; туда являлись некоторые бывшие воспитанницы в сопровождении родителей – из благодарности, и некоторые молодые люди без средств и без будущего – от нечего делать. Арника тоже бывала на всех этих сборищах: цветочек невзрачный, скромный до неприметности – и все же ее приметили.
В четырнадцать лет она лишилась отца, и вдова Семен приютила сироту; сестры были гораздо старше ее и навещали только изредка. Но в одну из таких редких встреч Маргарита и увидела в первый раз того, кто два года спустя стал ее мужем: Жюльюс де Барайуль, которому тогда было двадцать восемь лет, приехал в деревню к своему деду Роберу, поселившемуся, как мы уже говорили, в окрестностях По через малое время после присоединения герцогства Пармского к Франции.
Блестящий брак Маргариты (впрочем, девицы Пьерди были не вовсе бесприданницы) сделал сестру еще более недосягаемой в ослепленных глазах Арники; она понимала: никогда, склонившись над ней, не вдохнет ее аромат никакой граф, никакой Жюльюс. Завидно было и то, что сестре удалось распрощаться с обидной фамилией Пьерди. Маргарита – имя прелестное; как чудно оно звучало вместе с фамилией де Барайуль! И увы – с любой замужней фамилией останется просто смешным имя Арника.
Бунтуя против действительности, ее нерасцветшая истерзанная душа попробовала обратиться к поэзии. В шестнадцать лет она обрамляла свое бледное лицо висячими локонами, которые зовут «покаянными», а ее задумчивые голубые глаза сами дивились соседству с черными волосами. Голос ее был бесцветен, но нисколько не груб; она декламировала стихи и пыталась сама писать их. Поэтичным она считала все, что давало ей бежать от жизни.
Завсегдатаями вечеров госпожи Семен были два юноши, которых с самого детства сблизила друг с другом нежнейшая дружба. Один был не слишком высок, но сутул, не столько худ, сколько сухощав, с волосами не столько светлыми, сколько белесыми, с гордым носом и робким взглядом: то был Амедей Лилиссуар. Другой, коротенький и толстый, с жесткими черными волосами над низким лбом, по странной привычке всегда ходил со склоненной на левое плечо головой, с раскрытым ртом и протянутой вперед правой рукой: вот описание Гастона Блафаффаса. Отец Амедея был мраморщик, делал надгробные памятники и торговал похоронными венками; Гастон был сыном крупного аптекаря.
(Как ни странно может показаться, фамилия Блафаффас очень распространена в деревнях предгорий Пиренеев, причем она еще и пишется по-разному, так что в одном лишь большом селе, где автору этих строк пришлось принимать экзамены, встретились вывески нотариуса Блаффаффаса, цирюльника Блафафаза и мясника Блаффафасса; на мой вопрос они отказывались признать между собой какое-либо родство, и каждый из них довольно презрительно говорил, что другие варианты его фамилии весьма неизящны по написанию. Но эти филологические заметки могут заинтересовать лишь крайне ограниченный круг читателей.)
Как жили бы Лилиссуар и Блафаффас друг без друга? И представить себе невозможно. На переменах в лицее они всегда держались вместе; над ними непрестанно глумились – они друг друга утешали, поддерживали, помогали терпеть. Их прозвали Блафафуарами. Обоим дружба их казалась ковчегом спасения, оазисом в беспощадной пустыне жизни. Не успевал один вкусить какую-либо радость, как желал уже разделить ее с другом, или, вернее сказать, ничто для них не было радостью, если они ее вкушали без друга.
Учились они неважно, несмотря на усидчивость, не позволявшую придираться, были по природе невосприимчивы к культуре любого рода и всегда оставались бы в классе последними, если бы не помощь Эвдокса Левикуана, который за небольшое вознаграждение исправлял или даже сам делал за них задания. Этот Левикуан был младшим сыном одного из главных ювелиров города. (За двадцать лет до того ювелир Леви женился на единственной дочери ювелира Коэна, а вскоре – когда дела его процвели и он перебрался из нижнего города поближе к казино – решил соединить и склеить обе фамилии, как соединил он и обе фирмы.)
Блафаффас был крепкого сложения, Лилиссуар же деликатного. С приближением отрочества облик Гастона посуровел, жизненные соки словно выдавили волос по всему его телу, меж тем как нежная кожа Амедея упрямилась, вздувалась, воспалялась, как будто волосам приходилось пускаться на всякие хитрости, чтоб пробиться. Блафаффас-отец порекомендовал кровоочистительное, и каждый понедельник Гастон приносил и тайком передавал другу бутылочку противоцинготного сиропа. Пользовались они и помадой.
В это же время Амедей в первый раз простудился; простуда, несмотря на мягкий климат По, никак не желала проходить всю зиму и оставила после себя неприятную слабость в области бронхов. Для Гастона это был повод к новым заботам: он пичкал друга лакрицей, повидлом из жожобы, исландским мхом и пастилками от кашля на эвкалиптовой основе, которые старший Блафаффас делал сам по рецепту одного старого кюре. Амедей то и дело подхватывал катар и поневоле теперь никуда не выходил без шарфа.
Амедей не имел никаких целей в жизни: только наследовать отцу. Гастон же, хотя и неповоротливый с виду, оказался не лишен хитроумия; уже в лицее он придумывал всякие штучки, больше, по правде сказать, забавные: мухоловку, весы для шариков, замок с секретом для своей парты, в которой секретов было, впрочем, не больше, чем в сердце изобретателя. Как бы ни были малополезны первые приложения его предприимчивости, они не могли не привести его к более серьезным занятиям, первым плодом которых стала «дымопоглощающая гигиеническая трубка для слабогрудых и иных курильщиков», долго украшавшая витрину аптекаря.
Амедей Лилиссуар и Гастон Блафаффас вместе влюбились в Арнику: это было роковой неизбежностью. Удивительное дело! Возникшая страсть, в которой они тотчас же друг другу признались, не разделила их, а лишь крепче спаяла. Правда, Арника поначалу ни одному, ни другому не давала поводов для ревности. Из них, впрочем, тоже никто не объяснялся с ней, и Арника ни за что не догадалась бы об их пламени, как ни дрожали их голоса, когда на маленьких семейных вечерах у госпожи Семен, где они были как дома, она подносила им лимонад, чай из вербены или ромашки. А потом, возвращаясь домой, оба они восхваляли ее скромность и грацию, беспокоились об ее бледности, подбадривали друг друга…
Они договорились объясниться в один вечер, вместе, а затем положиться на ее выбор. Арника – совершенный новичок перед лицом любви – в изумлении и в простоте сердца благодарила небо. Она попросила вздыхателей дать ей время на раздумье.
На самом деле у нее не было склонности ни к тому, ни к другому: они ей были интересны лишь оттого, что им была интересна она, а она уж было смирилась с тем, что никому не интересна. Полтора месяца, все больше теряясь, она тихонько упивалась параллельными знаками преданности от своих кавалеров. И покуда Блафафуары на своих ночных прогулках прикидывали, насколько продвинулся каждый из них, пространно и безотлагательно описывая друг другу малейшее слово, улыбку, взгляд, которыми бывали вознаграждены, Арника, запершись в комнате, писала на бумажках, которые тут же сжигала на свечке, и непрестанно твердила то: Арника Блафаффас? – то: Арника Лилиссуар? – и не могла никак выбрать между этими ужасными именами.
Потом вдруг, в день, когда были танцы, она выбрала Лилиссуара: ведь Амедей теперь назвал ее Арни́ка, с ударением на предпоследнем слове – на итальянский, как ей показалось, манер. (Он сам этого не заметил, случилось же это, конечно, затем, что фортепьяно девицы Семен всему задавало свой ритм в этот миг.) Имя его – Амедей – тоже ей сразу предстало исполненным нежданной музыки, способным выразить любовь и поэзию… Они остались вдвоем в маленькой комнатке рядом с гостиной, так близко друг к другу, что когда Арника, обессилев, уронила отяжелевшую от благодарности голову, она лбом коснулась плеча Амедея, а тот очень важно взял в ответ ручку Арники и поцеловал ей кончики пальцев.
Когда на обратном пути Амедей объявил о счастье своем другу своему Гастону, тот, против обыкновения, ничего не сказал, а когда они проходили мимо фонаря, Лилиссуару показалось, что он плачет. Как ни велика была наивность Амедея – не мог же он и впрямь думать, что друг до самого конца сможет делить его счастье… Весьма смутившись, он тут же обнял Блафаффаса (улица была пустынна) и поклялся, что, сколь ни велика его любовь, дружба гораздо сильнее, что, по его мнению, после женитьбы она нимало не должна ослабеть, что, наконец, чем видеть, как Блафаффас страдает от ревности, он готов ему обещать никогда не пользоваться своими супружескими правами.
Ни Блафаффас, ни Лилиссуар не обладали особенно бурным темпераментом, но Гастона мужская природа тревожила несколько больше; он промолчал и не помешал Амедею связать себя словом.
Вскоре после женитьбы Амедея Гастон, ушедший, себе в утешение, с головой в работу, изобрел пластический картон. Это изобретение, поначалу казавшееся пустяковым, прежде всего укрепило увядшую несколько дружбу между Блафафуарами и Левикуаном. Эвдокс Левикуан сразу же почуял, как может пригодиться новый материал для производства церковных статуй; с великолепным чувством конъюнктуры он сразу же окрестил его «римским картоном»[12]. Так была основана фирма «Блафаффас, Лилиссуар и Левикуан».
Дело было запущено на шестьдесят тысяч франков уставного капитала, из которых Блафафуары скромно подписались вдвоем всего лишь на десять, а Левикуан, категорически не желая обременять друзей долгами, щедро вложил остальные пятьдесят. Правда, сорок тысяч из этих пятидесяти дал взаймы, взяв их из приданого Арники, Лилиссуар сроком на десять лет под совокупный процент 4,5: это было больше, чем Арника отроду могла надеяться получить, и защищало небольшое состояние Амедея от крупных рисков, которых не могло избежать подобное предприятие. Зато, когда римский картон доказал свои достоинства, Блафафуары привлекли свои связи и связи Барайулей – иными словами, протекцию высшего духовенства, которое (помимо нескольких серьезных заказов) убедило многие маленькие приходы обратиться к фирме БЛЛ для удовлетворения растущих потребностей верующих, чье художественное воспитание постоянно совершенствуется и требует произведений искусства более изящных, нежели те, которыми до сей поры удовлетворялась грубая вера предков. Ради этого некоторые художники признанного Церковью достоинства, связанные с производством римского картона, добились наконец того, что их произведения были одобрены жюри Салона. Блафафуаров Левикуан оставил в По, а сам поселился в Париже, где, благодаря его сметке и хватке, фирма вскоре существенно расширилась.
Что же может быть естественней, если графиня Валентина де Сен-При пожелала через Арнику заинтересовать фирму Блафаффаса в тайном деле освобождения папы? Что она полагалась на великое благочестие Лилиссуаров, чтобы частично возместить свои расходы? К несчастью, поскольку при основании дела Блафафуары вложили не много, они мало и получали: две двенадцатых от доходов на уставный капитал, а сверх этого ничего вообще. Этого-то и не знала графиня, потому что Арника, а равно и Амедей были крайне стыдливы в отношении своего кошелька.
III– Графиня, дорогая моя! Что случилось? Меня так испугало ваше письмо!
Графиня рухнула в кресло, подвинутое для нее Арникой.
– Ах, госпожа Лилиссуар… нет, позвольте мне называть вас «друг мой»! Горе нас сближает… оно коснулось и вас… Ах, если бы вы только знали!
– Говорите же, говорите! Не томите меня ожиданием.
– Но то, что я сейчас узнала и скажу вам, должно остаться секретом между нами.
– Я еще никогда не злоупотребляла ничьим доверием, – молвила Арника с горестью: до сих пор ей никогда никаких секретов не доверяли.
– Вы не поверите!
– Поверю, поверю! – стонала Арника.
– Ах! – простонала и графиня. – Послушайте, вы не будете так любезны приготовить мне чашечку… чего-нибудь? Я чувствую, что лишаюсь сил.
– Хотите вербены? липы? ромашки?
– Не важно… лучше, пожалуй, чаю… Я сначала не хотела верить.
– На кухне есть кипяток… одну минуточку – и готово.
И покуда Арника занималась чаем, глаза графини не без цели изучали гостиную. Вся обстановка обескураживала скромностью. Стулья обиты зеленым репсом, одно кресло – гранатовым бархатом, другое, в котором сидела графиня, – простым сукном; стол, консоль красного дерева; перед камином мохнатый шерстяной коврик; на камине алебастровые часы под стеклянным колпаком, а с двух сторон от них большие ажурные алебастровые вазы, тоже под колпаками; на столе альбом семейных фотографий; на консоли Богоматерь Лурдская в своей пещере из римского картона (уменьшенная копия) – все это удручало графиню; она так и чувствовала, как падает духом.
Но может быть, они просто сквалыжничают, просто прикидываются бедными…
Вернулась Арника с чайником, сахаром и чашкой на подносе.
– Я вас так утруждаю…
– О, что вы, помилуйте! Только мне лучше приготовить все сразу: потом уже сил не будет.
– Так вот что, – начала Валентина, когда Арника уселась. – Святейший…
– Нет! Не говорите этого! Не говорите! – тотчас произнесла госпожа Лилиссуар, вытянув руку перед собой, потом тихонько вскрикнула и с закрытыми глазами упала навзничь.
– Бедный друг мой! Дорогой бедный друг мой! – твердила графиня, щупая ей пульс. – Я же знала, что этот секрет будет выше ваших сил…
Наконец Арника приоткрыла глаза и грустно прошептала:
– Он умер?
Тогда Валентина склонилась к ней и сказала на ухо:
– Он в темнице.
Изумление привело госпожу Лилиссуар в чувство; и тогда Валентина начала долгий рассказ; в датах она была нетверда, в хронологии путалась, но один факт, неоспоримый и достоверный, был налицо: Верховный понтифик попал в руки неверных; для его освобождения тайно собирается крестовый поход, а для успеха похода прежде всего требуется много денег.
– Но что скажет Амедей? – стонала Арника в полной растерянности.
Он пошел на прогулку со своим другом Блафаффасом и вернуться должен был только вечером.
– Главное, велите ему хорошенько хранить тайну, – несколько раз повторила Валентина, прощаясь с Арникой. – Поцелуемся, дорогой друг мой; не падайте духом! – Арника сконфуженно подставила графине повлажневший лоб. – Завтра я заеду узнать, что вы, по-вашему, сможете сделать. Посоветуйтесь с господином Лилиссуаром, но не забывайте: здесь судьба Церкви! И, само собой разумеется, – только вашему мужу. Вы обещаете мне, правда? Ни слова, ни единого слова!
Графиня де Сен-При оставила Арнику до того без сил, что почти без чувств. Когда Амедей пришел с прогулки, она тотчас сказала:
– Друг мой, я только что узнала невероятно печальную новость. Бедный папа римский в темнице.
– Не может быть! – сказал Амедей таким тоном, как сказал бы: «Ну и что?»
Тогда Арника разрыдалась:
– Я знала, знала, что ты мне не поверишь…
– Но погоди, погоди, дорогая… – продолжал Амедей, снимая пальто, без которого почти никуда не ходил, боясь резких перепадов температуры. – Посуди сама! Если бы кто-нибудь тронул Святейшего Отца, об этом все знали бы… В газетах было бы… Да и кто же мог его заточить в темницу?
– Валентина говорит, Ложа.
Амедей посмотрел на Арнику, думая, что она сошла с ума. Впрочем, он ей ответил:
– Ложа? Какая Ложа?
– Откуда же мне знать? Валентина обещала никому не говорить.
– А ей кто это сказал?
– Она не велела мне рассказывать… Один каноник, он приехал к ней от какого-то кардинала, с его карточкой…
Арника ничего не понимала в общественно важных делах, и обо всем, что ей рассказала госпожа де Сен-При, у нее сохранилось только общее смутное представление. При словах «темница», «заточение» в ее глазах вставали мрачные романтические образы, слова «крестовый поход» приводили ее в совершенное возбуждение, и когда Амедей наконец в смятении сказал, что сам поедет в Рим, она увидела его на коне, в латах и рыцарском шлеме… Пока же он ходил кругами по комнате и говорил:
– Во-первых, деньги; у нас их нет… И ты думаешь, от нас только и нужно – дать денег! Ты думаешь, я расстанусь с парой тысячных купюр и смогу спокойно спать! Нет, дорогая, если то, что ты мне рассказала, правда, это кошмар, и покоя теперь нам не будет. Кошмар, понимаешь?
– Да, конечно, я знаю, кошмар… Только ты мне все-таки растолкуй… почему кошмар?
– Так это еще объяснять надо! – Амедей воздел руки к небу; на висках у него проступил пот. – Нет-нет! – заговорил он снова. – Тут надобно отдать не деньги, а самого себя! Я поговорю с Блафаффасом: увидим, что-то он скажет.
– Валентина взяла с меня клятвенное обещание ни с кем не говорить об этом, – робко заметила Арника.
– Блафаффас – это не кто-нибудь, и мы строго велим ему, чтобы от него уже больше никому.
– Как же ты уедешь, чтобы никто не узнал?
– Будут знать, что я уехал, а куда поехал – не будут. – Он повернулся к ней и патетически взмолился: – Арника, дорогая! Отпусти меня!
Она рыдала. Теперь уже ей требовалась поддержка Блафаффаса. Амедей собрался сходить за ним, но тут он и сам явился, постучав, по обыкновению, в окно гостиной.
– В жизни не слышал интересней истории! – воскликнул он, когда его ввели в курс дела. – Нет, в самом деле, кто мог ожидать чего-нибудь подобного? – И не успел еще Лилиссуар хоть что-то сказать о своих намерениях, Гастон заявил: – Друг мой, нам теперь остается одно: ехать туда.
– Видишь, – сказал Амедей, – и у него это самая первая мысль.
Вторая же мысль оказалась такая:
– Но меня, к сожалению, держит здесь нездоровье моего дорогого отца.
– Что ж, оно и лучше мне отправиться одному. Вдвоем мы будем слишком приметны.
– Но ты хоть знаешь, что делать?
В ответ Амедей выпрямил спину и поднял брови, желая сказать: «Сделаю все, что смогу, о чем ты!»
Блафаффас продолжал:
– Ты знаешь, к кому обращаться? Куда ехать? Да и что ты вообще будешь там делать?
– Прежде всего разузнаю, как оно там.
– Ну а если это все-таки все неправда?
– Вот именно: я не могу так и оставаться в сомнении.
На что Гастон тотчас откликнулся:
– И я не могу!
– Подумай еще, друг мой, – сделала робкую попытку Арника.
– Я все обдумал. Поеду тайком, но поеду.
– Когда? У тебя ничего не готово.
– Нынче же в ночь. Что мне, собственно, нужно?
– Ты ведь никогда не путешествовал. Ты и не знаешь, что нужно.
– Увидишь, малышка, все будет в порядке. Я вам расскажу, что со мной там приключится, – сказал он с благодушным смешком, от которого у него заходил кадык.
– Ты же наверняка простудишься!
– Я надену твой шарф.
Он перестал расхаживать и приставил кончик пальца Арнике к подбородку, как приставляют младенцам, чтобы они улыбнулись. Гастон держался сдержанно. Амедей подошел к нему:
– У меня к тебе просьба: загляни в справочник. Скажи мне, когда есть хороший поезд на Марсель, чтобы там был третий класс. Нет-нет, только третьим, непременно! Словом, приготовь мне подробное расписание: где пересаживаться, где есть буфет; все это до границы; дальше я уж буду на пути, разберусь как-нибудь, и Бог меня до Рима доведет. Пишите мне туда до востребования.
Важность миссии опасно горячила ему голову. Гастон уже ушел, а он все еще мерил шагами комнату.
– Лишь бы это было назначено мне! – шептал он, полон восторга и сердечной благодарности: жизнь его наконец обретала смысл. Ах, сударыня, пожалейте его, не держите! На земле так мало людей, которые смогли найти свое настоящее дело.
Арника добилась от него лишь согласия остаться с ней еще одну ночь – да и Гастон в расписании, которое принес вечером, отметил поезд, уходящий в восемь утра, как самый практичный.
С утра лило ливмя. Амедей не разрешил ни Арнике, ни Гастону провожать его на вокзал. И никто не бросил прощальный взгляд вслед забавному путнику с рыбьими глазами, закутанному в темно-бордовый шарф: в правой руке серый парусиновый чемодан с пришпиленной к нему визитной карточкой, в левой – огромный потрепанный зонт, а через руку – зелено-коричневый клетчатый плед, – когда поезд его уносил в Марсель.
IVОколо того же времени Жюльюсу де Барайулю пришлось отправиться в Рим на большой конгресс по обществоведению. Собственно, его туда не приглашали (по социальным вопросам он имел не столько сведения, сколько мнения), но он был рад такому случаю, чтобы завязать отношения с некоторыми светилами науки. А поскольку как раз по дороге находился Милан, а в Милан, как мы знаем, по совету отца Ансельма отправились жить Арманы-Дюбуа, Барайуль заодно повидал и свояка.
В тот самый день, когда Лилиссуар выехал из По, Жюльюс позвонил в дверь Антиму.
Его ввели в жалкую трехкомнатную квартирку, если можно считать за комнату темную каморку под лестницей, где Вероника сама варила какие-то овощи – их обычную пищу. Уродливый металлический рефлектор переправлял в квартиру тонкий, бледный луч света из дворика; свою шляпу Жюльюс оставил у себя в руках, чтобы не класть на подозрительную клеенку, накрывавшую овальный стол. Застыв от ужаса перед ней, он схватил Антима за руку и воскликнул:
– Бедный друг мой, вы не можете здесь оставаться!
– Почему вы жалеете меня? – ответил Антим.
Вероника поспешно явилась на их голоса:
– Верите ли, дорогой Жюльюс, с нами поступили так несправедливо, так недобросовестно, а он только это одно и твердит!
– Кто велел вам ехать в Милан?
– Отец Ансельм; впрочем, мы все равно не могли больше платить за квартиру на виа ин Лючина.
– А какая нам в ней нужда? – сказал Антим.
– Вопрос не в том. Отец Ансельм обещал вам возмещение. Знает ли он о вашей нужде?
– Делает вид, что не знает, – сказала Вероника.
– Надобно жаловаться епископу Тарбскому.
– Антим так и сделал.
– И что он сказал?
– Это превосходный человек; он весьма укрепил меня в вере.
– Но с тех пор как вы здесь, вы кому-нибудь об этом дали знать?
– Я чуть было не встретился с кардиналом Пацци, который почтил меня своим вниманием; недавно я ему писал; он проезжал через Милан, но передал мне через лакея…
– Что, к сожалению, приступ подагры не позволяет ему выйти из комнаты, – перебила Вероника.
– Чудовищно! – воскликнул Жюльюс. – Об этом надо уведомить Рамполлу.
– О чем уведомить, дорогой друг? Верно, что я немного оскудел, но в чем мы нуждаемся сверх имеющегося? Когда я был состоятелен – заблуждался, грешил, болел. Теперь я здоров. Когда-то вы могли по праву жалеть меня. Да ведь вы же знаете: ложные блага отвращают от Бога.
– Но эти ложные блага, в конце концов, принадлежат вам по праву. Я согласен, что Церковь учит их презирать, но не соглашусь, когда она у вас их отбирает.
– Как верно! – сказала Вероника. – С каким облегчением я слушаю вас, Жюльюс! Он себе знай смиряется, а я вся закипаю; никак его не заставишь себя защищать; дал себя ощипать как гусенка, и еще спасибо говорит всем, кто желал взять и взял его добро во имя Божие…
– Вероника, мне тяжко слушать от тебя такие речи; все, что творится во имя Божие, – благо.
– Если вам нравится сидеть на пепелище…
– Иов сидел на гноище, друг мой.
Вероника обратилась к Жюльюсу:
– Слышите, что он говорит? И вот точно так каждый день – одни монашеские речи на устах; я с ног валюсь: покупки, стряпня, приборка, – а мне на это все цитируют Евангелие, говорят, что я пекусь о многом, и советуют смотреть на лилии полевые.
– Я тебе, как могу, помогаю, друг мой, – ангельским голосом ответил Антим. – Ведь я теперь ходячий, так что много раз предлагал тебе сходить на базар или вместо тебя прибраться в доме.
– Это дело не мужское! Пиши себе дальше свои проповеди, только старайся, чтобы тебе за них побольше платили. – Она раздражалась все больше и больше (а прежде была такая веселая!): – Стыд и срам! Вспомнить только, сколько он получал в «Депеш» за безбожные статейки – а теперь «Паломник» за его поучения дает два гроша, так он и то умудряется больше половины оставлять нищим.