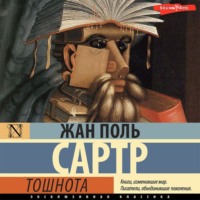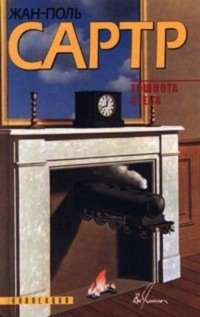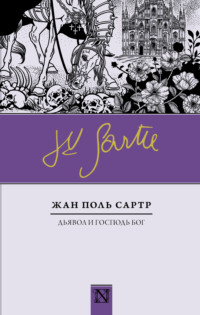Полная версия
Смерть в душе
– Ты не отдаешь честь офицерам? – спросила Ивиш.
– Зачем?
– На тебя смотрят женщины, – заметила Ивиш.
Борис не ответил; одна брюнетка улыбнулась ему, Ивиш живо обернулась.
– Да, да, он красив, – сказала она в спину брюнетке.
– Ивиш! – взмолился Борис. – Не привлекай к нам внимания.
Это была новая надоевшая песенка. Однажды утром кто-то сказал ему, что он красив, и с тех пор все ему это повторяли, Франсийон и Габель прозвали его «Рожица Амура». Естественно, Борис не поддавался на лесть, но это раздражало, потому что красота – не мужское качество. Было бы предпочтительнее, чтобы все эти бабы занимались своими ягодицами, а мужчины, проходя, немного обращали внимание на Ивиш, не слишком, но как раз достаточно, чтобы она чувствовала себя привлекательной.
На террасе кафе «Риш» почти все столики были заняты; они сели среди смазливых темноволосых девок, офицеров, элегантных солдат, пожилых мужчин с жирными руками; безобидная доброжелательная публика, их можно убить, но не причиняя им боли. Ивиш принялась дергать себя за локоны. Борис спросил ее:
– Что-то не так?
Она пожала плечами. Борис вытянул ноги и ощутил скуку.
– Что будешь пить? – спросил он.
– У них хороший кофе?
– Так себе.
– Я до смерти хочу выпить кофе. Там они варят отвратительный.
– Два кофе, – сказал Борис официанту. Он повернулся к Ивиш и спросил: – Как у тебя дела со свекром и свекровью?
Страсть угасла на лице Ивиш.
– Нормально. Постепенно становлюсь похожей на них. – Она, усмехнувшись, добавила: – Свекровь говорит, что я на нее похожа.
– Что ты делаешь целый день?
– К примеру, вчера я встала в десять часов, как можно медленнее привела себя в порядок. Так прошло полтора часа, затем читала газеты…
– Ты не умеешь читать газеты, – сурово сказал Борис.
– Да, не умею. За обедом говорили о войне, и мамаша Стюрель пустила слезу, вспомнив о своем дорогом сыночке; когда она плачет, ее губы приподнимаются, и мне всегда кажется, что сейчас она начнет смеяться. Потом мы вязали, и она мне, как женщина женщине, призналась: Жорж был слабого здоровья, когда был маленьким, представляешь, у него был энтерит в восемь лет, если бы ей пришлось выбирать между сыном и мужем, это было бы ужасно, но она предпочла бы, чтобы умер муж, потому что она больше мать, чем жена. Затем она мне говорила о своих болезнях: матка, кишечник и мочевой пузырь, кажется, с ними не все в порядке.
У Бориса на языке вертелась великолепная шутка: она пришла так быстро, что он засомневался, не вычитал ли он ее где-то? Однако нет. «Женщины между собой говорят о своем домашнем или физиологическом хозяйстве». Но фраза получалась немного педантичной, похоже на высказывание Ларошфуко. «Женщине нужно говорить о своем домашнем или физиологическом хозяйстве», или «когда женщина не говорит о своем домашнем хозяйстве, она говорит о своем физиологическом хозяйстве». Так, да, может быть… Он подумал, не рассказать ли эту шутку Ивиш? Но Ивиш все меньше и меньше понимала шутки. Он просто сказал:
– Ясно. А потом?
– Потом поднялась к себе в комнату и не выходила до ужина.
– И что ты там делала?
– Ничего. После ужина слушали новости по радио, потом комментировали их. Кажется, ничего непоправимого не произошло, нужно сохранять хладнокровие, Франция видывала времена и похуже. Потом я поднялась в свою комнату и заварила себе чай на электрической плитке. Я ее прячу, потому что она выбивает пробки один раз из трех. Потом я села в кресло и подождала, пока они уснут.
– И что тогда?
– Я вздохнула полной грудью.
– Тебе надо бы записаться в библиотеку, – сказал Борис.
– Когда я читаю, буквы прыгают у меня перед глазами. Я все время думаю о Жорже. Я помимо воли надеюсь, что мы вот-вот получим известие о его смерти.
Борис не любил своего зятя и никогда не понимал, что толкнуло Ивиш в сентябре тридцать восьмого года бежать из дому и броситься на шею этому длинному вялому типу. Но он охотно признавал, что тот не был подлецом; когда Жорж узнал, что Ивиш забеременела, он повел себя в высшей степени порядочно и настоял на их браке. Но было слишком поздно: Ивиш его ненавидела, потому что он сделал ей ребенка. Она говорила, что сама себе внушает ужас, она спряталась в деревне и не хотела видеть даже брата. Она, безусловно, покончила бы с собой, если бы так не боялась смерти.
– Какая гадость!
Борис вздрогнул.
– Что?
– Вот! – сказала она, показывая на свою чашку кофе.
Борис попробовал кофе и мирно сказал:
– Прямо скажем, не высший сорт! – Помедлив, он заметил: – Думаю, он будет становиться все хуже и хуже.
– Страна побежденных! – сказала Ивиш.
Борис осторожно посмотрел вокруг. Но никто не обращал на них внимания: люди благопристойно и сосредоточенно говорили о войне. Можно подумать, что они вернулись с похорон. Неся пустой поднос, прошел официант. Ивиш обратила на него взгляд чернильных глаз.
– Он отвратителен! – выкрикнула она.
Официант удивленно посмотрел на нее: у него были седые усы, Ивиш годилась ему в дочери.
– Этот кофе отвратителен, – сказала Ивиш. – Можете его унести.
Официант с любопытством смерил ее взглядом: она была слишком молода и не вызвала в нем робость. Когда он понял, с кем имеет дело, он грубо ухмыльнулся:
– Вы хотели бы мокко? Вы, может быть, не в курсе, что идет война?
– Я, может быть, и не в курсе, – живо ответила она, – но мой брат, который был недавно ранен, безусловно, знает это лучше вас.
Борис, пунцовый от смущения, отвел глаза. Она стала дерзкой и в карман за словом не лезла, но он сожалел о той поре, когда она злилась молча, опустив на лицо волосы: тогда было меньше неприятностей.
– В день, когда боши вошли в Париж, я не стал бы жаловаться на плохой кофе, – раздосадованно пробурчал официант.
Он ушел; Ивиш топнула ногой.
– У них только война на языке; они сами себя гонят воевать, и можно подумать, что этим гордятся. Пусть они проиграют эту войну, пусть проиграют хотя бы раз, только бы о ней больше не говорили.
Борис подавил зевок: вспышки Ивиш его больше не забавляли. Когда она была девушкой, одно удовольствие было смотреть, как она теребит волосы, топает ногами и косится, это могло развеселить на целый день. Теперь ее глаза оставались угрюмыми, казалось, в этом была некая нарочитость, в такие минуты Ивиш была похожа на их мать. «Она замужняя женщина, – с ужасом подумал Борис. – Замужняя женщина, со свекром и свекровью, с мужем на фронте и семейным автомобилем». Он недоуменно посмотрел на нее и отвел глаза, потому что почувствовал, что сейчас она вызовет у него отвращение. «Я уеду!» Он резко выпрямился: решение принято. «Я уеду, уеду с ними, я не могу больше оставаться во Франции». Ивиш что-то говорила.
– Что? – спросил он.
– Родители.
– Так что?
– Я говорю, что им не надо было уезжать из России; ты меня не слушаешь.
– Если бы они остались, их бы засадили в тюрьму.
– Во всяком случае, они не должны были заставлять нас принимать гражданство. Мы могли бы уехать к себе домой.
– У себя дома – это во Франции, – сказал Борис.
– Нет, в России.
– Во Франции, потому что они нам дали французское гражданство.
– Вот именно, – сказала Ивиш. – Они не должны были этого делать.
– Да, но ведь сделали.
– Мне это все равно. Раз они не должны были этого делать, значит, этого как бы нет.
– Будь ты сейчас в России, – сказал Борис, – ты бы там на стенку лезла.
– Мне это было бы все равно, потому что Россия – большая страна, и я бы испытывала гордость. А здесь я живу в стыде.
Она на мгновение замолчала, вид у нее был нерешительный. Борис блаженно посмотрел на нее; у него не было ни малейшего желания ей противоречить. «Она будет вынуждена остановиться, – с надеждой подумал он. – Ей уже просто нечего добавить».
Но у Ивиш было воображение: она подняла руку и сделала странный маленький бросок вперед, словно прыгала в воду.
– Ненавижу французов, – сказала она.
Господин, читавший рядом с ними газету, поднял голову и поглядел на них с рассеянным видом. Борис посмотрел ему прямо в глаза. Но почти сразу же господин встал: к нему подходила молодая женщина; он поклонился ей, она села, и они, улыбаясь, взяли друг друга за руки. Успокоенный, Борис повернулся к Ивиш. Это была большая коррида – Ивиш бормотала сквозь зубы:
– Я их ненавижу, ненавижу!
– Ты их ненавидишь, потому что они варят плохой кофе?
– Я их ненавижу за все.
Борис надеялся, что буря утихнет сама собой; но теперь стало ясно, что он ошибался и что нужно сопротивляться до последнего.
– А я их очень люблю, – сказал он. – Теперь, когда они проиграли войну, все на них будут нападать; но я их видел в деле, и уверяю тебя, что они сделали, что смогли.
– Вот видишь! – воскликнула Ивиш. – Вот видишь!
– Что я вижу?
– Почему ты говоришь: они сделали, что смогли? Если бы ты чувствовал себя французом, ты сказал бы мы.
Борис не сказал «мы» из скромности. Он покачал головой и нахмурил брови.
– Я не чувствую себя ни французом, ни русским, – ответил он. – Но я был там с другими солдатами, и мне с ними нравилось.
– Это кролики, – сказала она.
Борис притворился, будто не понимает.
– Да, замечательные кролики[9].
– Нет, нет: кролики, которые удирают. Вот так! – показала она, пробегая пальцами по столу.
– Ты как все женщины, замечаешь только воинский героизм.
– Не в этом дело. Раз они собрались воевать, нужно было воевать до конца.
Борис устало поднял руки: «Раз они собрались воевать, нужно было воевать до конца». Безусловно. Именно об этом он еще вчера говорил с Габелем и Франсийоном. Но… его рука вяло опустилась: когда человек думает не так, как вы, трудно и утомительно доказывать ему, что он не прав. Но когда он придерживается вашего мнения, а ему нужно объяснить, что он ошибается, тут поневоле теряешься.
– Перестань, – попросил он.
– Кролики! – повторила Ивиш, улыбаясь от бешенства.
– Солдаты, которые были со мной, не были кроликами, – сказал Борис. – Там были даже отчаянные ребята.
– Ты мне говорил, что они боялись умереть?
– А ты? Ты не боишься умереть?
– Я женщина.
– Что ж, они боялись умереть, и это были мужчины. Это и называется храбростью. Они знали, чем рисковали.
Ивиш подозрительно посмотрела на него:
– Уж не хочешь ли ты сказать, что и ты боялся?
– Я не боялся умереть, потому что считал, что я за смертью туда и отправился.
Он посмотрел на свои ногти и равнодушно добавил:
– Но забавно то, что я все-таки боялся.
Ивиш резко дернулась назад.
– Но из-за чего?
– Не знаю. Может быть, из-за грохота.
Фактически это длилось не более десяти, от силы двадцати минут, как раз в начале атаки. Но он не разозлился, что Ивиш приняла его за труса: это будет ему уроком. Она с нерешительным видом смотрела на него, пораженная тем, что можно бояться, будучи русским, Сергиным, ее братом. В конце концов он устыдился и поспешил уточнить:
– Ну, я не все время боялся…
Она с облегчением ему улыбнулась, и он грустно подумал: «Мы больше ни в чем не согласны». Наступило молчание; Борис отпил глоток кофе и чуть не выплюнул: ему как будто влили в рот всю его грусть. Но он подумал, что скоро уедет, и ему полегчало.
– Что ты теперь собираешься делать? – спросила Ивиш.
– Думаю, меня демобилизуют, – сказал Борис. – Действительно, мы почти все вылечились, но нас держат здесь, потому что не знают, что с нами делать.
– А потом?
– Я… попрошу должность преподавателя.
– Разве у тебя есть диплом?
– Нет. Но я имею право быть преподавателем коллежа.
– Тебе будет интересно вести уроки?
– Какое там! – вырвалось у него. Он покраснел и смиренно добавил: – Я не создан для этого.
– А для чего ты создан, братик?
– Сам не знаю.
Глаза Ивиш блеснули.
– Хочешь, я тебе скажу, для чего мы созданы? Чтобы быть богатыми.
– Это не то, – раздраженно сказал Борис.
Он искоса посмотрел на нее и повторил, сжимая в пальцах чашку:
– Это не то!
– Что же тогда то?
– Со мной было все решено, – сказал он, – но потом у меня украли мою смерть. Я ничего не умею, ни к чему не способен, у меня ни к чему нет вкуса.
Он вздохнул и замолчал, стыдясь говорить о себе самом: я не могу решиться жить посредственно. По существу, что-то подобное она только что сказала.
Ивиш продолжала свою мысль.
– Значит, у Лолы нет денег? – спросила она.
Борис подпрыгнул и ударил по столу: у нее был дар читать его мысли и переводить их в неприемлемые выражения.
– Мне не нужны деньги Лолы!
– Почему? До войны она их тебе давала.
– Что ж, больше не будет давать.
– Тогда давай вместе наложим на себя руки! – пылко сказала она.
Он вздохнул. «Ну вот, теперь она начнет снова, – тоскливо подумал он. – А ведь она уже вышла из этого возраста». Ивиш с улыбкой посмотрела на него.
– Снимем комнату у Старого порта и откроем газ.
Борис просто помахал указательным пальцем правой руки в знак отказа. Ивиш не настаивала; она опустила голову и принялась теребить локоны: Борис понял, что она хочет о чем-то его спросить. Через некоторое время она, не глядя на него, сказала:
– Я подумала…
– Что?
– Я подумала, что ты возьмешь меня с собой, и мы будем жить втроем на деньги Лолы.
Борис, чуть не подавившись, проглотил слюну.
– А, – сказал он, – вот что ты подумала.
– Борис, – с внезапным жаром заговорила Ивиш, – я не могу жить с этими людьми.
– Они худо с тобой обращаются?
– Наоборот, они меня окружают чрезмерными заботами: ведь я – жена их сына, понимаешь… Но я их ненавижу, я ненавижу Жоржа, я ненавижу их слуг…
– Ты и Лолу ненавидишь, – заметил Борис.
– Лола – это другое.
– Другое потому, что она далеко, и ты ее не видела два года.
– Лола поет, и потом, она пьет, и потом, она красива… Борис! – крикнула она. – Они безобразны! Если ты оставишь меня в их руках, я покончу с собой, нет, я не покончу с собой, будет еще хуже. Если б ты знал, какой я иногда сама себе кажусь старой и злой!
«Вот те раз!» – подумал Борис. Он выпил немного кофе, чтобы слюна проскользнула в горло; он подумал: «Нельзя причинять страдание сразу двум людям». Ивиш перестала теребить волосы. Ее широкое бледное лицо порозовело, она твердо и тревожно смотрела на него, немного походя на прежнюю Ивиш. «Может быть, она снова помолодеет? Может быть, снова станет красивой?»
Он сказал:
– При условии, что ты нам будешь готовить, страхолюдина.
Она схватила его за руку и изо всех сил сжала:
– Ты согласен?! Борис! Ты согласен?!
Я буду преподавателем в Гере. Нет, не в Гере: это лицей. В Кастельнодари. Я женюсь на Лоле: преподаватель коллежа не может жить с любовницей; с завтрашнего дня я начну готовить свои лекции. Он медленно провел рукой по волосам и осторожно потянул за чуб, чтобы проверить его прочность. «Я буду лысым, – решил он, – теперь это ясно: я полысею до того, как я умру».
– Естественно, я согласен.
Он видел, как ранним утром кружится самолет, и повторял про себя: «Утесы, красивые белые утесы, утесы Дувра».
Три часа в ПадуМатье сидел в траве; он наблюдал за черными клоками дыма над стеной. Время от времени в дыму поднималось огненное сердце и окрашивало его своей кровью: тогда искры прыгали в небо, как блохи.
– Так ведь они и пожар могут устроить, – сказал Шарло. Бабочки сажи летали вокруг них; Пинетт поймал одну и задумчиво растер пальцами.
– Все, что осталось от картины с масштабом в десять тысячных, – сказал он, показывая свой почерневший большой палец.
Лонжен толкнул калитку и вошел в сад; он плакал.
– Лонжен плачет! – удивился Шарло.
Лонжен вытер глаза.
– Сволочи! Я уж думал, что они меня прикончат.
Он рухнул на траву; в руке у него была книга с разорванной обложкой.
– Мне было нужно раздувать огонь кузнечным мехом, а они бросали в огонь свои бумаги. Весь дым шел мне в морду.
– Закончили?
– Нет. Нас прогнали, потому что будут жечь секретные документы. Тоже мне секрет: приказы, которые я сам и печатал.
– Это плохо пахнет, – сказал Шарло.
– Пахнет жареным.
– Нет, я говорю: раз жгут архивы, это плохо пахнет.
– Ну да, плохо пахнет, пахнет жареным. Я о том и говорю.
Они засмеялись. Матье показал на книгу и спросил:
– Где ты ее нашел?
– Там, – неопределенно сказал Лонжен.
– Где там? В школе?
– Да.
Он с подозрительным видом прижал к себе книгу.
– А другие там есть? – спросил Матье.
– Были и другие, но типы из интендантской службы взяли их себе.
– А это что?
– Книжка по истории.
– Какая?
– Я не знаю названия.
Он бросил взгляд на обложку, потом неохотно добавил:
– История двух Реставраций.
– А кто автор? – спросил Шарло.
– Во-ла-белль, – прочел Лонжен.
– Волабелль, кто это?
– Откуда мне знать?
– Ты мне ее одолжишь? – спросил Матье.
– Когда прочту.
Шарло забрался в траву и взял у него книгу из рук.
– Так это же третий том!
Лонжен вырвал ее.
– Ну и что? Зато можно хоть как-то мысли переключить.
Он наугад открыл книгу и сделал вид, будто читает, чтобы утвердиться в правах владельца. Исполнив эту формальность, он поднял голову.
– Капитан сжег письма своей жены, – сказал он.
Он смотрел на них, подняв брови, с простодушным видом, заранее изображая глазами и губами удивление, которое рассчитывал вызвать. Пинетт очнулся от угрюмой задумчивости и с любопытством повернулся к нему:
– Кроме шуток?
– Да. И ее фотографии он тоже сжег, я их видел в огне. Она премиленькая.
– Неужели?
– Ну я врать не буду.
– Что он говорил?
– Ничего. Он смотрел, как они горят.
– А все остальные?
– Они тоже молчали. Улльрих вынул из бумажника письма и бросил их в огонь.
– Странная затея, – пробормотал Матье.
Пинетт повернулся к нему:
– Ты не будешь жечь фотографии своей милой?
– У меня нет милой.
– А! Вот оно что.
– А ты сжег фотографии жены? – спросил Матье.
– Я жду, когда фрицы будут в поле зрения.
Они замолчали; Лонжен действительно углубился в чтение. Матье бросил на него завистливый взгляд и встал. Шарло положил руку на плечо Пинетта.
– Реванш?
– Если хочешь, давай.
– Во что играете? – спросил Матье.
– В крестики-нолики.
– А втроем можно играть?
– Нет.
Пинетт и Шарло сели верхом на скамейку; сержант Пьерне, который писал что-то на коленях, немного отодвинулся, чтобы освободить им место.
– Ты пишешь мемуары?
– Нет, – сказал Пьерне, – я занимаюсь физикой.
Они начали играть. Ниппер спал, лежа на спине и скрестив руки, с бульканьем слива воздух врывался в открытый рот. Шварц сидел в сторонке и мечтал. Никто не разговаривал, Франция была мертва. Матье зевнул, он посмотрел, как секретные документы дымом исчезают в небе, и его голова опустела: он был мертв; этот белый и тусклый послеполуденный час был могилой.
В сад вошел Люберон. Он жевал, его ресницы трепетали под большими глазами альбиноса, уши двигались одновременно с челюстями.
– Что ты ешь? – спросил Шарло.
– Хлеб.
– Где ты его взял?
Люберон вместо ответа показал куда-то в сторону и продолжал жевать. Шарло внезапно замолчал и с каким-то ужасом посмотрел на него; сержант Пьерне, подняв карандаш и запрокинув голову, тоже смотрел на него. Люберон продолжал не спеша жевать: Матье обратил внимание на его важный вид и понял, что тот принес новости; как и все, Матье испугался и отступил на шаг назад. Люберон мирно закончил есть и вытер руки о штаны. «Это был не хлеб», – подумал Матье. Подошел Шварц, и все молча ждали.
– Ну все, свершилось! – объявил Люберон.
– Что ты мелешь? – грубо спросил Пьерне. – Что свершилось?
– То самое.
– Значит…
– Да.
Стальная молния, потом тишина; вялое сизое мясо этого дня получило знак вечности, это было как удар серпа. Ни звука, ни дуновения ветра, время застыло, война отступила: только что они были в ней, под ее защитой, они могли еще верить в чудеса, в бессмертную Францию, в американскую помощь, в гибкую защиту, во вступление России в войну; теперь война была позади них, закрытая, завершенная, проигранная. Последние надежды Матье превратились в воспоминания о надеждах.
Лонжен опомнился первым. Он вытянул длинные руки, чтобы осторожно как бы пощупать новость. Он робко спросил:
– Значит… оно подписано?
– С сегодняшнего утра.
Девять месяцев Пьерне желал мира. Мира любой ценой. Теперь Пьерне стоял бледный и потный; его удивление перешло в ярость.
– Откуда ты знаешь? – крикнул он.
– Мне только что сказал Гвиччоли.
– А он откуда знает?
– По радио слышал. Только что передавали.
Он говорил голосом диктора, терпеливым и нейтральным; ему нравилось изображать из себя всеведущего.
– А как же артиллерия?
– Прекращение огня назначено на полночь.
Шарло тоже покраснел, но глаза его сверкали:
– Вот это да!
Пьерне встал. Он спросил:
– Есть подробности?
– Нет, – сказал Люберон.
Шарло кашлянул:
– А мы?
– Что мы?
– Когда мы вернемся по домам?
– Говорю же тебе, что подробностей нет.
Они помолчали. Пинетт пнул булыжник, и тот покатился в морковку.
– Перемирие! – сказал он злобно. – Перемирие!
Пьерне покачал головой; на его пепельном лице левое веко стало дергаться, как ставень в ветреный день.
– Условия будут жесткими, – сказал он, удовлетворенно ухмыляясь.
Начали ухмыляться и все остальные.
– Еще бы! – сказал Лонжен. – Еще бы!
Шварц тоже ухмыльнулся; Шарло повернулся и удивленно посмотрел на него. Шварц перестал смеяться и сильно покраснел. Шарло продолжал смотреть на него так, как будто видел его в первый раз.
– Ты теперь фриц… – тихо сказал он.
Шварц энергично и неопределенно махнул рукой, повернулся и вышел из сада; Матье почувствовал себя совсем разбитым от усталости. Он рухнул на скамейку.
– Ну и жара, – сказал он.
На нас смотрят. Все более и более плотная толпа смотрела, как они глотают эту историческую пилюлю, толпа на глазах старела и пятилась назад, шепча: «Побежденные сорокового года, солдаты-пораженцы, из-за них мы оказались в цепях». Они оставались здесь, неизменные под этими изменчивыми взглядами, судимые, точно измеренные, объясненные, обвиненные, прощенные, приговоренные, заточенные в этом неизгладимом полудне, погребенные в жужжании мух и пушек, в запахе нагретой зелени, в воздухе, дрожащем над морковью, бесконечно виновные в глазах своих сыновей, внуков и правнуков, побежденные сорокового года навсегда. Он зевнул, и миллионы людей увидели, как он зевает: «Он зевает, ну и дела! Побежденный сорокового года имеет наглость зевать!» Матье резко погасил этот неудержимый зевок, он подумал: «Мы не одни».
Он посмотрел на своих товарищей, его взгляд столкнулся с вечным и цепенящим взглядом истории: в первый раз величие спустилось им на головы: они были знаменитыми солдатами проигранной войны. Живые истуканы! «Боже мой, я читал, зевал, размахивал погремушкой своих проблем, не решался выбрать, а на самом деле я уже выбрал, выбрал эту войну, это поражение, и в сердце ждал этого дня. Все нужно начинать заново, делать больше нечего»: две мысли вошли одна в другую и взаимоуничтожились; осталась лишь спокойная поверхность Небытия.
Шарло тряхнул плечами и головой; он засмеялся, и время снова потекло. Шарло смеялся, он смеялся вопреки Истории, он защищался смехом от окаменения; он лукаво смотрел на них и говорил:
– Хорошо же мы выглядим, ребята. Что-что, а выглядим мы хорошо.
Они озадаченно повернулись к нему, и потом Люберон решил засмеяться. Он морщил нос, еле сдерживаясь, и смех выходил у него через ноздри:
– Что да, то да! Как они с нами разделались!
– Вздули что надо! – в каком-то опьянении воскликнул Шарло. – Всыпали по первое число!
В свою очередь, засмеялся Лонжен:
– Солдаты сорокового, или короли спринта!
– Победители!
– Олимпийские чемпионы по ходьбе!
– Не волнуйтесь, – сказал Люберон, – нас хорошо примут, когда вернемся, организуют нам торжественную встречу!
Лонжен издал счастливый хрип:
– Нас придут встречать на вокзал! С хоровой капеллой и гимнастическими группами.
– А каково мне, еврею! – смеясь до слез, сказал Шарло. – Представляете себе антисемитов из моего квартала!
Матье заразился этим неприятным смехом, ему показалось, что его, дрожащего от лихорадки, бросили на ледяные простыни; потом его вечное и прочное естество разбилось, разлетелось на осколки смеха. Смеясь, они отказывались от перспективы величия, отказывались во имя озорства; не следует слишком волноваться, раз есть здоровье, питье и еда, а раз так, можно пренебречь одной половиной мира и насрать на другую, из суровой ясности они отказывались от утешений величия, они отказывали себе вправе играть трагические, нет, исторические, нет: всего лишь комические роли, мы не стоим и слезинки; все предопределено: даже этого нет, в мире все случайно. Они смеялись, натыкаясь на стены Абсурда и Судьбы, которые их отшвыривали; они смеялись, чтобы наказать себя, очиститься, отомстить за себя, бесчеловечные, слишком человечные, по ту и другую сторону отчаяния: просто люди. Еще на мгновение они невольно бросили упрек лазури за свои неудачи: Ниппер по-прежнему храпел с открытым ртом, и храп его тоже был жалобой. Но вскоре их смех отяжелел, загустел, остановился после нескольких финальных взрывов: церемония закончена, перемирие признано; их после санкционировано. Время текло медленно, отвар, остуженный солнцем: нужно было снова начинать жить.