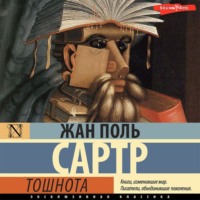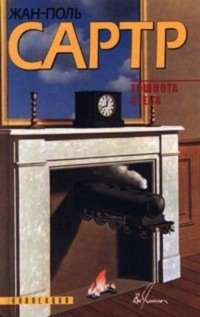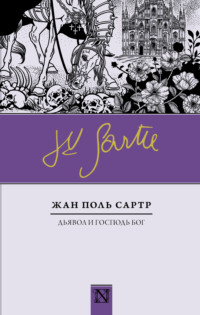Полная версия
Смерть в душе
– Я нарочно сказал, чтобы над ним подшутить.
Ответа не последовало: все смотрели на него. И потом внезапно, хотя по видимости ничего не изменилось, что-то дрогнуло, наступила разрядка, нечто вроде неподвижного рассеивания; маленькое разгневанное общество, которое образовалось вокруг него, разбрелось, Лонжен снова принялся ковырять в зубах ножом, Люберон прочистил горло, а Шарло с невинным взором начал напевать; им никогда не удавалось упорствовать в возмущении, если речь не шла об увольнительных или еде. Матье вдруг вдохнул робкий аромат полыни и мяты: после птиц пробуждались травы и цветы; они испускали запахи, как птицы до этого испускали крики. «Действительно, – подумал Матье, – есть еще и запахи». Запахи зеленые и веселые, и мелкие, и кислые: они будут все более и более сладкими, все более и более пышными и женственными по мере того, как заголубеет небо и приблизятся немецкие танкетки. Шварц шумно потянул носом и посмотрел на скамейку, которую они накануне подтащили к стене дома.
– Ладно, – сказал он, – ладно, ладно.
Он сел на скамейку, опустил руки между коленями и ссутулился, но голову держал высоко и сурово смотрел прямо перед собой. Матье поколебался, потом подошел к нему и сел рядом. Немного погодя Шарло отделился от группы и стал перед ними. Шварц поднял голову и серьезно посмотрел на Шарло.
– Мне нужно постирать белье, – сообщил он.
Наступило молчание. Шварц все еще смотрел на Шарло.
– Не я проиграл эту войну…
Шарло как будто смутился; он засмеялся. Но Шварц продолжал свою мысль:
– Если бы все поступили, как я, ее можно было и выиграть. Мне не в чем себя упрекнуть.
Он с удивленным видом почесал щеку.
– Это забавно! – сказал он.
Это забавно, подумал Матье. Да, это забавно. Он смотрит в пустоту, он думает: «Я француз» и впервые в жизни считает это забавным. Это забавно. Франция – мы ее никогда не видели, мы были внутри, это было давление воздуха, притяжение земли, пространство, видимость, спокойная уверенность, что мир создан для человека; так естественно было быть французом; это было самое простое, самое экономичное средство чувствовать себя всемирным. Ничего не нужно объяснять; это другим – немцам, англичанам, бельгийцам – нужно объяснять, из-за какой незадачи или ошибки они были не совсем людьми. Теперь Франция легла навзничь, и мы ее видим, мы видим большой поврежденный механизм и думаем: вот и случилось. Плохой участок почвы, плохой поворот истории. Мы пока еще французы, но это больше не естественно. Достаточно было плохого поворота, чтобы дать нам понять, что мы случайны. Шварц думает, что он случаен, он больше сам себя не понимает, он обременен самим собой; он думает: как можно быть французом? Он думает: «Если бы мне чуть-чуть повезло, я мог бы родиться немцем». Теперь он принимает суровый вид и напрягает слух, пытаясь услышать, как катится к нему его сменная родина; он ждет сверкающие армии, которые устроят ему праздник; он ждет того момента, когда сможет обменять наше поражение на их победу, когда ему покажется естественным быть победителем и немцем.
Шварц, зевая, встал.
– Что ж, – сказал он, – пойду стирать белье.
Шарло развернулся и присоединился к Лонжену, который разговаривал с Пинеттом. Матье остался один на скамейке.
В свою очередь, шумно зевнул Люберон.
– Как здесь осточертело! – в сердцах произнес он.
Шарло и Лонжен зевнули. Люберон посмотрел, как они зевают, и снова зевнул.
– Эх, хорошо бы, – сказал он, – сейчас потрахаться.
– Ты что, можешь трахаться в шесть часов утра? – возмущенно спросил Шарло.
– Я? В любое время.
– А я нет. У меня трахаться не больше желания, чем получать пинки в зад.
Люберон ухмыльнулся.
– Был бы ты женат, ты б научился делать это и без желания, дурак! Что хорошо в траханье, так это то, что по ходу ни о чем не думаешь.
Они замолчали. Тополя дрожали, вечное солнце дрожало среди листвы; издалека слышался добродушный грохот канонады, такой повседневный, такой успокаивающий, что его можно было принять за шум природы. Что-то оборвалось в воздухе, и оса совершила среди них долгое изящное пике.
– Послушайте! – сказал Люберон.
– Что это?
Вокруг них было что-то вроде пустоты, странное спокойствие. Птицы пели, на заднем дворе кричал петух; вдалеке кто-то равномерно бил по куску железа; однако это была тишина: канонада прекратилась.
– Э! – удивленно протянул Шарло. – Э! Скажи-ка!
– Ага.
Они прислушались, не переставая смотреть друг на друга.
– Так все и начинается, – равнодушным тоном проговорил Пьерне. – В определенный момент по всему фронту наступает тишина.
– По какому фронту? Фронта нет.
– Ну, повсюду.
Шварц робко шагнул к ним.
– Знаете, – сказал он, – я думаю, сначала должен быть сигнал горна.
– Придумал! – возразил Ниппер. – Связи больше нет; даже если бы они заключили мир сутки тому назад, мы бы его все еще ждали.
– Может быть, война кончилась уже с полуночи, – сказал Шарло, смеясь от надежды. – Прекращение огня всегда происходит в полночь.
– Или в полдень.
– Да нет же, глупый, в ноль часов, понимаешь?
– Да замолчите же! – прикрикнул Пьерне.
Они замолчали. Пьерне прислушивался с нервным тиком на лице; у Шарло был полуоткрыт рот; сквозь оглушающую тишину они вслушивались в Мир. Мир без славы и без колокольного звона, без барабанов и труб, Мир, похожий на смерть.
– Мать твою! – выругался Люберон.
Гул возобновился, он казался менее глухим, более близким и угрожающим. Лонжен скрестил длинные руки и хрустнул пальцами. Он с досадой сказал:
– Черт побери, чего они ждут? Они думают, что мы еще недостаточно разгромлены? Что мы потеряли недостаточно людей? Неужели нужно, чтобы Франция полностью пропала, а иначе они не остановят бойню?
Все были вялы, издерганы, уязвлены, с землистыми лицами людей, страдающих несварением. Достаточно было удара барабана на горизонте – и большая волна войны снова обрушилась на них. Пинетт резко повернулся к Лонжену. Его глаза смотрели остервенело, пальцы стиснули край желоба.
– Какая бойня? А? Какая бойня? Где они, убитые и раненые? Если ты их видел, значит, тебе повезло. Я же видел только трусов вроде тебя, которые бегали по дорогам с дрейфометром на шее.
– Что с тобой, дурачок? – с ядовитым участием спросил Лонжен. – Ты себя плохо чувствуешь?
Он бросил на остальных многозначительный взгляд:
– Он был хороший паренек, наш Пинетт, его очень любили, потому что он сачковал, как и мы, уж он не вышел бы вперед, если бы потребовался доброволец. Жалко, что он хочет повоевать теперь, когда война уже закончена.
Глаза Пинетта сверкнули:
– Ничего я не хочу, мудило!
– Хочешь! Ты хочешь в солдатики поиграть.
– И то лучше, чем обделываться, как ты.
– Слыхали: я обделываюсь, потому что сказал, что французская армия получила взбучку.
– А ты уверен, что французская армия получила взбучку? – заикаясь от гнева, спросил Пинетт. – Ты что, посвящен в тайны главнокомандующего, генерала Вейгана?
Лонжен заносчиво и устало улыбнулся:
– Кому нужны тайны главнокомандующего: половина войск беспорядочно отступает, а другая окружена; тебе этого мало?
Пинетт рубанул воздух рукой:
– Мы перегруппируемся на Луаре, а в Сомюре соединимся с Северной армией.
– Ты в это веришь, умник?
– Так мне сказал капитан. Спроси у Фонтена.
– Северной армии придется повертеться, потому что у них на хвосте боши. А что до нас, то мы вряд ли с ними встретимся.
Пинетт исподлобья посмотрел на Лонжена, тяжело дыша и топая ногой. Он сердито тряхнул плечами, как бы намереваясь сбросить ношу. Наконец он зло и затравленно проговорил:
– Даже если мы отступим до Марселя, даже если пересечем всю Францию, останется Северная Африка.
Лонжен скрестил руки и презрительно улыбнулся:
– А почему не Сен-Пьер и Микелон[8], болван?
– Ты себя считаешь умником? Скажи, ты себя считаешь умником? – спросил Пинетт, наступая на него.
Шарло бросился между ними.
– Ну! Ну! – сказал он. – Вы что, собираетесь ссориться? Все согласны, что война ничего не решает и что вообще больше не нужно воевать. Бог нам в помощь! – воскликнул он пылко. – Вообще никогда!
Он напряженно смотрел на всех, он дрожал от страсти. Страсти всех примирить: Пинетта и Лонжена, немцев и французов.
– Наконец, – почти умоляющим голосом сказал он, – нужно суметь с ними поладить, они ведь не собираются всех нас уничтожить.
Пинетт обратил свое бешенство на него:
– Если война проиграна, то лишь из-за таких, как ты.
Лонжен ухмылялся:
– Еще один никак не поймет.
Наступило молчание; потом все медленно повернулись к Матье. Он этого ждал: в конце каждого спора его делали арбитром, так как он был самый образованный.
– Что ты об этом думаешь? – спросил Пинетт.
Матье опустил голову и не ответил.
– Ты что, глухой? Тебя спрашивают, что ты об этом думаешь?
– Ничего, – ответил Матье.
Лонжен пересек тропинку и стал перед ним:
– Как – ничего? Преподаватель все время думает.
– Что ж, как видишь, не все время.
– Ты все-таки не дурак: ты хорошо знаешь, что сопротивление невозможно.
– Откуда мне это знать?
В свою очередь, подошел и Пинетт. Они стояли по обе стороны Матье, словно его добрый и злой ангелы.
– Ведь ты не пал духом, – сказал Пинетт. – Неужто ты считаешь, что французы не должны сражаться до конца?
Матье пожал плечами:
– Если бы сражался я, я мог бы иметь свое мнение. Но погибают другие, сражаться будут на Луаре, и я не могу решать за них.
– Вот видишь, – сказал Лонжен, насмешливо глядя на Пинетта, – бойню за других не решают.
Матье встревоженно посмотрел на него:
– Я этого не сказал.
– Как не сказал? Ты только что это сказал.
– Если бы оставался шанс, – промолвил Матье, – совсем крохотный шанс…
– И что?
Матье покачал головой:
– Как знать?..
– И что же это означает? – спросил Пинетт.
– Это означает, – объяснил Шарло, – что осталось только ждать, стараясь при этом не портить себе кровь.
– Нет! – крикнул Матье. – Нет!
Он резко встал, сжимая кулаки.
– Я жду с самого детства!
Они недоуменно смотрели на него, он понемногу успокоился.
– Что означает наше решение? – сказал он. – Кто спрашивает наше мнение? Вы отдаете себе отчет в нашем положении?
Они испуганно попятились.
– Ладно, – сказал Пинетт, – ладно, мы его знаем.
– Ты прав, – сказал Лонжен, – солдат не имеет права на собственное мнение.
Его холодная и слюнявая улыбка ужаснула Матье.
– Пленный еще меньше, – сухо ответил он.
Всё спрашивает у нас нашего мнения. Всё. Большой вопрос окружает нас: это фарс. Нам задают вопрос, как людям; нас хотят заставить думать, что мы еще люди. Но нет. Нет. Нет. Какой фарс – эта тень вопроса, который задают одни тени войны другим.
– А что за польза иметь собственное мнение? Решать-то не тебе.
Матье замолчал. Он вдруг подумал: «Нужно будет жить». Жить, срывать день за днем заплесневелые плоды поражения, платить за этот тотальный выбор, от которого он сегодня отказывался. «Но, Боже мой! Я не хотел ни этой войны, ни этого поражения: что за фокус – обязывать меня нести за них ответственность?» Он почувствовал, как в нем поднимается гнев – ярость попавшего в ловушку зверя, и, подняв голову, он увидел, как такой же гнев блестит в глазах его товарищей. Крикнуть в небо всем вместе: «Мы не имеем ничего общего с этой бойней! Мы не имеем ничего общего с этой бойней! Мы невиновны!» Его порыв угас: безусловная невиновность сияла в утреннем солнце, ее можно было ощутить на листьях травы. Но она так мала: истиной была эта неуловимая общая вина, наша вина. Призрак войны, призрак поражения, призрачная виновность. Он по очереди посмотрел на Пинетта и Лонжена и развел руками: он не знал, хотел ли он им помочь или попросить у них помощи. Они тоже посмотрели на него, потом отвернулись и удалились. Пинетт смотрел себе под ноги. Лонжен улыбался самому себе напряженной и смущенной улыбкой; Шварц стоял в стороне с Ниппером, они говорили друг с другом по-эльзасски, они уже были похожи на двух сообщников; Пьерне судорожно сжимал и разжимал правый кулак. Матье подумал: «Вот чем мы стали».
Марсель, 14 часовРазумеется, он сурово осуждал грусть, но когда в нее впадаешь, чертовски трудно от нее избавиться. «Должно быть, у меня несчастный характер», – подумал он. У него было много поводов радоваться, в частности, он мог бы себя поздравить с тем, что избежал перитонита, выздоровел. Но вместо этого он думал: «Я пережил самого себя» и сокрушался. В грусти именно причины радоваться становятся грустными, и радуешься грустно. «Однако, – подумал он, – я умер». Насколько это зависело от него, он умер в Седане в мае сорокового года: скукой были все те годы, которые ему оставалось жить. Он снова вздохнул, проследил взглядом за большой зеленой мухой, ползающей по потолку, и решил: «Я – посредственность».
Эта мысль была ему глубоко неприятна. До сих пор Борис выдерживал правило никогда не задумываться о себе и чувствовал себя превосходно; с другой стороны, пока речь шла только о том, чтобы погибнуть, его посредственность не имела такого уж значения: наоборот, меньше оснований для сожалений. Но теперь все изменилось: ему выпала участь жить, и он вынужден был признать, что не имел для этого ни призвания, ни таланта, ни денег. Короче, ни одного потребного качества, кроме здоровья. «Как я буду скучать!» – подумал он. И почувствовал себя обманутым. Муха, жужжа, улетела. Борис провел рукой под рубашкой и погладил шрам, который прочертил его живот на уровне паха; он любил трогать этот маленький рубец плоти. Он смотрел на потолок, он гладил шрам, и на сердце у него было тяжело. В палату вошел Франсийон, направился к Борису, неторопливо шагая между пустыми койками, и вдруг остановился, разыгрывая удивление.
– Я тебя искал во дворе.
Борис не ответил. Франсийон негодующе скрестил руки.
– Два часа дня – а ты еще в постели!
– Я сам себе надоел, – сказал Борис.
– У тебя хандра?
– Никакая не хандра, просто я сам себе надоел.
– Не переживай. В конце концов это закончится.
Он сел у изголовья Бориса и начал скручивать папиросу. У Франсийона были большие глаза навыкате и нос, как орлиный клюв; вид у него был свирепый. Борис его очень любил: иногда, едва взглянув на него, он разражался безумным хохотом.
– Ждать недолго! – сказал Франсийон.
– А сколько?
– Четыре дня.
Борис посчитал по пальцам:
– Получается восемнадцатого.
Франсийон в знак согласия что-то пробормотал, лизнул клейкую бумагу, закурил папиросу и доверительно наклонился к Борису.
– Здесь никого нет?
Все койки были пусты: люди были во дворе или в городе.
– Как видишь, – сказал Борис. – Разве что шпионы под койками.
Франсийон нагнулся ниже.
– В ночь на восемнадцатое дежурит Блен, – объяснил он. – Самолет будет на площадке, готовый к отлету. Он нас пропустит в полночь, в два часа взлетаем, в Лондоне будем в семь. Что скажешь?
Борис ничего не ответил. Он щупал шрам и думал: «Они везучие», – и ему становилось все грустнее и грустнее. Сейчас он меня спросит, что я решил.
– А? Ну? Так что ты об этом думаешь?
– Я думаю, что вы везучие, – сказал Борис.
– Как везучие? Тебе остается только пойти с нами. Ты же не скажешь, что это для тебя неожиданность? Мы ведь тебя предупредили.
– Да, – признал Борис. – Это так.
– Так что же ты решил?
– Я решил: черта с два, – с раздражением ответил Борис.
– Однако же ты не собираешься оставаться во Франции?
– Не знаю.
– Война не закончена, – упрямо сказал Франсийон. – Те, кто говорит, что она закончена, трусы и лжецы. Ты должен быть там, где сражаются; ты не имеешь права оставаться во Франции.
– И ты меня в этом уверяешь? – горько спросил Борис.
– Тогда решай.
– Подожди. Я жду приятельницу, я тебе об этом говорил. Решу, когда ее увижу.
– Тут не до приятельниц: это мужское дело.
– Сделаю, как сказал, – сухо промолвил Борис.
Франсийон смутился и замолчал. «А вдруг он решит, что я их выдам?» Борис заглядывал ему в глаза, пока не увидел на лице Франсийона доверчивой улыбки, которая его успокоила.
– Вы прилетите в семь? – спросил Борис.
– В семь.
– Берега Англии по утрам должны быть восхитительны. Со стороны Дувра там большие белые утесы.
– Да, – подтвердил Франсийон.
– Я никогда не летал самолетом, – сказал Борис.
Он вынул руку из-под рубашки.
– Тебе случается чесать шрам?
– Нет.
– Я свой все время чешу: это меня раздражает.
– Если вспомнить, где расположен мой, – сказал Франсийон, – мне было бы сложно чесать его на людях.
Наступило молчание, потом Франсийон продолжил:
– Когда придет твоя приятельница?
– Не знаю. Она должна приехать из Парижа – попробуй доберись оттуда!
– Ей лучше поторопиться, – заметил Франсийон, – потому что времени у нас в обрез.
Борис вздохнул и повернулся на живот. Франсийон равнодушно продолжал:
– Свою я оставляю в неведении, хотя я ее вижу каждый день. В вечер отъезда я ей пошлю письмо: когда она его получит, мы будем уже в Лондоне.
Борис, не отвечая, покачал головой.
– Ты меня удивляешь, – сказал Франсийон. – Сергин, ты меня удивляешь!
– Кое-что тебе не понять, – ответил Борис.
Франсийон замолчал, протянул руку и взял книгу. Они пролетят над утесами Дувра ранним утром. Но что толку об этом думать: Борис не верил в чудеса, он знал, что Лола скажет нет.
– «Война и мир», – прочел Франсийон. – Что это?
– Это роман о войне.
– О войне четырнадцатого года?
– Нет. О другой. Но там всегда одно и то же.
– Да, – смеясь, согласился Франсийон, – там всегда одно и то же.
Он наугад открыл книгу и погрузился в чтение, хмуря брови с видом горестного интереса.
Борис снова прилег на койку. Он думал: «Я не могу причинить ей боль, я не могу уйти второй раз, не поговорив с ней. Если я останусь ради нее, это будет доказательством любви. Да уж, странное получается доказательство». Но есть ли у солдата право оставаться ради женщины? Франсийон и Габель, разумеется, скажут, что нет. Но они слишком молоды, они не знают, что такое любовь. «Что такое любовь, я уже знаю, тут меня просвещать не надо, и я знаю ее цену. Следует ли остаться, чтобы сделать женщину счастливой? При таком раскладе скорее всего что нет. Но можно ли уехать, сделав при этом кого-то несчастным?» Он вспомнил высказывание Матье: «У меня всегда хватит храбрости, чтобы при необходимости доставить кому-то страдание». Все так, но Матье всегда поступал обратно своим словам, и храбрости доставить кому-то горе ему явно не хватало. У Бориса сжалось горло: «А что, если это просто безрассудная выходка? Что, если это чистейший эгоизм: отказ от тягот цивильной жизни? А может, я прирожденный искатель приключений? А может, вообще погибнуть легче, чем жить? А может, я остаюсь из-за любви к комфорту, из-за страха, из-за желания иметь под рукой женщину?» Он обернулся. Франсийон склонился над книгой прилежно и в то же время с каким-то недоверием, как будто он пытался уличить автора в неправде. «Если я смогу ему сказать: я еду, если это слово сможет сорваться с моих губ, то так тому и быть». Он прочистил горло, приоткрыл рот и ждал. Но слово не шло на язык. «Я не могу причинить ей такое горе». Борис понял, что без совета Лолы он ничего не решит. «Она, безусловно, скажет нет, и все будет улажено. А если она не придет вовремя? – испуганно подумал он. – Если ее не будет к восемнадцатому? Нужно будет решать одному? Предположим, я остался, она приезжает двадцатого и говорит: я бы позволила тебе уехать. То-то физиономия у меня будет. Другое предположение: я уезжаю, она приезжает девятнадцатого и кончает с собой. Ох! Дьявол!» Все перемешалось у него в голове, он закрыл глаза и погрузился в сон.
– Сергин! – крикнул от двери Берже. – Тебя во дворе ждет девушка.
Борис вздрогнул, Франсийон поднял голову.
– Это твоя приятельница.
Борис опустил ноги и почесал стриженую голову.
– Держи карман шире, – зевая, сказал он. – Нет, сегодня меня навещает сестра.
– Да? Сегодня тебя навещает сестра? – ошалело повторил Франсийон. – Это та девушка, которая была с тобой прошлый раз?
– Да.
– Она недурна, – вяло заметил Франсийон.
Борис замотал обмотки и надел куртку; он двумя пальцами отдал честь Франсийону, пересек палату и, посвистывая, спустился по лестнице. На середине лестницы он остановился и рассмеялся. «Забавно! – подумал он. – Забавно, что я печален». Ему вовсе не хотелось видеть Ивиш. «Когда мне грустно, она не помогает, – подумал он, – наоборот, удручает».
Ивиш ждала его во дворе госпиталя: вокруг кружили солдаты, поглядывая на нее, но она не обращала на них внимания. Она издалека улыбнулась ему:
– Здравствуй, братик!
Увидев Бориса, солдаты засмеялись и закричали; они его очень любили. Борис приветственно махнул им рукой, но без удовольствия отметил, что никто ему не говорит: «Счастливчик» или «Лучше бы мне ее иметь в своей постели, чем винтовку». Действительно, после выкидыша Ивиш сильно постарела и подурнела. Естественно, Борис по-прежнему гордился ею, но уже как-то иначе.
– Здравствуй, страхолюдина, – сказал он, касаясь шеи Ивиш кончиками пальцев.
От нее теперь всегда веяло одеколоном и лихорадкой. Он беспристрастно оглядел ее.
– Ты паршиво выглядишь, – сказал он.
– Знаю. Я безобразна.
– Ты больше не красишь губы?
– Нет, – жестко сказала она.
Они замолчали. На ней была ярко-красная блузка с закрытым воротом, очень русская, которая делала ее еще бледней. Ей бы очень пошло открыть немного плечи и грудь: у нее были очень красивые круглые плечи. Но она предпочитала закрытые блузки и слишком длинные юбки: можно подумать, что она стыдилась своего тела.
– Останемся здесь? – спросила она.
– У меня есть право выходить в город.
– Автомобиль ждет нас, – сказала Ивиш.
– Он не здесь? – испуганно спросил Борис.
– Кто?
– Свекор.
– Еще чего!
Они пересекли двор и прошли через ворота. Увидев огромный зеленый «бьюик» господина Стюреля, Борис почувствовал, до чего он раздосадован:
– В следующий раз скажи, чтобы он ждал на углу улицы.
Они сели в автомобиль; он был до смешного просторным, в нем можно было затеряться.
– Здесь можно играть в жмурки, – процедил сквозь зубы Борис.
Шофер обернулся и улыбнулся Борису; это был кряжистый и подобострастный мужчина с седыми усами.
– Куда отвезти мадам?
– Что скажешь? – спросил Борис.
Ивиш подумала:
– Я хочу видеть людей.
– Тогда на ла Канебьер?
– Ла Канебьер? Нет! Да, да, если хочешь.
– На набережные на углу ла Канебьер, – сказал Борис.
– Хорошо, месье Сергин.
«Бездельник!» – подумал Борис. Машина тронулась, и Борис стал смотреть в окно, ему не хотелось разговаривать, потому что шофер мог их слышать.
– Ну что Лола? – спросила Ивиш.
Он повернулся к ней: у нее был совершенно непринужденный вид; он приложил палец к губам, но она повторила звучно и громко, как будто шофер был просто деревянной чуркой:
– Как Лола? У тебя есть от нее известия?
Он, не отвечая, пожал плечами.
– Эй!
– Известий нет, – сказал он.
Когда Борис лечился в Туре, Лола приехала и поселилась рядом с ним. В начале июня его эвакуировали в Марсель, а она заехала в Париж, чтобы взять деньги в банке перед тем, как присоединиться к нему. С тех пор произошли «события», и он больше ничего не знал. Толчок бросил его на Ивиш; они занимали так мало места в «бьюике», что он вспомнил время, когда они только что приехали в Париж: они развлекались, считая себя двумя сиротами, заблудившимися в Париже, и часто вот так прижимались друг к другу на скамье в «Доме» или в «Куполе». Он поднял голову, собираясь напомнить ей об этом, но увидел, какая она угрюмая, и только сказал:
– Париж взят, ты знаешь?
– Знаю, – безразлично сказала Ивиш.
– А что твой муж?
– Никаких известий.
Она наклонилась к нему и тихо сказала:
– Пусть он подохнет.
Борис бросил взгляд на шофера и увидел, что тот смотрит на них в зеркало. Он толкнул локтем Ивиш, и она замолчала: но на ее губах сохранялась злобная и мрачная улыбка. Машина остановилась в нижней части ла Канебьер. Ивиш спрыгнула на тротуар и повелительно-непринужденно сказала шоферу:
– Заедете за мной в кафе «Риш» в пять часов.
– До свидания, месье Сергин, – любезно попрощался шофер.
– Пока, – раздраженно сказал Борис.
Он подумал: «Я вернусь на трамвае». Он взял Ивиш за руку, и они пошли вверх по ла Канебьер. Мимо прошли офицеры; Борис их не поприветствовал, и их это, похоже, нисколько не задело. Борис был раздосадован, потому что женщины на него оборачивались.