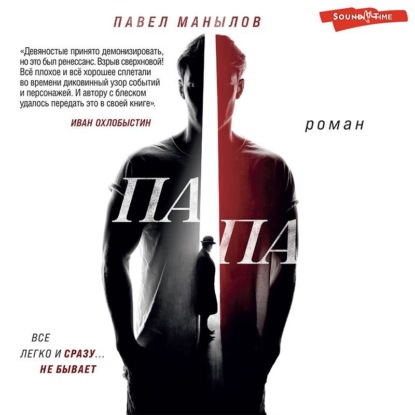Полная версия
Разговорные тетради Сильвестра С.
Маркелл. Никаких сомнений. И молитва, и икона, и даже ладан в кадильнице. Потому-то знаменный распев будет вечным и, пока стоит Святая Русь, никогда не исчезнет.
Сильвестр. Исчез уже… Патриарх Никон заменил унисон на партесное пение, на концерт…
Маркелл. А старообрядцы?
Сильвестр. Разве что… но их немного. Горстка, да и то все в скитах скрываются, затворничают, таятся…
Маркелл. Немного, но удержат, не дадут исчезнуть. А там и музыканты подхватят…
Сильвестр. У наших музыкантов нынешних две забавы: джаз и серия.
Маркелл (прикладывая ладонь к уху). Чевой-то?
Сильвестр. Джаз от американских негров к нам занесло, а серию – от австрияков.
Маркелл. И что же оная серия собой представляет?
Сильвестр. Аккурат двенадцать звуков.
Маркелл. И ни один не повторяется?
Сильвестр. Угадал. Точно. А раз не повторяются, то и завершения нет, то бишь тоники, если по-ученому.
Маркелл (отводя ладонью оговорку Сильвестра). Ты насчет моей учености не сомневайся. Я вон сколько книжек навалял – всех не перечитаешь. Поэтому так тебе скажу. Все двенадцать твоих свободно висят в пространстве, как ночные звезды.
Сильвестр. Да ты еще и поэт!
Маркелл (увлекшись). Ухо ждет завершения, а его и нет. Нетути. Вот и выходит не распевание, а… распивание.
Сильвестр. Что за распивание?
Маркелл (со смешком). Распитие. Распитие браги хмельной, иначе от этих висяков свихнуться можно. Шучу, шучу.
Сильвестр (трогая бородку). Уразумел, что шутишь. Хотя здесь не смеяться, а плакать надо. Наши-то так и стараются если не джазу подпустить в свои симфонии и квартеты, то серию непременно где-то ввернуть. От этого соблазна даже великие не могут удержаться – Шостакович и Прокофьев. Знаменный распев же – это Рахманинов. Его одного не купишь ни джазом, ни серией, раз он на колокола богат.
Маркелл (ему не понравился такой счет). Его одного… Неужели Русь-матушка оскудела? Других, что ли, вовсе нет?
Сильвестр. Есть Чайковский, Римский-Корсаков… Ну и помельче – Гречанинов, Кастальский, но главный здесь Рахманинов, создатель «Всенощной». Да и не только «Всенощной»… Знаменный распев у него по многим произведениям проходит. В нем душа его музыки, сокровенная тайна…
Маркелл. Недаром его Шостакович и Прокофьев так не любили.
Сильвестр. Ты и это знаешь. Я сам помню, как в консерваторском классе Шостакович собрался однажды с учениками «Всенощную» Рахманинова слушать, да и не смог. Бесы в нем возмутились. Восстали, как большевики в Петрограде. Корежить его стало. Шучу, шучу.
Маркелл. Хорошо, Рахманинов… Ну а сам ты? О себе-то что молчишь? Не смеешь сказать?
Сильвестр (иноческая бородка, пронзительная синева в глазах). Не смею.
2О себе промолчал. Из смирения промолчал, понятное дело. Не станет же он себя выпячивать, восхвалять перед Маркеллом и свои заслуги расписывать.
Но о двух искушениях нынешней музыки – джазовом и серийном – сказал определенно и с сознанием собственной правоты. Замечу, правоты, основанной на опыте. Да-с. За это ручаюсь, потому как сам был свидетель умиленный. Сколько чужих партитур через его руки прошло! Сколько просидел он, сутулясь и листая их под лампой – и печатные, и исписанные от руки!
И в каждой третьей-четвертой – джаз или серия. Замаскированные, зашифрованные, глубоко запрятанные, нет-нет, да и выглянут, рыльце свое глумливое покажут. Нате-ка, полюбуйтесь, какие мы! А как же иначе: джаз и серия – признак респектабельности, хорошего тона. Как говорят французы, комильфо.
А что же знаменный распев? Ему бы и стать третьим началом (но не соблазном), воцариться, восторжествовать. Пробовали. Пробовали и в Петербурге, и особенно в Москве… и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Николай Семенович Голованов, но джаз и серия все забили, заглушили, заполонили, как лопух, как репейник, как борщевик…
Это не мои слова. Я лишь вторю тому, что слышал от Сильвестра.
Известно, что с борщевиком (большевиком) не поборешься, не одолеешь: нужны героические усилия, чтобы его извести. А Сильвестр все равно боролся, изводил его как мог. Может, не надо было? Я задавал ему, словно бы ненароком (стирая пыль с рояля), этот вопрос.
Признаюсь, я ведь и сам тайный (для Сильвестра) поклонник джаза. Да что там я! И Игорь Федорович Стравинский баловался, и Сергей Сергеевич Прокофьев, Дмитрий Дмитриевич Шостакович заигрывали, прикидывали и примеривались. Прокофьев привез из Парижа великолепную, изысканную по подбору коллекцию пластинок американского джаза – от Дюка Эллингтона до разных редкостей и диковинок. Шостакович подобным сокровищем не обладал, пробавлялся тем, что удавалось достать, но тоже старался не пропускать новинок.
А уж про рядовую интеллигенцию нашей совдепии я и не говорю: она на джазе воспитывалась, взрастала. Словно на дрожжах на нем взошла. Для нее джаз – это, помимо всего прочего, фронда, протест, демонстрация неповиновения. Хотя чего там не повиноваться, если среди советской элиты были поклонники джаза – такие как Юрий Владимирович Андропов, глава могущественного КГБ.
Так, может, не надо? Сильвестр мне не возражал, а лишь водил при случае показывать поле возле деревушки Захарьино, неподалеку от Купавны, сплошь заросшее борщевиком (жуткая картина). И писал свою музыку – по тогдашним условиям, в стол, под сукно.
Ради чего? Ради возрождения и конечного торжества знаменного распева. Это мои слова. Сильвестр себе бы не позволил, не стал бы впадать в подобный пафос. Пафосники, слагатели гимнов, славящих державу, для него, как и для Николая Семеновича Голованова, любителя скоморошьего лексикона, – гимнюки. Он же все больше отшучивался, юморил, каламбурил: «Все мы встанем под знамена знаменного распева». Каково! Под знамена он встанет! Хоругвь с портретом вождя понесет!
Отчебучит такое и ждет, когда я засмеюсь, сам же даже не улыбнется. Лишь тронет бородку и опустит глаза. Поищет, чем бы занять руки.
3Итак, Сергей Прокофьев, Неведомый собеседник (Шёнберг), Маркелл Безбородый… вот интрига-то и завязывается. Ну и помимо этих троих тетради Сильвестра своей интригующей притягательностью во многом обязаны N и P – Нейгаузам (о Генрихе Нейгаузе и его друге Габричевском я уже немного рассказал) и Пастернакам со всем их причтом, то бишь окружением. Благодаря своей бабке и одному из дядюшек Сильвестр был о них не только наслышан, но даже с ними знаком, вхож в дом, что называется: «Ах, это вы, Сильвестр! Рады вам. Проходите. Спасибо, чудесные розы. Принесли новое сочинение?»
Такими словами его встречали. И улыбка была изысканно любезной, и в протянутой, слегка изогнутой руке с собранной на косточке обнаженного локтя персиковой, умащенной дорогими кремами кожей угадывалась итальянская грация.
До сочинения еще дело дойдет, снизойдут, выслушают с убежденно-скучающим видом (а может, и не дойдет – зависит от настроения). А пока Сильвестр удостоен чести сидеть за столом, почтительно принимать из рук хозяйки чашку только что налитого пунцово-красного чая, внимать остротам и каламбурам хозяина.
Внимать, если тот в ударе, разумеется, и сам это чувствует, упоенный собой, красивый, с великолепной шевелюрой, поднятой надо лбом, словно выгнутое крыло птицы, с алым румянцем, уподобляющим его распустившейся розе (недаром близкий друг Нейгауза, «квадратная голова» Габричевский не уставал влюбленно повторять: «Гарри – это роза!»).
При этом Генрих Густавович очаровательно пришепетывает по-польски, со старомодной почтительностью целует ручки дамам, и при смене выражений глаза загадочно меняют свой цвет, кажутся то карими, то зелеными, то синими…
Сильвестр допущен и в святая святых – кабинет Нейгауза, куда тот удаляется, чтобы побренчать немного, по его собственным, небрежно брошенным словам. Но бренчит он великолепно, хотя, что греха таить, частенько мажет, путается, забывает, но все равно – великолепно, и Сильвестр восхищен, заворожен и подавлен его мастерством (сам он всегда играл суховато, по-композиторски).
Точно так же и с Пастернаком: Сильвестр, бывает, удостаивается чести, допускается в святая святых, но на этот раз в кабинет не столько музыканта, сколько поэта, где особый сумрак и тишина. Издалека доносится колокольный звон церкви Спаса-Преображения, окно наполовину залеплено снегом, сосульки свисают с карниза, синицы расклевывают хлебную корку на перилах крыльца. И Борис Пастернак своим гудящим голосом, слегка привизгивающим на верхних нотах, читает только что начатый роман «Доктор Живаго»…
Поэтому Генрих Нейгауз и Борис Пастернак – тоже герои этих тетрадей. Их рукой в них немало вписано. «Душенька, я сегодня нездоров. Давайте посидим и помолчим» (Нейгауз). «Давайте говорить. Сегодня такой день, что хочется говорить. Обо всем. Откровенно. Достаточно я намолчался. Напишите, что вы меня любите и никогда не предадите, не станете избегать, обходить стороной. А впрочем, предавайте. Что на меня любоваться! В отличие от Гарри, я же не роза!» (Пастернак).
4Итак, Нейгауз и Пастернак – герои разговорных тетрадей, хотя в приведенных только что записях один говорит, а другой молчит. Но добавлю, что есть и героиня – жена Нейгауза, великолепная и деспотичная (несмотря на итальянскую грацию) Зинаида Николаевна, которую Пастернак у него увел, сохранив с ним самую возвышенную, благородную и пылкую дружбу.
Благодаря этому грация не обернулась – по Достоевскому – грязцой. Хотя что скрывать: Достоевский тут угадывался, навязчиво маячил. Да и то – какая же русская семейная драма без Достоевского! Без него никак нельзя. Нельзя-с!
Вот и Борис Леонидович мучительно, жутко, до кошмарных галлюцинаций ревновал Зинаиду Николаевну к ее прошлому – не с Гарри (у того помимо первой была и вторая семья, первая же воспринималась как нечто необременительное, не налагающее особых обязательств, нечто… помимо).
Нет, Пастернак страдал из-за того прошлого, которое у Зинаиды Николаевны было до Нейгауза, было с другими, водившими ее, юную и уже порочную, по номерам гостиниц, как адвокат Комаровский – в него влюбленную и ненавидящую его Лару, героиню «Доктора Живаго».
Тут снова Достоевский. Комаровский – это, конечно же, сластолюбивый совратитель Тоцкий, с которым жила юная Настасья Филипповна, героиня романа «Идиот».
Пастернак. Послушай, Гарри. Я должен объясниться с тобой, хотя, признаться, для меня это мучительно трудно. Так вышло. Ты сам виноват, что выбрал такую жену. В нее нельзя не влюбиться. Не влюбиться в нее про-ти-во-ес-тест-вен-но.
Нейгауз (с недоумением, показывающим, что он выше любых запретов). Влюбляйся, пожалуйста. Кто ж против! Не ты первый. Все влюбляются. А ты еще и стихи напишешь.
Пастернак (чувствуя повод взорваться, но сдерживая себя). Либо ты меня не понял… вернее, не захотел понять, либо ты непростительно, преступно великодушен. Скорее первое.
Нейгауз (с веселенькой обидчивостью). Неужели я такой дурак, что уже ничего не понимаю. И не замечаю!
Пастернак. Если замечаешь, тем лучше. В таком случае не обессудь. Это не влюбленность, какой тебе хотелось бы… Это, прости меня, гораздо большее.
Нейгауз. А что у нас больше влюбленности?
Пастернак. Тебе лучше знать.
Нейгауз (надолго задумавшись). Любите ее, Борис Леонидович? Поздравляю.
Пастернак. Так случилось, Гарри. Это как помешательство. Что я могу поделать.
Нейгауз. Преданный друг, называется…
Пастернак. Не казни.
Нейгауз. Казнить не буду, но и миловать не могу. Забирай ее, и катитесь к черту. Но смотри. Стать моим врагом я тебе не позволю.
Да-с, такие были люди – не нам чета (да и Борис Леонидович, человек уступчивых и неуклонных компромиссов, отличался особым умением все делать с честным лицом). И тетради Сильвестра доносят до нас отголоски этой драмы или, если угодно, этой комедии (в дантовом смысле, разумеется).
Впрочем, у Нейгауза тогда была уже вторая семья… Хотя я об этом уже говорил. Говорил, но и повторить не мешает.
5Судя по тетрадям, Сильвестр был вхож и к Александру Габричевскому, блистательному умнице, женолюбу, выпивохе и весельчаку. Совсем молодым, двадцатилетним гостил у него в Коктебеле. Застал там Волошина (даже запечатлен Максимилианом Александровичем на одной из прозрачных, нежных акварелей). Секретничал с его матерью, прозванной Пра, обожавшей сына, носившей длинный балахон и допрашивавшей Сильвестра, кто в кого влюблен, кто от кого ушел, кто кому изменил. Выпивал с ней. Пра любила хороший коньяк, но, чтобы не перебрать, наливала его в наперсток и отпивала мелкими глоточками, поджимая губы так, словно слюнявила нитку перед тем, как вдеть ее в иголку.
Также Сильвестр был вхож и на верхушку (верхние комнаты дома) к Алексею Лосеву, у которого до его ареста собирались имяславцы, считавшие, что Имя Божие есть Бог, и к Марии Юдиной, но не столько в дом, сколько… в Храм, где она, никогда не отрекавшаяся от веры, молилась и пела на клиросе.
Вот уж истинная героиня, хотя и совершенно другого романа. Нейгаузы и Пастернаки были ей не чужды. С Пастернаком она встречалась и переписывалась, иногда позволяла себе критиковать Бориса Леонидовича, но при этом восторженно и упоенно читала на своих концертах его стихи. Нейгауза ценила как музыканта, хотя как личность воспринимала снисходительно и с немалой долей иронии, считала легкомысленным болтуном и занимала у Гарри деньги (тот по доброте своей никогда не отказывал, напротив, сам охотно предлагал). Все-таки истинного дружества, такого, как с Михаилом Бахтиным, у Марии Вениаминовны с Пастернаком и Нейгаузом как-то не возникало.
Мария Вениаминовна была резка и обидчива – даже на Стравинского умудрялась обижаться, хотя и превозносила его, носилась с ним как с гением, не знала, как ублажить (и в конце концов сама же сотворила из него деспота и мучителя). К тому же Стравинский по убеждениям был русским националистом, равнодушным к религии, особенно в ее обрядовой форме, Юдину же властно притягивал церковный мир. Покрыв платочком голову, она смиренно выстаивала долгие службы, чувствовала себя своей среди простых прихожанок, готовых там мыть полы и выполнять любую черную работу.
Нейгауз и Пастернак – не прихожане. В точности не известно, был ли крещен Борис Леонидович. Генрих Густавович любил при случае красиво порассуждать о Библии, блеснуть образованностью, но не более того. Поэтому Нейгауза и Пастернака Юдина немного отпугивала, и вовсе не своими чудачествами, эксцентричностью и сомнамбулизмом, как принято считать (да и сама называла себя сомнамбулой). Нет, за ней – за ее обличениями – им словно бы чудилась тень Савонаролы, грозящего адскими муками всем, кто не припал со смирением к церковным ступеням.
Впрочем, у них был свой Савонарола, пострашнее флорентийца, и тот однажды звонил Борису Леонидовичу, о чем потом с суеверным ужасом перешептывалась вся Москва. И Сильвестр записал этот разговор в своей тетради, и его версии вполне можно доверять, поскольку он всегда старался быть точным и ручаться за каждое слово…
6Возможно, для второй тетради эти подробности могут показаться излишними. Привожу их, дабы показать, что я тоже не лыком шит (ха-ха!) и мне есть чем заинтриговать публику, падкую на такие приманки. Сейчас ведь перед публикой надо заискивать, заигрывать с ней, расшаркиваться, делать реверансы. Почтительно (угодливо) кланяться и обметать шляпой пыль у ее ног.
Вот и мне поневоле приходится…
Но я, признаться (так же как и Сильвестр), не особый охотник до подобных игр. Недаром в тетради записано, как Генрих Великий однажды иронически-высокомерно и безапелляционно заговорил с Сильвестром о славе.
Нейгауз. А почем, душенька, нынче слава? Ты не справлялся?
Сильвестр. Говорят, подешевела. Отдают за копейки.
Нейгауз. Вот-вот, и я слышал. Как бы это поточнее разузнать?
Сильвестр. А вам зачем? Вы и так знамениты…
Нейгауз. Я бы, может, и приобрел. Лишняя слава не помешает. Все-таки учеников воспитываю… Книгу написал… Все еще выступаю иногда, бренчу на рояле… Потрудись, голубчик. Потолкайся на рынке. Разузнай. Тебе это, пожалуй, тоже полезно.
Сильвестр. На рынке?
Нейгауз. Что ты удивляешься! Слава – это рынок.
Сильвестр. А в каком ряду?
Нейгауз. Пожалуй, в цветочном, где розами торгуют. Хотя корзины роз – это еще не слава. Потолкайся лучше в овощном…
Сильвестр. А в овощном-то что?
Нейгауз. В овощном-то? А там гнилые помидоры продают. Как запустят в тебя гнилым помидором, как по лицу у тебя потечет, вот и будет тебе истинная слава… (После этого Генрих Густавович долго – до слез – смеется, вытирая платком глаза.)
Вот и я не охотник, хотя в этих играх так легко заработать себе лишние очки. Заработать очки, сколотить капиталец, с выгодой пустить свои денежки в оборот, разбогатеть и даже прославиться.
Я ведь усиленно хлопотал о ней, о славе-то – если не своей собственной, то славе Сильвестра Салтыкова. Но увы: Сильвестр усвоил урок Нейгауза. Слава ему была не нужна. Он мыслил свою музыку даже не авторской, а церковной. И – что там слава! – готов был отказаться от собственного имени, лишь бы его пели в храмах.
Что ж, тогда позвольте мне, грешному и убогому, чуть-чуть прославиться. Прославиться хотя бы как владельцу этих тетрадей (а я все-таки владелец и не спешу передать их в архив или выставить на аукцион!).
Мне ведь завидовали, у меня выманивали, сулили немалые суммы. Наследники моих героев так вокруг и вились, клубились, семенили за мной мелким бесом: «Вы уж, пожалуйста… подарите или продайте. Мы вам очень хорошо заплатим. Называйте цену, а дадим вдесятеро». Пытались украсть, домушничали, отмычкой замки открывали – вот до чего доходило.
Но не получилось: надежно спрятаны тетрадочки. Ангел с пламенным мечом обращающимся рядом поставлен. Сверк! – и руку долой по локоть, а то и по самое плечо. Не забалуешь.
И еще два слова о тетрадях, раз уж мне позволено. Даже не столько о тетрадях, сколько о связанных с ними побочных обстоятельствах, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться вовсе и не побочными…
Впрочем, я заболтался (как в иных случаях Нейгауз). Поэтому добавлю всего два слова о тетрадях. Два слова – и замолкну.
Я менее всего склонен окутать историю их чудесного обретения туманом ложных вымыслов, интригующих недомолвок и намеков. Касаясь этого предмета, я старался быть предельно откровенным, как это мне и свойственно, и не уклоняться от той простоты, которая довольствуется двумя-тремя штрихами, чтобы передать самое главное. Поэтому я не играл словами, не жонглировал ими, как кеглями, кольцами и мячиками, и не позволял себе увлечься красноречием, хоть сколько-нибудь затемняющим смысл моих высказываний.
Не обессудьте: так уж воспитан.
Словесная патока, засахаренная пробка в горлышке стеклянной бадейки (ее приходится пробивать ложкой, чтобы добраться до варенья) были мне так же противны, как скипидарно воняющая вакса, которой смазывают сапоги, чтобы затем отзеркалить их щеткой.
Нет, никаких затемнений, никакого засахаренного варенья!
7Я всегда исповедовал тот же принцип, что и сам Сильвестр: стремиться к полной ясности или, как он любил говорить, к трезвению ума. Так же как и он, я ненавидел любые попытки взыскать истину умом нетрезвым или вовсе скрыть ее, превратив в замутненное от несвежего дыхания стекло: было чистым и прозрачным, но мы дохнули и напустили туманцу. Какие бы формы и очертания ни принимал этот туманец, какая бы ни блазнилась за ним райская услада и благодать, Сильвестр отзывался о нем с беспощадной иронией, язвительным сарказмом и даже несвойственной ему издевкой.
Вот почему он так не любил Стравинского, особенно позднего (после «Весны священной). Сильвестр называл фигляром, шутом гороховым, шарлатаном и считал высшим достижением его творчества завидное умение, ахнув бутылку водки, отплясывать на столе отчаянный канкан.
Отплясывать, тряся фалдами фрака и вскидывая ноги на манер кокоток кабаре.
Сильвестр не мог понять, почему мудрейшая Юдина носится со Стравинским, млеет и благоговеет перед ним, хотя почти все написанное им – труха (так Прокофьев отозвался о «Жар-птице»). Мария Вениаминовна возмущалась, негодовала, не позволяла в ее присутствии осквернять драгоценное имя.
Часто даже в гневе топала ногами (звенели чашки в буфете), затыкала ватой уши и указывала Сильвестру на дверь: «Слышать не желаю! Вон! Немедленно вон!»
Сильвестр не заставлял себя упрашивать и послушно ретировался. Правда, при этом не отказывал себе в удовольствии напоследок церемонно поклониться, а затем хлопнуть дверью так, что сотрясались стены Юдинской кельи и срывались с шаткого гвоздика любимые фотографии Марии Вениаминовны, подаренные Им Самим (Стравинским, разумеется).
Так они в очередной раз ссорились – ссорились навсегда, и должна была пройти неделя, чтобы они вновь помирились. Хотя стоило Сильвестру услышать, как Юдина осторожно и вкрадчиво наигрывает на рояле «Жар-птицу», и он снова не мог это вынести, затыкал уши и кричал: «Труха! Труха!»
От охватывавшего его негодования и возмущения у него в ту пору даже случались мучительные горловые спазмы и судороги – наследственный недуг, передавшийся ему по материнской линии. И я сам свидетель тому, что он часто терял голос (записи в разговорных тетрадях делались тогда по этой причине).
Какой печальный парадокс! Сильвестр Салтыков всегда просил у Всевышнего долголетия, опасаясь, что ему не хватит времени для воплощения всех замыслов (и прежде всего создания грандиозной Полифонической симфонии, которую никто не смог бы исполнить, поскольку Сильвестр намеревался записать ее древнерусскими крюками или знаменами). И Господь исполнил его долготою дней, но долголетие стало для него несчастьем. Не то чтобы под конец он устал от жизни, как Гарри Нейгауз, признававшийся, что собственное бытие становится для него тяжкой обузой, но доживать свой век ему пришлось в столь чуждое время, и чуждое прежде всего тем, как разлился повсюду ненавистный грязновато-серый туманец.
Тут уж дело не в Стравинском. Что Стравинский, если все вверх дном!..
Сейчас ведь у нас это так любят: за истину никто не поручится, возиться с ней не станет (неприбыльное это дело, да и есть ли она, истина?), а ты нам грязнотцы подавай! И такой, чтобы была с запашком и в нос шибала. И чтобы сам Федор Михайлович в гробу перевернулся.
И будь уверен, что не побрезгуем, нос воротить не станем, – напротив, в нее, грязнотцу-то, и уткнем, насладимся вволю, надышимся, ибо она для нас слаще меда.
Но нет!
Я, преданный ученик Сильвестра Салтыкова, от истины не отрекаюсь. Ведь я опекал его как нянька, отвозил домой после загулов и ресторанных кутежей и сдавал на руки матушке Елене Оскаровне, к тому времени уже согбенной и побелевшей старушке.
8Елена Оскаровна (с испугом и изумлением). Какой ужас! Где вы его подобрали?
Я (с показным безразличием). Возле ресторана «Прага». Он пытался остановить такси.
Елена Оскаровна. Его еще в детстве тянуло к вину. К тому же его отец… Впрочем, не буду.
Я. И правильно. «Раз ему нужно это испытать, через это пройти…»
Елена Оскаровна. Вечно вы его оправдываете! Выгораживаете!
Я. Да ведь это ваши слова!
Елена Оскаровна (недоверчиво). Мои? Неужели я такая мудрая мать?.. Уму непостижимо.
Я (торопясь дать нужные рекомендации). Уложите его. А завтра утром налейте ему рюмку, чтобы он не страдал и не мучился с похмелья. Но только рюмку – не больше.
Елена Оскаровна. Нет уж, это вы сами. Я ему никаких рюмок наливать не буду. Лучше я с горя напьюсь. Где он деньги-то берет?
Я. У друзей занимает. Однажды у самого Николая Яковлевича Мясковского – своего консерваторского профессора – одолжился. Тот не отказал, добрейший и деликатнейший человек. Зато Сильвестр дарил ему к дням рождения галстуки, ноты и грибные корзины, чтобы тот не рассовывал найденные грибы по карманам и не завертывал их в носовой платок.