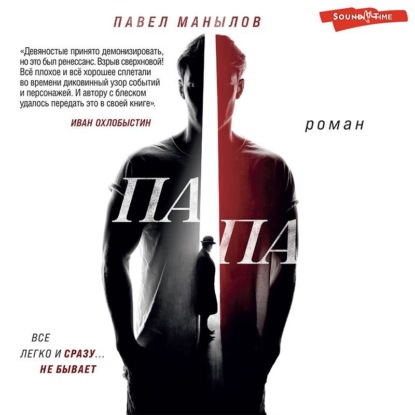Полная версия
Разговорные тетради Сильвестра С.
Я зажигаю лампу под темно-красным матерчатым абажуром, собранным складками и стиснутым понизу медным обручем. Достаю и раскладываю на столе мое бесценное сокровище – тетради Сильвестра Салтыкова. Среди них есть несколько подарочных, купленных бабушкой Софьей еще при царе Николае. Купленных у немца или француза – с твердой обложкой добротного картона, покрытой набивной тканью и украшенной медными уголками, с золотистым обрезом плотных страниц и рельефно оттиснутой розой в овальном медальоне.
Могу себе вообразить, как бабушка Софья придирчиво их выбирала, осматривала, постукивала ногтем по обложке, пускала веером страницы. Сомневалась, раздражалась, досадовала, самолюбиво выговаривала приказчику: «Нет, голубчик, не подходят. Извольте показать другие». Тот выносил откуда-то из мрака еще кипу, раскладывал перед нею, с пренебрежительной угодливостью ждал, когда же, наконец, она выберет, оплатит и уйдет.
«Вот эти я возьму. – Даже не посмотрев, не удостоив внимания тетради, принесенные им, она вдруг словно впервые замечала те, что вот уже полчаса лежали перед нею на прилавке. – Возьму, возьму, решено». Пока она не передумала, их проворно заворачивали, и бабушка Софья уносила покупку с собой, чтобы дома развернуть, снова осмотреть, постучать ногтем по обложке: «Да, эти. Именно эти. Те были гораздо хуже. Даже сравнивать нельзя».
5На моем столе, чуть поодаль от предметов письменного обихода, – фотография Сильвестра в обнимку со Святославом Рихтером. Рихтер во фраке и цилиндре, обсыпанном новогодним конфетти, в маскарадном цилиндре, с тросточкой, взятой посередине – так, словно он только что вращал ею перед фотографом. Сильвестр в бутафорском плаще и ботфортах, явно заимствованных – по дружбе – из театральной гардеробной, и со шпагой.
Оба молодые (хотя Сильвестр на шесть лет старше), оба изрядно поднабрались – выпили шампанского, оба беззаботно смеются, позерствуют, фиглярствуют, дурачатся.
У обоих все заботы еще впереди…
Рихтер (пошатываясь, пришаркивая и чему-то умиляясь). А позвольте полюбопытствовать, мой друг. Вы когда-нибудь слышали, как ревет осел?
Сильвестр (убежденно). Нет, никогда не слышал.
Рихтер (с интригующей улыбкой, скрывающей тонкий намек). Значит, вам повезло. Осел ревет ужасно. Так, как играют некоторые пианисты.
Сильвестр. Ах, вот вы о чем! И кто же, так сказать, первый по реву?
Рихтер (капризно). Я вам не скажу. Мы оба с вами напились.
Сильвестр (грозя ему пальцем). Нет, уж скажите. Я от вас не отстану. Оборин?
Рихтер. Оборин – лев, хотя бы потому, что его зовут Лев. Ха-ха-ха! Как я люблю, напившись, болтать всякий вздор!
Сильвестр. Тогда кто же? Игумнов?
Рихтер. Ну что вы! Игумнов играет бла-о-род-но, хотя, признаться, все хуже и хуже. В трудных местах замедляет темп – позор. В пассажах не все ноты выигрывает.
Сильвестр. Может быть, Нейгауз?
Рихтер. Давайте чокнемся. Угадали. Когда Гарри берет педаль на два такта, у него в Бетховене слышен ослиный рев. Да и мажет безбожно. Но об этом тс-с-с. Молчок. Не выдавайте меня. Все-таки неудобно, знаете ли. Мой учитель. Я у него под роялем спал, когда своего угла не было. Да и вообще добрейший и милейший человек, само обаяние. Роза!
Сильвестр. Хорошо, не выдам.
Рихтер (доверительным шепотом). И если что… ну, вы понимаете – меня арестуют, уведут, посадят и вас станут обо мне допрашивать, – тоже не выдавайте. Умоляю.
Сильвестр. Не выдам, не выдам. Но и вы – тоже.
Рихтер. Клянусь. (На следующее утро, конечно же, следовали извинения и опровержения.)
Итак, тетради (как их хранитель, как рассказчик не могу с ними расстаться). Я выдуваю из корешков крупинки засохшего клея, бережно собирая их в ладонь. И открываю первую из тетрадей (она лежит сверху).
Открываю и вчитываюсь в полустертые строчки с оборванными, не дописанными до конца словами, досадливыми зачеркиваниями, нетерпеливыми многоточиями, бумагой, прорванной карандашом, из которого выпал грифель, и буквами, заново обведенными там, где предыдущая попытка оставила лишь сухой, нечитаемый след.
6И вот мне слышатся голоса…
Женский голос (из глубины комнаты). Ради бога, закройте форточку. Я только что вымыла голову.
Мужской голос (себе под нос). Надо, наконец, вызвать настройщика. Так невозможно. Я не могу дать скрипачу ля.
Старческий голос (с бессильным возмущением и обидой). Почему, желал бы я знать, не убирают мусор на лестнице? Что за свинство! Ладно, мои гости ко всему привыкли, но ко мне приходят ученики.
Тоненький голосок ребенка. Могу я видеть Сильвестра?
Женский голос (изнемогая от восторга). Я просто без ума от Бузони! Ах, как он играл в пятницу! Он превзошел даже самого Гофмана!
Старческий голос (с философской задумчивостью). Этот таз когда-нибудь упадет кому-то на голову. С самыми плачевными последствиями для пострадавшего и без малейших последствий для вечности. Впрочем, потерянный Бетховеном грош навсегда останется в веках…
Мужской голос (переходя на шепот). Я прошу тебя мне верить. Это не просто слова. Я дорожу нашим прошлым и благодарен тебе за все.
Женский голос. Как мило – посадить за первый пульт эту деревянную куклу!
Старческий голос (возмущенно). Сущий ад! Они устроили сущий ад! От консерватории ничего не осталось.
Мужской голос (примирительно и почти равнодушно). Tempora mutantur, времена меняются.
Старческий голос (пофыркивая). Ну, знаете, это не утешение.
Детский голос (протяжно и просительно). А Сильвестр дома? Он мне нужен для шахмат. Мы договорились сыграть три партии.
7Словно сквозь немую толщу воды до меня доносятся чьи-то восторженные восклицания, блаженные вздохи, горькие сетования, сбивчивые признания, возгласы удивления, горячие исповеди и суровые отповеди – все то, чем некогда жило большое семейство Салтыковых. Семейство, обитавшее в огромной старомосковской квартире с изразцовыми печами, чуланами, темными коридорами, похожим на языческого идола шкафом, из-за которого непременно вываливался карниз для занавесок, преграждая всем дорогу (вечно приходилось переступать), пыльными зеркалами и выложенными поверху цветными стеклышками эркерами. (Правда, с годами их уплотнили и к ним подселили, печи заложили, а цветные стеклышки выбили и заменили обычными.)
Семейство музыкальное, поэтому в квартире непременно что-то звучало: не только рояль (уж это само собой), но и виолончель, арфа, гобой и даже клавесин, словно бы шелестевший молоточками сквозь тонкое серебро. К тому же Салтыковы давали уроки пения, и из дальних комнат долетали оперные арии, дуэты и каватины, от которых иногда подрагивали хрустальные подвески люстры и позванивали бокалы на полках буфета. Причем звон и характер дрожания загадочным образом менялись в зависимости от того, что именно исполнялось – «Каватина Алеко» или ария Леоноры из оперы «Сила судьбы».
А когда однажды в доме пел Шаляпин, люстра стала заметно раскачиваться, а один из бокалов упал, и от него откололся кусочек, бережно хранимый и всем показываемый как бесценная реликвия.
Впрочем, все это может быть семейным преданием, каких у Салтыковых множество, как множество у них и всяких осколков, поскольку посуду били постоянно. Поэтому осколок – не доказательство, тем более что на вопрос, было ли на самом деле то, о чем они столь увлеченно рассказывают, у Салтыковых (по свидетельству разговорных тетрадей) принято отвечать:
Кто-нибудь из домашних (великодушно оставляя повод с собой не согласиться). Поручиться не могу, но похоже, что было.
Голоса любопытствующих. Когда? В каком году?
Кто-нибудь из Салтыковых (с апломбом, который Сильвестру в детстве всегда казался пломбиром). Ну, вот еще… Право, не помню… Да и в конце концов, точные даты и неоспоримые факты чем-то унизительны.
Тетрадь шестая. Дядя Коля и дядя Боб
1Ручался один Сильвестр.
Сильвестр всегда мне доказывал, что Шаляпин действительно у них пел и что он это отлично помнит. Он даже подробно описывал, какой булавкой был заколот его небрежно повязанный ярко-желтый шелковый галстук. Причем Федор Иванович пел не только оперное, но и церковное, что стало для Сильвестра откровением, и он потом всех уверял, что своим пением Шаляпин освятил их квартиру и в нее вселилась благодать.
По словам Сильвестра, благодать была похожа на маленькую, сухонькую старушку со светившимся добротой и лаской лицом, любившую сидеть между шкафами на стульчике – том же самом, что и нянюшка Броня.
А может быть, нянюшка Броня и была их благодатью…
Во всяком случае, из-за шкафов выглядывали ее острые ребячьи колени, обтянутые подолом ситцевого платья, слышалось сопение и похрапывание. Нянюшка Броня отдыхала, готовая тотчас встряхнуться, вскинуться, проснуться, если позовут, и виновато прикрыть сухонькой, морщинистой, словно скорлупа грецкого ореха, ладошкой рот, оттого что оскоромилась и невольно заснула.
Так или иначе, для маленького Сильвестра их освященная квартира была целым миром, не нуждавшимся в добавлении улицы и двора, не говоря уже о бульварах, Никитском и Тверском, казавшихся и вовсе чужими и далекими, принадлежавшими незнакомым ему детям, которых следовало опасаться как своих возможных насмешников (высмеивателей), соперников и врагов.
Улицу и двор он разглядывал из окон, бывал же там неохотно, когда его одевали и выводили, он же при этом не столько старался нагуляться, сколько спешил домой, притворяясь, что замерз, отморозил большой палец левой руки, никогда не попадавший в варежку, или промочил ноги. Хотя на самом деле ему просто хотелось вернуться в пределы утраченного собственного мира.
И лишь впоследствии, когда Сильвестр повзрослел, этот мир сузился, утратил былую огромность и, собственно, перестал быть миром, а превратился в обычные комнаты, прихожую, коридоры, заполненные людьми и вещами, которые приобрели не свойственную им ранее выпуклость и рельефность…
2Следует учесть, что там, в большой квартире, и своих-то было достаточно – даже с избытком, но туда вечно наведывались другие родственники. Наведывались по самым разным поводам: с поздравлениями, подарками, букетами кремово-желтых роз, иной раз – если повод печальный, – то и соболезнованиями.
Только всегда путались, в каком случае полагалось четное число роз, гвоздик, гладиолусов, а в каком – нечетное. И приносили наугад – авось не ошибутся. И почти всегда ошибались: «Какой позор – не знать такие вещи!» Сконфузившись, краснели. Потупившись, смотрели в пол, себе под ноги. И норовили незаметно лишний цветок из букета выдернуть и… если не сжевать и не проглотить, то хотя бы спрятать за спину.
Но хозяевами это всегда замечалось. Сопровождалось снисходительными улыбками и, конечно же (избави бог!), никогда не осуждалось.
А могли из-за вечной суматохи и беготни ослышаться, чего-то не понять, перепутать и в результате принести соболезнования по поводу именин и поздравить с серебряной свадьбой, которая на самом деле оказывалась юбилеем чьей-то безвременной кончины. Поздравить, а затем долго извиняться, оправдываться, ссылаться на то, что кто-то пустил ложный слух, не то себе вообразил, не так сказал:
– Ради бога, простите! Мы не знали. Нас ввели в заблуждение. Примите наши поздравления за самые искренние и глубокие соболезнования.
– Хорошо, хорошо. Спасибо за цветы. Проходите к столу.
(И всегда именины произносили как имянины и вместо четверга и хурмы подчеркнуто выговаривали: четверьгь и хурьма).
Да и просто так забегали – присесть на уголок стула, подержать в руках чашку чая, погладить по голове Сильвестра (он этого терпеть не мог). Показать какой-нибудь незамысловатый фокус, выученный по книге. Навести на стену тень от скрещенных пальцев, напоминающую то ли дикобраза, то ли осьминога. Рассказать, что дают в Большом, и хотя это ни для кого не новость, все с заинтересованными лицами слушают, выражают почтительное внимание, говорят, что нельзя пропустить, что надо пойти, что это будет событие.
Для Сильвестра таким событием стало «Сказание о граде Китеже»: в Большом театре он был десять раз, сидел на галерке, затаив дыхание и дрожа как от озноба, и все не мог наслушаться, насмотреться…
3И прежде всего, конечно, завсегдатаями у Салтыковых были дядя Коля и дядя Боб, жившие неподалеку, на Собачьей площадке, и проводившие у них больше времени, чем в собственном доме. Они даже в шутку называли себя приживалами, за что им доставалось, поскольку на такие шутки Салтыковы сердились, не считали их смешными, а уж скорее глупыми и дурацкими, но на глупости все же не обижались, принимали их снисходительно и иногда сами невольно повторяли: «Что-то наших приживалов давно не видно».
И приживалы тут как тут – звонят в дверь (по звонку их всегда угадывали). Звонят, сияют, притопывают, расшаркиваются, влекомые неведомой силой (дядя Коля) или выталкиваемые под зад пружиной (дядя Боб).
Пружиной, не позволявшей лишнюю минуту промедлить, задержаться в собственном доме. Иной раз ботинок толком не зашнуруют, а уж бегут, спешат, утюжа ногой мостовую, чтобы вовсе не потерять незашнурованный ботинок.
Да и какой у них собственный дом, если оба они – отпетые бобыли.
Впрочем, в этом их единственное сходство, а в остальном они такие разные, прежде всего по части музыки, но затем и всего прочего, не исключая, разумеется, женщин.
Дядя Коля любил все церковное (если Рахманинова, то – «Всенощную», если Чайковского, то – его «Литургию»). Любил долгие службы, каноны, акафисты, богослужебные книги на застежках, праздничные облачения священников, дикирии, трикирии, паникадила. Досконально знал православную Москву (последние островки) – кто где служит, как поют, читают и возглашают.
В семье привыкли к тому, что дядя Коля никогда не скажет: «Идти на службу», а всегда: «Идти на пение». Вот и Сильвестр, отвечая на вопрос, где дядя Коля, писал в разговорной тетради: «Ушел на пение. В Иоанна Богослова на Бронной. Вернется поздно».
Дядя Коля часто вспоминал о том, как виделся с самим Великим Архидиаконом Константином Васильевичем Розовым, служившим при патриархе Тихоне: вот уж были возглашения!
«Что твой Шаляпин – аж стекла дрожали!» – рассказывал он Сильвестру, и тот со страхом смотрел на стекла в оконных рамах, опасаясь, что и они могут не выдержать возглашений Великого Архидиакона.
4А дяде Бобу – что ему Великий Архидиакон! – подавай Вагнера, Вальгаллу, полет валькирий (на худой конец Серова или Римского-Корсакова, у которых хоть и по-русски, но тоже было).
Столь же страстно обожал дядя Боб и Италию, где, по его собственным словам, провел сладчайшие годы юности, как некогда столь чтимый им Генрих Нейгауз, вырвавшийся во Флоренцию из своего провинциального, пыльного и скучного Екатеринослава.
Вот и дядя Боб получил от отца в подарок двести рублей и – вырвался. Доехал до Вены, а оттуда прямехонько (всего ночь в поезде) до Венеции. «Конечно, была и любовь, и упоение творчеством, и вообще умопомешательство ото всего, что мне открылось», – записал он позднее в тетради у Сильвестра.
Обожал дядя Боб не только старых клавесинистов, но и почтенного папашу Джузеппе (так дядя Боб называл Верди), не смущаясь тем, что итальянщину в музыке терпеть не мог его же собственный кумир Рихард Вагнер.
Когда новорожденному племяннику выбирали имя, дядя Боб настаивал, чтобы его нарекли Паоло. Это была навязчивая идея дяди Боба – тем самым он отдавал дань и Италии, и Чайковскому с его «Паоло и Франческой». Об этом племяннику не раз рассказывали – и мать, и отец, и тетушки, и бабушка Софья. Все хотели донести до него забавную мысль, что он мог бы быть другим – не Сильвестром, а Павлом или даже (как настаивал дядя Боб) Паоло.
Но Сильвестр в этом ничего смешного не находил.
Напротив, эта мысль его всерьез притягивала и завораживала, поскольку в своем развитии (подсказанном воображением или неким смутным воспоминанием из прошлой жизни), допускала возможность того, что он мог бы быть и девочкой – не другим, а другой. Взрослые об этом даже не подозревали и не догадывались, занятые своими спорами, но Сильвестру было легко представить себя девочкой, особенно такой, какая бы ему самому нравилась, какой бы он любовался, с замиранием сердца брал за руку или прикасался губами к волосам.
Ему предоставлялся этот выбор так же, как взрослым – выбор его имени, но он воспользовался бы им иначе, чем они. Допустим, они назвали бы его Сашей, но ведь Саша способен быть и мальчиком, и девочкой, поэтому все остальное зависело бы от его желания: захотелось ему быть Сашей-мальчиком – и он мальчик, захотелось девочкой – и он девочка.
Так было в детстве: Сильвестр еще ребенком испытал соблазн женственности – великий соблазн эпохи, которому поддались многие, и женственный Белый, и женственный Блок, и женственные, вернее, по-бабьи мягкотелые поэты-функционеры советского времени. Но Сильвестр, поддавшись, преодолел свою женственность. Ребячьи фантазии были забыты, и над ним воссиял знак мужественности – путеводный знак его творческих исканий и жизненных перипетий.
5Разговор взрослых о том, как его назвать (в их собственном вольном пересказе), Сильвестр позднее записал – увековечил, словно для него было важно, чтобы он сохранился. Имени он придавал большое значение (наверное, вслед за Лосевым). Но затем по неведомым мне причинам заклеил эту запись полупрозрачной папиросной бумагой. Не вырвал страницу, не скомкал, не выбросил в мусорную корзину, а все-таки сохранил, хотя и утаил.
Я эту бумагу аккуратно снял скальпелем и прочел:
Дядя Боб. Паоло и только Паоло. Я настаиваю. Если мое мнение для вас что-либо значит, извольте меня послушать.
Елена Оскаровна. О, боже! Его не переубедишь.
Дядя Боб. «Паоло и Франческа» – для вас хороший пример, я надеюсь. Среди русских есть и свои Паоло. Не буду сейчас называть.
Бабушка Софья (наставительно выговаривая). Паоло и Франческа мучаются в аду. Ты этого хочешь для племянника? Хорош же ты гусь!
Дядя Боб (с томным, благостным вздохом). Я бы тоже согласился на ад ради такой юной прелести.
Бабушка Софья. Ах, он согласился бы! Смотри-ка!
После этого следовал монолог дяди Боба, которому Салтыковы внимали с молчаливой укоризной и невысказанной мольбой, чтобы он наконец замолчал.
Дядя Боб. Да, собственно, и соглашаться не надо, поскольку у нас в России всегда ад. Поэтому пусть хотя бы в имени будет немного Италии, немного южного солнца, голубого, безоблачного неба, терпкого молодого вина. Я же не призываю назвать его Рихардом или Зигфридом, хотя в этом тоже что-то есть. Но это тяжелые имена. Тяжелые, вросшие в землю, как дубовые кряжи. Немцы, увы, мало слушаются своих мимолетных прихотей и вздорных капризов, не умеют радоваться жизни, опьяняться ею. Поэтому повторяю: Паоло и только Паоло. К тому же если он когда-нибудь вознамерится покинуть свою несчастную родину и поменять ее на Италию, как многие Салтыковы, по крайней мере будет забот поменьше: имя не придется менять.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.