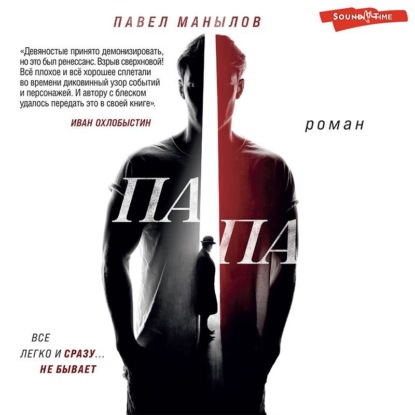Полная версия
Разговорные тетради Сильвестра С.
Дама (пренебрежительно). Наверное, взгрустнул, затосковал по России. Ностальгия. Со всяким может быть.
Профессор. Ну, вы Прокофьева таким не рисуйте. Прокофьев – не всякий. Тоске он не подвержен. У него есть щит – учение одной дамочки, учредившей «Христианскую науку». Многим помогает… Поэтому ностальгия, если она и есть, выражается у него как-то иначе. Это вам не Рахманинов. Обратите внимание на такой парадокс: Рахманинов, действительно всегда тосковавший по родине, тем не менее не вернулся, а Прокофьев, особой тоски не испытывавший, взял и вернулся.
Дама. Как вы можете судить, кто и что испытывал. Может, вы сами вернулись из эмиграции?
Профессор. Упаси боже. Что вы ко мне пристали! И все-таки почему?
Дама. Стали меньше исполнять. Упал интерес. Публика заскучала на его концертах. А у нас первоклассные оркестры, дирижеры, великолепные оперные театры…
Любознательный. Вы согласны?
Профессор. Отчасти, может быть, и согласен. Но это не главная причина.
Дама. Ну и в чем же главная? Что вы все вокруг да около!
Профессор (уклончиво). Вопрос деликатный…
Дама. Говорите. Здесь все свои.
Профессор. Культ Стравинского, хотя он и не мелодист. Невыносимый для него культ Стравинского. Культ, создававшийся окружением Игоря Федоровича, и прежде всего Петром Петровичем Сувчинским с его болезненной потребностью кому-то поклоняться.
Дама (понижая голос). Его бы к нам, этого Петра Петровича. Мы бы нашли для него предмет поклонения.
Любознательный. Что ж, Стравинский все-таки большой композитор. На Западе он царь и бог…
Профессор (уклончиво уточняя). Композитор не без достоинств.
Любознательный. Чем же он вам не угодил?
Профессор. А хотя бы тем, что интеллект в конце концов заменил у него музыку. На Западе они же все высоколобые интеллектуалы. Вот и Прокофьеву создали такую репутацию, что он, мол, возможно, и талантлив, но как-то, знаете, простоват. Не хватает ему интеллекта. Мол, даже великому Дягилеву не удалось его поднатаскать. Хотя евразийца они из Прокофьева воспитали, кое-какие идеи ему внушили. Но по сути это была борьба за существование, и Прокофьев сдался. Язвительный, саркастичный, всему знающий цену и не скрывающий собственного мнения – в том числе и о позднем Стравинском, – рядиться под интеллектуала он не стал. И вся эта музыкальная рать во главе с Сувчинским изгнала его. Ему стало невыносимо, и он вернулся.
Дама (думая совсем о другом). А вы с ним знакомы?
Профессор (слегка опешив). С Прокофьевым? Да, немного.
Дама. Тогда скажите ему, что прислуга, какая бы она ни была честная, все равно ворует. А ему ведь для его квартиры придется нанимать прислугу. Поэтому пусть посматривает. Иной раз пусть не погнушается и серебро пересчитать.
Профессор. Скажу непременно. Вернее, намекну.
Любознательный. Я вот хотел про культ Стравинского…
Дама (перебивая его). А о культе Стравинского пусть лучше помалкивает. Не надо. Это как-то неуместно, право. У нас тут свой культ.
5Сильвестр услышал приведенный выше разговор о Прокофьеве, побывав однажды в Поленове, на даче Большого театра (выражение самого композитора), где одно время обитало его семейство и сам он сочинял «Ромео и Джульетту». Там все дышит памятью о Прокофьеве, там веет его дух, и, естественно, постоянно возникают подобные разговоры.
Иное дело следующий разговор, тоже весьма любопытный, состоявшийся уже после войны, во времена гонений на космополитов. У меня нет решительно никаких сведений о том, как он попал в тетрадь. Сколько я ни допытывался у Салтыковых, они ничего сказать не могли: для них самих это было загадкой. Ясно одно: Сильвестр при упомянутом разговоре не присутствовал. Если бы это было не так, он бы, конечно, в нем участвовал – хотя бы отдельными словечками, репликами, выражением согласия или несогласия. Но его среди участников нет. При этом разговор записан его рукой: уж почерк Сильвестра я знаю. Как разрешить этот парадокс?
Некоторые фанатичные приверженцы Сильвестра, глухие и равнодушные к его музыке, но зато готовые видеть в нем чуть ли не святого, православного гуру, считают, что он мог присутствовать среди собравшихся не телом, а духом. Иными словами, приписывают ему способность к чему-то вроде телепортации. Я лишь улыбнусь в ответ на это. Никаких способностей Сильвестра я не отрицаю, избави бог, но мне претит дух фанатизма, распространившийся последнее время.
Впрочем, это естественно: в нашем обществе все либо безбожники, неверы, либо фанаты. К тому же это не тот случай, чтобы проявлять подобные способности, а тем более выставлять их напоказ. Мне кажется, что все гораздо проще: кто-то из участников (а их было трое – Генрих Нейгауз, Александр Габричевский и Валентин Асмус) пересказал разговор Сильвестру, и он – скорее всего, по памяти – записал его.
И, скорее всего, пересказал Генрих Великий – Нейгауз, которого Сильвестр в шутку называл кОмикадзе – не из-за его готовности покончить с жизнью известным способом, а из-за вечного стремления комиковать по любому поводу, каламбурить и все вышучивать. Поэтому я полагаю, что именно Гарри в своем пересказе усилил (педалировал) нотки гротескной анекдотичности, свойственной разговору. Ведь что-то есть жутковатое в том, что трое друзей сочиняют для Габричевского покаянное письмо, где тот признает себя космополитом и отрекается от былых ошибок и заблуждений. При этом они, конечно, и хохмят, изощряются в остротах. Смак! Тем более что некоторые слова Генрих Великий слегка коверкал, выговаривал по-своему…
Нейгауз (отчасти высокомерно, даже с некоторым апломбом). Мне кажется, сначала ты должен прямо написать, какой ты весь ужасный, отвратительный, безродный и беспаспортный. Иными словами, какая ты грязная космополитическая свинья.
Габричевский (укоризненно). Гарри…
Нейгауз. Да, мой милый. Не дословно, конечно, но тон должен быть именно такой. Не щади себя. Лей на себя помои. Иначе какое же покаяние!
Габричевский (глухо). Может, как-то дипломатичнее?
Нейгауз. Кому нужна твоя дипломатия. Тебя с ней мигом упекут. Я сидел в одиночке, знаю, что это такое. Ремень от брюк отберут, чтобы ты не сделал из него петлю, не просунул в нее свою квадратную голову и не повесился. Вот и будешь брюки рукой придерживать, чтобы не сползли и не оголили твой зад. Ты этого хочешь?
Габричевский. Не приведи господь. Я вообще тюрьмы не выдержу.
Нейгауз (без тени снисхождения). Тогда ты должен сам себя раздавить. Понимаешь, раздавить, чтобы они видели, как у тебя кишки наружу полезли. Поэтому пиши, что ты, как старая вонючка, как последняя свовочь…
Габричевский. Гарри…
Нейгауз. Ну вот, свинья тебе не нравится, свовочь тебе не нравится. Да что ж это такое! Как с тобой можно работать! Давать тебе благоразумные советы! Я отказываюсь! Я космополитам не товарищ.
Габричевский. Хорошо, хорошо, не кипятись. Я напишу, что питал порочное пристрастие к европейской культуре. Это тебя устроит?
Нейгауз (кисло). Ну, пожалуй. В какой-то мере.
Асмус. Но учти, что ты проявляешь политическую близорукость, в чем тебя сразу уличат. В той же Европе уже пробиваются ростки новой пролетарской культуры. Возьми, к примеру, Бертольда Брехта. Кроме того, там создаются компартии. Поэтому ты должен написать: к европейской буржуазной культуре. Буржуазной! А то еще подумают, что ты считаешь порочным пристрастие к пролетарской.
Нейгауз (одобрительно). Резонно. Совершенно верно.
Габричевский (исправляя написанное на листке). Добавил, что к буржуазной. Что дальше?
Асмус (явно крючкотворствуя). Хорошо бы еще приписать: к загнивающей. Ведь она загнивает. Бах, Моцарт, Шекспир, Микеланджело – те уже, собственно, давно сгнили. Но гнильца подбирается и к нынешним – всяким там Прустам…
Габричевский (откладывая самописку и упираясь в стол вытянутыми руками). Пруст у нас издан с предисловием Луначарского…
Нейгауз. Да, ты прав, неудобно… Ну, замени на кого-нибудь. Ты ж у нас эрудит…
Асмус (тыкая указующим перстом в листок). И вот еще что добавь. Это очень важно. Низкопоклонствуя перед Западом, ты отвергал все русское, злостно занижал его значение, то есть занимался идеологическими диверсиями.
Габричевский (обиженно). Ничего я не отвергал. Я просто не специалист…
Нейгауз. Нет, Фердинандович прав. Напиши, что отвергал…
Габричевский. Гарри, но ведь ты еще больший космополит, чем я. К тому же наполовину поляк, наполовину немец. А вот, между прочим, сколько раз ты упоминал и цитировал?
Нейгауз (слегка встревожившись). Как я должен цитировать? Говорить ученикам, что товарищ Сталин учит нас играть легато так-то, а стаккато так-то?
Габричевский и Асмус (заговорщицки переглянувшись). Ну, в общем-то да…
Нейгауз. Но это абсурд…
Габричевский. Нет, Гарри, давай так. Есть космополитическое, низкопоклонское, извращенное легато, а есть наше, отечественное, здоровое. Боюсь, что твое легато… ты уж прости… немного того… с душком.
Нейгауз. Брось, брось. Мне твои шуточки… До меня еще руки не дошли. Нам тебя спасать надо.
Габричевский (тяжело вздохнув). Спасайте.
Асмус. Вот и пиши дальше, что ты осознал свои ошибки, исправился и примкнул к рядам.
Габричевский. К каким рядам?
Асмус. У нас беспартийные шагают в одном ряду с коммунистами. Стало быть, к рядам коммунистов и беспартийных.
Габричевский. Зачем мне примыкать, если я и так беспартийный?
Нейгауз. Как ты не понимаешь, квадратная голова. Нам не нужны беспартийные одиночки. От них-то все беды. Вот и ты примыкай, примыкай, а уж мы тебя поддержим.
Габричевский. Благодарю вас, товарищи.
Асмус. Лучше бы ты не благодарил, а угостил товарищей хорошим коньяком. Припас, я надеюсь?
Габричевский (доставая бутылку). Припас. Да только на вас не напасешься.
Нейгауз (с боевым оптимизмом). Так наливай!
6Конечно, я мог бы сыграть на том, какой неподдельный (это слово еще преподнесет нам сюрпризец) интерес вызывают тетради у публики – узкого круга тех, кто любит отдыхать на даче Большого театра (Поленово) и умеет вращаться. Вращаться в околомузыкальных сферах и обладает способностью чутко улавливать всевозможные слухи, шумы и веяния. Да, чуть-чуть где-то шумнуло, повеяло, пронесся слушок, и они тотчас распознают, угадывают, а затем словно по телеграфу… тук… тук-тук… тук…
И вот уже вся Москва знает, наслышана, перешептывается. Скажем, об иконах в спальне Николая Голованова, главного дирижера Большого театра, любимца Сталина. О хранимой им в столе церковной музыке. Или о романах Владимира Набокова, привезенных Прокофьевым из эмиграции (давал почитать знакомым – разумеется, при условии полной секретности и соблюдения всех правил конспирации).
Вот они-то, ловцы шумов и слухов, некоторым образом и выведали, что есть тетради, оставленные Сильвестром Салтыковым, и в этих тетрадях – залежи, бесценные россыпи: «Вы не поверите! Вы себе не представляете!» Всем понятно, что тут, конечно же, не обошлось без преувеличений, но все равно интересно. Свербит. И интересно главным образом потому, что тетради, по словам самых осведомленных и искушенных, проливают некий свет на создание великой Системы Сильвестра Салтыкова – Системы гармонизации знаменного распева. А кроме того, содержат разговоры с тем, кого называют его Неведомым собеседником.
Не могу утверждать, что мне доподлинно известно, кто скрывается под именем Неведомого собеседника. Я много размышлял на эту тему, мучительно пытаясь добраться до истины, но не буду скрывать, что итоги моих размышлений – это всего лишь домыслы, версии и более или менее обоснованные догадки. Да иначе и быть не может, если собеседник Неведомый, если сам Сильвестр не захотел, чтобы он, так сказать, сбросил маску и открыл свое истинное лицо. В то же время Сильвестр не уничтожил эту тетрадь, желая, чтобы само содержание разговора стало известно потомкам, а прочие обстоятельства считая привходящими и не столь существенными.
Но то Сильвестр, мы же привходящие обстоятельства ставим подчас выше самой сути. Какой бы она ни была, эта суть, подавай нам с нею вместе и обстоятельства: никак нам без них не обойтись. А если их нет, то и суть свою забирайте назад. Не нужна она нам, постылая. Она для нас как рама без холста, как старый, рассохшийся рояль с выпотрошенными внутренностями или книга с оторванной обложкой.
Некоторые из тех, кто держал в руках эту тетрадь, полагают, что Сильвестр беседовал с чертом. От этих догадок легче всего отмахнуться, хотя вполне допускаю, что рогатый мог явиться Сильвестру в облике респектабельного господина, покручивающего цепочку карманных часов и протирающего платком запотевшее пенсне. При этом в карман у него должен быть вставлен платочек, но не так, как умел Нейгауз. Платок должен быть не первой свежести: подобные случаи нам известны. Черт, безусловно, обладает обширными познаниями, но познания эти общего характера, и я сомневаюсь, чтобы он был способен вести специальный разговор, какой ведет со своим собеседником Сильвестр.
Другие почему-то называют Маркелла Безбородого: вот, мол, явился Сильвестру и затеял с ним философский диспут, что вызывает у меня недоумение. Ну при чем здесь хормейстер Маркелл Безбородый! Он и не философ вовсе, и разговор совершенно не в его духе. Ведь речь-то идет не о пении по крюкам, а о додекафонных сериях.
Третьи, напирая на философскую сторону, называют Валентина Фердинандовича Асмуса, участника предыдущего разговора, близкого друга Нейгауза, которого Сильвестр немного знал. Даже сиживал на его лекциях в университете (впрочем, недолго). Но Асмус не был столь язвителен и циничен, как собеседник Сильвестра. Поэтому сдается мне, что это все же не Валентин Фердинандович, а Арнольд Шёнберг, последний систематизатор музыкальной Европы, вернее, его дух явился Сильвестру для специального разговора.
Тот же, кто в явления духов не верит, пусть считает, что Сильвестр ведет мысленный диалог с воображаемым собеседником. С Неведомым и воображаемым – вот все сразу и упростилось, и я могу обратиться к тетради без всякого опасения, что меня обвинят… впрочем, пусть сами обвинители отыскивают повод, чтобы привлечь меня к беспристрастному и беспощадному разбирательству.
7Неведомый собеседник (с насмешливым превосходством). Вступили со мной в соревнование, молодой человек? Системы изобретать вздумали? Напрасно. Хотя, как мне известно, вас когда-то хотели назвать по-итальянски, вы – неисправимый славянин, а славянский ум неспособен создать подлинную систему. Будете барахтаться, бултыхаться, как не умеющий плавать, и чего доброго – буль-буль-буль – пойдете ко дну. Система-то вас и погубит. Бросьте это дело.
Сильвестр (стараясь не поддаваться неприязни). Позвольте уж мне самому решать.
Неведомый собеседник (сразу меняя тон). Ну, разумеется, вы свободны. Решайте. Я лишь в порядке дружеского совета.
Сильвестр. Простите, не нуждаюсь.
Неведомый собеседник. Ну и славненько. Считайте, что никаких советов я вам не давал. Вы так на меня смотрите, словно хотите сказать: «В таком случае не смею задерживать». Но я с вашего позволения немного задержусь. Уж очень хочется с вами побеседовать. А то когда еще выпадет случай… Итак, вы намерены писать русскую музыку.
Сильвестр. А какую же я должен писать? Африканскую?
Неведомый собеседник. Разумеется, нет. Да и с африканской у вас ничего не получится. Темперамент не тот, да и вообще… Поэтому остановимся все же на русской, хотя русскость – это нечто весьма сомнительное. К примеру, ваш Скрябин. Слушая его, и не скажешь, что «Прометея» или «Божественную поэму» писал, извините, коренной русак. У Прокофьева русскость – это лишь один период: «Сказки старой бабушки», Четвертая соната, кантата «Александр Невский», а об остальном и не скажешь, русское это или не русское. Да и вообще зачем? Русская музыка несовершенна. В ней всегда было что-то дилетантское. Писали, а до конца не дописывали: пороху, наверное, не хватало. Вот и приходилось другим за них отдуваться. Мусоргский велик, но, согласитесь, неисправимый дилетант. Все его корявости Римский-Корсаков потом исправлял, сглаживал, прилизывал, а после него страдалец и трудяга Шостакович. К тому же запоями страдал Модест Петрович, насколько я помню. И возьмите фамилию – она же от мусора. Для приличия вставили «г», ха-ха. Но «г» для вашего языка есть нечто еще более неприличное. Впрочем, я уже начал скабрезничать. Вы меня останавливайте. Даю вам полное право.
Сильвестр. Спасибо. Брукнер предпослал своей 9-й симфонии своеобразное посвящение: возлюбленному Богу. Говорят, что эти слова в рукопись партитуры вписал кто-то другой, но сами-то слова не могут принадлежать никому, кроме Брукнера, поскольку он действительно возлюбил Бога. В этом смысле он русский.
Неведомый собеседник (платком вытирая умильные слезы). Брукнер русский? Ха-ха-ха! Вы меня рассмешили. Благодарю. У меня со смехом как-то, знаете, туговато, а вам удалось. Спасибо, спасибо. Впрочем, должен все же заметить, что ваш русский Брукнер – старая рухлядь, такая же, как подобранная по дворам выброшенная мебель, которую вы реставрируете. Бросьте все это. Если хотите идти вперед, бросьте, бросьте. Ваша система – перепев всего отжившего, сгнившего внутри, как гниют бревенчатые стены под крашеной фанерой.
Сильвестр. Вы вслед за Ницше хотите повторить, что Бог умер или стал обычным богом?
Неведомый собеседник (досадуя и недоумевая). Ну при чем тут Бог! Вы, как все эти новые католики, как тот же Мессиан… Простите, но я его иногда, по ошибке разумеется, величаю Мопассаном. Мессиан – Мопассан. Теперь ваша очередь смеяться.
Сильвестр. Благодарю, но как-то не хочется.
Неведомый собеседник. Понимаю. Вы не из смешливых. А напрасно… Смех в нашем деле помогает. Даже простодушный до глуповатости. Однако что мы все о постороннем. Давайте о вашей Системе. Все-таки в чем, по-вашему, ее суть?
Сильвестр (вздыхая от необходимости повторять одно и то же). Моя Система – это способ служения Богу.
Неведомый собеседник. Ой, напугали! Ой, боюсь! А если я, допустим, в Бога не верю? Что мне тогда ваша Система? Фук? Вы уж как-нибудь иначе постарайтесь растолковать. Я смышленый – как-нибудь пойму. Значит, вы обходитесь без пяти линеек, без мажора и минора, и у вас не тональности, а лады. Или скажем иначе: ваша Система – найденный вами способ гармонизации знаменного распева. Ну и что здесь нового? Да чуть ли не каждый русский композитор пытался. И Чайковский, и Рахманинов, и этот старый педант Римский-Корсаков…
Сильвестр (устало и безнадежно). Именно пытался. Я же исхожу из точного знания, из метода…
Неведомый, собеседник. Нет, батенька, метод вы уж оставьте мне, грешному. Туточки уж я специалист. У вас, русских, какой уж там метод!
Сильвестр. Позвольте возразить, однако.
Неведомый собеседник. Возражайте сколько вам угодно. Здесь вы ничего не измените. Я ушел от тональности и открыл новый музыкальный континент. Новую Америку. А вы что открыли? Старую, дряхлую Индию?
Сильвестр. Я открыл… я открыл истину. Истину музыкального языка, с помощью которого можно разговаривать с Богом.
Неведомый собеседник. Истина, Бог… нет, вы неисправимы. Но выводить музыку на такие универсальные категории в наше время банально и пошло. Музыка тяготеет к некоей прикладной сфере. Время абсолютных высказываний в духе Вагнера, того же Брукнера, Малера прошло. Собственно, они теперь и не нужны. Пожалуйста, забирайте их себе.
Сильвестр. Что ж, благодарю… А вам кого взамен?
Неведомый собеседник. Шнитке, пожалуй, подошел бы, ваши авангардисты…
Сильвестр. Вам оптом или в розницу?
Неведомый собеседник. Ну вот, разобиделись… Кажется, я вас утомил, старый болтун.
Сильвестр. Нет, нисколько…
Неведомый собеседник. Куда же вы заторопились? А в шахматы? А пулечку расписать?
Сильвестр. Как-нибудь без меня.
Неведомый собеседник. Брезгаете. Жаль, жаль. Что ж, прощайте… Надеюсь, еще встретимся. На спектакле «Леди Макбет», в ложе со Сталиным, ха-ха.
Тетрадь вторая. Нейгаузы и Пастернаки
1А вот и сам Маркелл Безбородый, беседует с Сильвестром о древнерусских знаменах или крюках. Все-таки явился Маркелл, но не как призрак, поскольку не подобает православному, да еще и уставщику, распевщику, блюстителю исконно русских певческих традиций, поддаваться бесовской лести и оборачиваться срамным видением – призраком. Хотя будем справедливы: не только бесы являлись, но и святые, и тут тонкое умение – опытность – требуется, чтобы распознать, от Бога или от лукавого явившийся дух.
Я подобной опытности лишен, распознавать духов дара не имею, поэтому меня лукавому обвести вокруг пальца не трудно. Вот и не буду рисковать, не буду вводить в искушение ни себя, ни благонравного читателя и удовлетворюсь тем, что разговор Сильвестра с Маркеллом Безбородым воображаемый.
Поэтому Маркелл подчас произносит то, что могло обрести словесную форму лишь в двадцатом веке. Он – выразитель дум и чаяний самого Сильвестра, а Сильвестр – носитель и провозвестник идей Маркелла.
Однако ловко я повернул (вывернул): у Сильвестра – думы и чаяния, а у Маркелла же – идеи, как будто он не игумен Хутынского монастыря, а профессор университета в Кёнигсберге. Казалось бы, должно быть наоборот. Ан нет, наоборот-то и не выходит, поскольку у Сильвестра века не разведены по вертикали, как ветки по стволу дерева, а друг в друга вложены.
Поэтому думы Сильвестра аккурат совпадают с идеями Маркелла. Вернее, думы Маркелла с идеями Сильвестра… думы с идеями… идеи с думами… вот я и сам сбился, запутался, заморочился. Лучше открою тетрадь и прочту: так-то яснее будет.
Сильвестр. А скажи, Маркелл, как ты это разумеешь: в чем разница между петь и выпевать?
Маркелл Безбородый. А в том, родимый, что поют звуки, а выпевают Слово.
Сильвестр. Значит, в знаменном распеве Слово-то и есть главное?
Маркелл. Наиглавнейшее. Ничего главнее нет. Поэтому и выпевают Его строго в унисон.
Сильвестр. А раз так, то распев – это и не музыка, не музыкальное сочинение, имеющее начало, середину, то есть кульминацию, и конец.
Маркелл (убежденно подтверждая). Ни в коем разе не сочинение.
Сильвестр. Что же тогда?
Маркелл. Литургия. И знаменный распев, и чтение Евангелия, и иконы, и каждение – все есть Литургия. Единое целое. Неделимое на части.
Сильвестр. А как же чувства поющего, его голос, вокальное мастерство?
Маркелл (с укоризной). Эка чего выдумал! Ты же не на концерте, а в Храме на Литургии. Чувства-то и придержи и голос свой не показывай. Не выставляйся, а выпевай вместе со всеми, соборно. Будто сам сего не знаешь. Не новичок же…
Сильвестр. Не новичок, но иногда хочется уточнить, себя проверить…
Маркелл (поощряя, как учитель любознательного ученика). Благое дело. Уточняй.
Сильвестр. Поскольку распевается Слово, и к тому же в унисон, то, стало быть, пение – та же молитва?