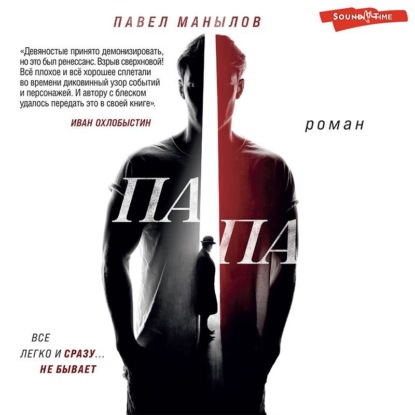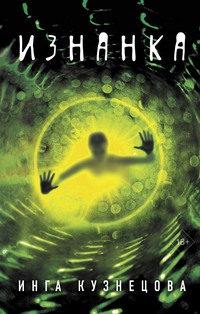Полная версия
Промежуток

Инга Кузнецова
Промежуток
Жить – это так ярко и страшно, точно ни одной книги еще не написано.
Никем.Точно никто не знает, как жить.
Точно все впереди.
(частный разговор)Издательство благодарит фотографа Ольгу Паволгу за предоставленное фото (оборот форзаца).
Бидермейер
1. Павел
– Да брось ты эту мерзкую газету! Неужели тебе нельзя спокойно позавтракать? Без новостей? В семейном кругу? Неужели ты не имеешь на это права? М-м-милый! – прозвучало со сдерживаемой ненавистью – или мне так показалось. – Твой покой неприкосновенен! Твой бутерброд не может упасть маслом вниз, он же – ха-ха-ха – с икрой!
Перелистываю страницу. Ревнует к делам и пытается это скрыть. И ведь знает, что я не терплю этого манерного тона, этих раскормленных претензий на юмор. Даже когда мы одни, она не может отказаться от того, чтобы лишний раз не подчеркнуть мой статус и наше благополучие. К чему ирония, если ты упиваешься ими, черт возьми? Точно никак не можешь привыкнуть. Точно мы – из грязи в князи. А мы не из грязи! Мы из приличных семей, которые давно и прочно заняли свои плюшевые ложи в социальном театре.
Что касается моей депутатской карьеры, мне даже не пришлось особенно рвать жилы, чтобы подняться наверх. Никаких колосников, никакой акробатики. Планомерный подъем по лестнице. Вот дома могло быть и поинтересней. Немного кича не повредило бы этому бидермейеру.
А то и мебель в стиле бидермейер. И биде в стиле бидермейер. И Жанна в стиле бидермейер. Несмотря на все санкции. Мне скучно, бес.
По своей тщеславной глупости она не может понять, что гордиться нам нечем, и лучше молчать обо всем, потому что тягость и труд – это не подняться, а удержаться, и об этом не болтают. Над этим работают. Тихо, ежечасно, ежеминутно. Она не представляет, на что приходится ради этого идти, чем рисковать. Подняться – это как раз ерунда.
И как же не понять, что на самом деле все временно? В этом мире и на этой земле?
Я пытаюсь сосредоточиться на повестке дня, тщательно пережевывая кусок свежего багета. Самое распространенное заболевание парламентария – язва желудка. Благо общества заставляет понервничать. Только язвы мне и не хватало. Второй. Первая, не слишком болезненная, но порядком поднадоевшая – это Жанна.
– Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу…
Не выпуская «Ведомостей» из левой, правой я нащупываю пульт и включаю Первый канал. Я подсекаю псевдоаналитика Пупкина на полуслове, на пике его публицистического взлета. Пупкин, старина. В университете он был спортсменом. Занимался всем, чем только можно, и особо преуспел в невольной борьбе. Анализировать ни внутреннюю политику, ни международное право его никто не научил – ему было некогда. В таких случаях оценки проставляют заранее. А вот теперь он выносит политические оценки. Держится глубокомысленно. Не заносись, брат, заврешься! Но нет. Пупкин рассказывает об успехах военноаграрного комплекса. Наш ответ Чемберлену. Наша гордость, наше ноу-хау. Сообщает о первых ростках боеголовок, всходящих на полях. Так сказать, мечом и оралом. Цитации и аллюзии. Кто ему пишет текстовки? Дать, что ли, задание Гнедичу переманить этих ловкачей в наш сектор? А то наши что-то всё дубово, прямо в лоб, фейсом об тейбл.
Ми-и-илый?
Какая интонация! Надо было тебе делать театральную карьеру, а не выходить за государственного мужа. Пупкин звучит убедительней. Только галстук у него дурацкий. Оранжевый с синим – это что за Валентино, контрастирующий с физиономией? Ну и рожа у тебя, Шарапов.
– Мне иногда кажется, что ты прячешься не только от меня, но вообще от всех за газетой, за экраном или за бутылкой, – в тоне пластик и оргстекло. – И твоя озабоченность судьбами народа, прости, – это такая отмазка от жизни с нами.
Ей удается заглушить телеящик. Я бросаю «Ведомости».
– Ты хочешь ссоры?
– Нет.
Светло-пустые, испуганные оленьи глаза. Дыша духами и туманами. Бледно-розовый пеньюар оттеняет китайский фарфор груди. Гейша, китайский болванчик. Она и сейчас еще хороша, хотя, конечно, не сравнить с той дурочкой, которой она была когда-то.
Не отличала «блэк тай» от «уайт».
– Где Михаил? Почему не за столом? Вы у меня дождетесь… – начал было раскручивать гнев, но не вышло (лень), голос увял. – Буду поздно, и не звони мне.
Нет, развод не выход. Безупречный имидж – это работает и стоит очень дорого.
Ни к чему портить. Легкий треск под ногой: скорлупа. Сбил с подставки. Фаберже в посудной лавке, черт побери.
В гардеробной – сонный Васька с четверговым костюмом. Зазевался, с ноги на ногу переминается, дурак. Все-таки Петр – более тренированный, ему и сбрасываю на руки шлафрок. Одевают вдвоем, так быстрей. Ваську для профилактики щелкаю по лбу.
Афанасий выносит ботинки, натертые беличьим лоском. «Тигр» подан, и Семен устанавливает бочонок сигнализации. Заседание через час, опоздание смерти подобно. Не успеешь оглянуться, как место, принадлежащее тебе по праву, занял кто-то другой – нет, не лучше, чем ты (ты же номер один среди идеологов нового поколения). Просто оперативней.
2. Жанна
Я и так знаю, что там пишут в этих новостях-ведомостях. Иногда мне кажется, что я вышла замуж не за человека, а за вектор развития и дальнейшее сотрудничество. И мне приходится существовать в формате. Ну что ж, почитаем. Ничего такого, из-за чего можно быть резким с женой.
Претензия и фальшь – вот на чем они специализируются. Грубо обесценивают частную жизнь. Похоже, она – единственное, что еще не испортили. Создать общество охраны частной жизни, что ли? Частная собственность охраняется, а частная жизнь? Ладно. В нашей семье общественный темперамент полагается не мне.
А Миша сказал: «Ты живешь за колбасу, мама». Глупо, жестоко. Ну какую колбасу?
Это же вредно, в ней столько добавок – даже в самой качественной. С моим мальчиком что-то происходит, он уже совсем отрывается от нас. Он от меня ускользает. В этом – ну хоть в чем-то! – они с отцом похожи. Тот ушел с потрохами в свои комитетские бла-бла-бла-дела. Но вот куда уходит Миша?
Выпить, что ли? Не хочу больше думать. Пусть все идет, как идет. Дела – это важно.
Ну ок. Авторитет – это важно. Ну ок. Ну что там у них, какие новости? Вот, газетка. Пишут: урожай сыроежек в этом году превысил норму. Ну и что это означает, в конце концов? Может быть, вообще ничего? Какая абракадабра! Где это я припрятала? Ага, заначка под пуфом.
Но каким из них? Тут – нет. Тут – нет. Тут!
Буль-буль-буль. Конечно, не стоило с утра. Но почитаем дальше. Ага, правительство выделяет дополнительные средства на укрепление границ. Плачьте, денежки налогоплательщиков. И что они там еще укрепляют? Там же уже все заминировано.
Об этом, конечно, не пишут в газетах, но в кулуарах-то говорят. А пишут вот, что дочь стекольного магната Фекла Блумберг блистала на олигархическом балу в нюдовом платье, расшитом кристаллами Свердловски. Вот! Первый выезд на бал! Та самая девочка!
А не рано ли? Из прошлой Мишиной гимназии, параллельный класс. Вместе ходили в кружок этих… как их там… софитов… то есть софистов. А потом началось… филиппика – так, кажется, они называли то, что он написал. Филиппика действующему президенту. Отца вызывали. Ох, я сочувствую всем участникам этого банкета. Дома у нас был полный привет. Цирк и фейерверк. Кузнецовский фарфор летал, подобно НЛО. Грохот, осколки… 14 лет! Он только паспорт тогда получил.
Все говорили: что вы, учебный текст. Написан по законам жанра. Но у отца всегда была хорошая реакция. Прикрыл эту чертову лавочку, учитель риторики ушел по собственному желанию с волчьим билетом, а Миша тогда под домашним арестом неделю сидел. Потом поменяли школу. Поменяли всех репетиторов и приоритетный вуз. Какие уж тут международные отношения? Нахулиганил малыш.
Миша, Миша. Кажется, все репетиторы сговорились покрывать его. Деньги берут, о неявке ребенка умалчивают. Или мне это кажется? У меня навязчивые идеи? Куда он уезжает? К кому? С кем он и чем там занимается? У нас с отцом нет никаких рычагов воздействия. Никаких. Я надеялась на Феклу.
Я думала, она ему нравится. Пыталась приручить. Но когда она приезжала с отцом, Миша просто ушел к себе и заперся, невежливо так.
Иногда мне кажется, что он уже давно повесил на дверь своей комнаты табличку со словами: «Просьба не беспокоить». Табличку для всех нас. А сам в окошко – и был таков.
Где мой нежный ребенок, который тыкался мне в колени, смешил и заглядывал в глаза, чтобы удостовериться, что мне нравятся его шалости? Мне давно не смешно. Налью-ка я еще.
Если бы не новый закон, я бы так не дергалась. Но хотелось бы мне знать, о чем думает наш мальчик, когда его папа сотоварищи голосуют за закон о запрете молодежных субкультур. Многие только сейчас и узнали, что такое слово – «субкультура» – существует!
А к какой суб… суккубкультуре относится мой сын? А? Кто бы мне сказал?
Раньше все просто было: перекрасил волосы в зеленый цвет, проколол ухо в нескольких местах – и ты уже панк. А сейчас у них все скрытно, какие-то тайные жесты, знаки.
Мадлен меня спрашивает вчера: «Может, твой Мишка – донор для деклассированных? Бледный такой – встретила его на проспекте… А это карается, между прочим, дорогая».
Да, у нас любая забота о гражданах сейчас – жесткая монополия государства. Но нелегалы пытаются сдавать кровь, чтобы помочь бедным. Поговаривают, что это подстава, кровь не доходит до тех, о ком эти доноры беспокоятся.
Что все продают фармацевтическим компаниям. Не думаю, что Миша даром сливает кровь для кого-то, кто делает на этом деньги. Но лучше уж такое, чем литература.
Вот это самое страшное. Надо переболеть идеализмом, я еще могу это понять. Только не худлит! Сейчас, говорят, умудряются писать так, что читателю невозможно отличить добропорядочную прозу от опасной поэзии.
В некоторых школах, я читала об этом, начали вводить плановые прививки от возможных литературных опытов. Медицинские. Пишут: когда ребенок еще нетверд в жанрах и стилях, не может отличить прозу от поэзии, необходимо врачебное вмешательство. Вот до чего дошло! Но я боюсь, что может выясниться, что проза тоже губительна для детской психики. По крайней мере, я не удивлюсь, если признают, что это так.
Говорят, вся старая проза испорчена, задета поэтическим вирусом. Боже, как защититься, как распознать? Ведь мы не филологи.
Не филологи и не писатели, слава богу. Как нам быть? Говорят, что ученые разрабатывают алгоритм, позволяющий устанавливать поэтические следы. Да, да, школам срочно нужна дезинфекция. И если такими вещами занялось Министерство образования, значит, вся литература – сомнительное дело. Конечно, химия, прививки – это чересчур. Я как мать не дала бы согласия на такое. Но я считаю, что нужно усилить разъяснительную работу. Журналистика, злоба дня, идеология – вот достойная альтернатива. Гадость, конечно. Как всякое лекарство. Но худлит – это же загубленная жизнь! Если ваш ребенок задет литературой, то кто-то может подсадить его и на самое страшное – жуткую поэтическую дрянь, чей вред для человеческого организма доказан. Я читала о последствиях и до сих пор не могу прийти в себя: асоциальность, бесплодие, ранняя глухота, потеря пространственной ориентации, идиотия…
Нет, нет!
Как ужасно это звучит: «стихотворение». Бр-р-р.
Лучше уж алкоголь, девочки-глупости, казино, долги – вот не думала, что когда-нибудь скажу себе такое! – в конце концов, мы с отцом всегда найдем возможность помочь, как бы он ни относился к этой помощи. Мы сможем вытащить его. Ведь мы его родители. Что угодно, но только не это.
Я боюсь за сына. Общество должно защитить от поэзии наших детей.
Жертвоприношение
1. Миша
Самое простое – это ежедневно собирать рюкзак так, точно ты уходишь навсегда.
Из школы, из дома. Маму немного жалко, но она больше ничего для меня не может сделать, да и не должна. Родила – и на том спасибо. Это трудно и действительно заслуживает благодарности, хотя я и не просил ее об этом. Чувствую ли я что-нибудь еще? Э, лучше не сейчас. Вот отца не жалко. Я знаю, не очень-то он меня хотел. Да и мама, может быть, сомневалась.
Но оставила. Зачем? Почему мы на самом деле ничего не выбираем? Может, я вообще не хотел быть человеком? Может, хотел быть камнем? Нет, не каким-то редким.
Я бы не хотел, чтобы меня использовали. (Ювелирное дело отвратительно.) Я готов быть брошенным камнем. Щебнем. Валяться в пыли. В траве.
Ненавижу нервные семейные завтраки.
У меня нет аппетита к вранью. Мой отец подлец – как еще мне приспособиться к этому факту, кроме молчанья? Я устал тренировать лицевые мышцы. Где-то это было: но лицо мое не мое. Но лицо мое не лицо.
Я не помню, с каких пор все это происходит. Что все свое я ношу в рюкзаке. Да и что тут вообще мое? Паспорт, записные книжки, томик Транстрёмера, найденный на пепелище районной библиотеки. Старая кожаная куртка Дарта. Подкладка под мышкой разошлась по шву, да и у воротника какой-то островок разреженных нитей. Люблю это. Слишком часто нам покупались новые вещи. Не успеешь оглянуться – все рубашки в шкафу другие, а носки у нас вообще принято выбрасывать в специальную корзину, чтобы Нюша снесла в церковный приют. Ночью. Все стерильно, чтобы никаких воспоминаний. Мама думает, что она религиозна. Знала бы моя бедная мама, как я мечтал ходить в обносках из секонд-хенда! Как я мечтал быть с так называемыми простыми людьми, как я хотел хранить память неизвестных, уехавших, умерших. Это сразу почувствовал Дарт. Заметил, как я смотрю на него и на куртку. Потрепанную, бывалую. Наверное, вид у меня был глуповатый. Как пишут в дурацких романах: разинув рот и во все глаза.
Куртка Дарта, чистый гранж. Братство, подарок. Я сначала не понял его, не мог принять просто так – он меня и видел впервые. Он смеялся: богатые тоже плачут.
Я хотел отдать ему скутер, айфон – да я все бы ему мог отдать. Дарт сказал: нет, это куплено на деньги твоего папеньки. «Прости, отца», – потом сказал. Он сказал: если уж ты не можешь понять, что «просто так» существует (учись, малыш), подари мне другое, нематериальное. Что ты там пишешь в своей псевдошкольной тетради? Прочти давай здесь, всем, для меня.
Он так сказал. У них была ерундовая туса – так, предместья. Они все тогда не поверили мне. Стояли с хмурыми лицами: желваки туда-сюда ходят, пальцы в карманах шевелятся, точно рукоятки финок удобнее перехватывают. Девушки раз – и в тень, а одна – нет, дерзко разглядывает, пренебрежительно. Красивая, сука, – подумал. Ну, я же не знал, что это она. Радушный прием оказали, ничего не скажешь – точно у меня на лбу написано «осведомитель». А Дарт – нет, не так.
Я не знаю, почему он все-таки не пустил меня ни к Переводчику, ни к Иностранцу, ни к Тихому, ни к этой Инге (вот тут, наверное, что-то «человеческое, слишком человеческое»). Ни к кому из учеников Метафизика. Почему Дарт вообще избегал говорить о нем. Всегда уходил от этого.
Может, считал, что мне рано? Ждал какой-то последней проверки? Прорыва, стихотворения? Надеюсь, что так. Не думаю, что ему нравилось манипулировать нами – неофитами, потерянными детьми, заблудившимися между обрывков уничтоженных текстов. Иногда мне казалось, что это какое-то его личное безумие: оберегать всех ото всех.
А в тот день, когда все собрались в подвале и я признался, что надпись была сделана мной, я использовал вечную краску, которой отцовские шоферы маскируют царапины его золоченой колымаги, Дарт сначала долго смеялся – «Они ведь не отмоют!», – а потом уже смазал мне по щеке. «Что за трэш!
Тяжесть и нежность! Ты вообще понимаешь? Этой буржуйской дрянью, которой они красят свои унитазы? Да как ты мог!» – он взбесился, волосы взвились, зрачки сверкали. «Мы не красим свои унитазы. Зачем? Они же из чистого золота», – это вышло глупо и грубо, каюсь. Что за классовость на тебя накатила, дружище Дарт, дубина Дарт? Все средства борьбы хороши, разве нет?
А я, между прочим, прежде чем вывести надпись, стер со стены огромный словохуй.
Удовольствие так себе. Тереть «X», чьи верхние засечки где-то на уровне двух метров, не так уж и мило. Только все стены в этом районе испещрены или государственными мотивирующими граффити (еще та дрянь), или подростковым матом. Свободных не так уж и много осталось. Я подумал: переулок выходит к Центральному телеграфу, и это короткий путь. Люди пройдут и прочтут. «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы». Одну строчку, только начало. Я хотел поставить эксперимент. Я не знал, догадаются ли уже, что стихи. Дарт, разве ты не знаешь, что – какая разница чем, но – реальность нужно менять буквально?
В новостных сюжетах кривоватую фразу на гладкой стене крутили весь день, во всех школах объявили Час правды (катастрофическая гнусность): экспертиза только и смогла установить, что преступление было совершено рукой школьника. Я пишу разными шрифтами, я готовился. Знаю, Петрович краску не экономит – он не заметил пропажи. А если бы и заметил, не стал бы светиться. Никому не хочется потерять работу. «Рукой школьника» – это я слишком быстро клал мазки. Когда обнаружили, закрасить не смогли – все-таки химическая промышленность страны работает на совесть.
Отец когда-то говорил, что в чем в чем, но в химпроме отечество лидирует. Буквы проступали и проступали. Журналистам пришлось обнаружить все – ЧП, и т. и.
Решили устроить прецедент.
Что тут началось! Район оцепили. Полицейские, минобр, священники рванули в нашу образцово-показательную – и все на джипах с мигалками. Вот здесь мне и пригодилась тренировка лицевых мышц.
Я держался нейтрально. Директриса, заставив нас вымыть руки со священным мылом («Безупречная чистота ваших рук и ваших мыслей!»), потащила всех в зал для конференций. Лично стояла у девчонского туалета. Нас же проверял физрук. Нормальное мыло, кстати, антибактериальное. Ваши пальцы пахнут ладаном. Зал они чем-то тоже окропили. Потом была болтовня ни о чем. Потом показали расследование на широком экране, дураки. Выступали все по очереди, на фоне «тяженежности» зависшей. Здание потом, конечно, снесли. Но это было потом. А в тот день каждый первоклассник прочел мою надпись.
Когда-нибудь каждый вспомнит об этом.
Я бегу легко, не задыхаясь. Ежедневные пробежки удерживают странные вспархивания в сердце. Сиди там, птенец, и молчи, если это ты. Перепрыгиваю через ступеньки, коротко стриженый кустарник поместья, через дорожки, ямы и рвы. Полупустынная трасса. А что? У меня вид тренирующегося спортсмена, дорогой спортивный костюм и кроссовки. Хорошо, что я не отлынивал от занятий легкой атлетикой. Я спортивен и не вызываю подозрений. В школе каникулы, отец уехал, мама не будет шпионить за мной. Не позвонит дежурной группе. Они там в беседке режутся в преферанс, и пусть. А мама как будто бы за меня, хотя она не поймет. Остатки моего уважения – я знаю, ей это важно.
Через пару часов я буду на площади. Там, где позавчера взорвали памятник Дикому в желтом худи. Как я хотел бы изобрести свою лесенку, лестницу в небеса – в тексте или в жизни. Но я не он. И не похож.
Я похож на лохматого сеттера, нервного, что-то ищущего. Поджарый – так сказала Инга в электричке. Мы ехали на кладбище. Долго ехали на окраину, чтобы увидеть несколько свежих могил, выкопанных в ряд.
Я ни о чем не спрашивал. Из их пинг-понга шепотом понял, что это захоронение группы, которую собирал у себя Княжев. Старик, ученик Бродского, традиционалист. Тихий говорил ему весной обо мне, но я тогда к ним не поехал – стихи Княжева мне не зашли. Не поверил в него. Отдал должное, но не поверил! Не поехал, хотя мне дали адрес и сообщили время! Жалею об этом. Если бы я поехал, во время зачистки я был бы с ними – наверное, поэтому Дарт и Тихий и взяли меня на кладбище, помянуть тех и прибрать могилы. Старик, сказали они, умер сразу – обширный инфаркт. Остальных взяли. Оказавших сопротивление расстреливали на месте.
Мы ехали с бумажными цветами, которые накрутили из оберточной бумаги, оставшейся от какого-то глупого праздника. Сырье подбросил Тихий – он иногда подрабатывает клоуном в детском клубе. Мы приехали рано и бродили там весь день. Я разглядывал фанерные стенды, заменившие стелы. Я искал и боялся увидеть одну фанерку… С именем девушки в очках (у Тихого была слепая фотография: княжевцы пьют за дощатым столом чай с баранками, эта девушка разливает).
Дарт сказал: это библиотекарша. Работала неподалеку, в клубе железнодорожников.
Сказал: выдавала проверенным людям книги французских сюрреалистов. Откуда они были у нее? Кто привез их? Как мне их найти? Читала наизусть аполлинеровскую «Зону». В оригинале. Вот какие люди были там! Я чувствовал себя последним подонком. «Зону»! Я только слышал об этом, только две цитаты в сборнике рассказов нашел, но и этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать удар чешуйчатым хвостом. Скользнувшим хвостом чуда. Такое невозможно забыть. Я искал этот текст целиком, но никто мне не мог его дать. А она превратилась в него. Некрасивая, нежная… Нежное лицо за толстенными линзами. Как бы я сейчас хотел заговорить с ней!
Тогда, на кладбище, я в первый раз пил водку из пластикового стаканчика. Я думал о той девушке (ее могилу мы не нашли), о Княжеве, обо всех. Может быть, она спаслась? (Тихий говорил: нет.) Я должен был быть с ними.
Если бы меня не убили, я бы знал, что с ней.
Я бы целовал ее пухлый рот, глотал ее слюну, которой она смачивала палец, чтобы листать утраченное. Я бы пил ее голос, пропитанный сюрреализмом. Я хотел сказать это Дарту, но не смог. Не мог говорить. Обратно они отправили меня на такси, матери я сказал, что встречался с Петровым, занимались алгеброй.
Дисгармонией я занимался. Почти не соврал.
Быть или забыть, сметь или иметь, мыслить или смылить это – вот в чем вопросы. Мою руки в туалете и покупаю мороженое на заправке. Эскимо на палочке, набросок счастья, символ детства – не моего. Так символ или знак? Кто мне сможет это объяснить? Символ в жизни отличается от символа в тексте? Нет? Они слипаются или нет?? Все вокруг меня так запуталось, что, кажется, это первый вопрос, который я, однажды встретив того, кого они называют Метафизиком, задам со всем жаром и отчаяньем юности. Меня укачивает от вращения Земли. Уважаемый Метафизик, я, кажется, понял, что юность – самое трудное, самое жестокое время.
2. Тень
Я его узнал. Окно моей комнаты выходит в переулок, я вижу торец противоположного здания. Ранним утром я почти всегда лежу без сна. А тогда дворники еще не расшаркались своими метлами. Стояла инфернальная тишина, все смягчал туман. Не знаю, что выбросило меня из постели к окну, но там, у дома напротив, внезапно… В тот миг я понял, что барахтался в зияющем отсутствии Эм все эти дни. И вдруг! Его рассыпанные по плечам волосы, его длинные мышцы, его запястья! Ошибиться было невозможно. Когда он исчез из секции, все, связанное со спортом, для меня закончилось – я не смог имитировать интерес к волевым усилиям и скоростям. Тренер, помню, усмехнулся тогда: а ты тоже скажешь «спасибо, что научили меня бегать, теперь я буду разбираться, от чего»? Я не Эм, меня он не уговаривал. Ушел – и ушел. Особых надежд я не подавал.
Так значит, важнее всего знать не то, к чему ты бежишь, а то, от чего. Я запомнил это. Он странный, этот Эми. Эм, Эму. Эм У, Миша Ушаков. Имя и фамилия. Где он учится, выследить было несложно. Я не скажу ему, что молча следую за ним. Он не выбрал бы меня, я знаю. Он не замечает таких, как я. Ему не нужно наше поклонение. Я понимаю, я тень.
Тени только следуют за людьми. Они не могут с ними заговорить. Вздернутый страхом-тоской, из-за занавески я молча следил за его движениями, его руками, отброшенными назад волосами – пряди закручивались, как спирали, каждая из которых походила на доисторический телефонный провод (такой мы видели в музее), как будто люди прошлого могли ему позвонить. Спортивный велосипед стоял, прислоненный к стене. Я оказался первым читателем надписи, странной, как все, что делал Эм. Сначала я не понял, что за это сестры, что за шифровка, кому она предназначена (не может быть, чтобы мне)? Но в пальцах возникла пугающая, все более разреженная легкость, и она расширялась и расширялась и стала в конце концов невместимой, и захотелось распахнуть окно, окликнуть Эм, втянуть его в комнату и прикоснуться горячей щекой к пахнущей краской ладони… Кому какое дело, что это значит? Сердце стало гулким, когда я увидел, как он оглядывается, а потом включился звук приближающегося автомобиля, и от ужаса зрение прервалось.