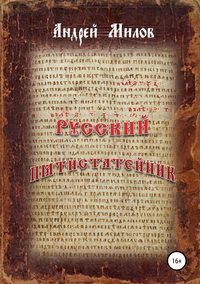полная версия
полная версияКогда ещё не столь ярко сверкала Венера
– Слово и дело Государево!
Не воспротивился купец Пётр Филатьев закону слова и дела, сице бо словобоязнен был. Али что иное на уме имел? На лихо своё повелел доставить татя в московскую полицию. Допросили – препроводили в село Преображенское, в Тайную канцелярию. Опять пытали. Кабы знал купец, какой крутой поворот се дело примет, так скормил бы Ваньку неблагодарного саморучно на полдник медведю! Поздно, впрочем, пенять на долю лихую, коли судьбу свою, как птицу из клетки, на волю ветру неразумному сам выпустил.
Донос на удивление всем подтвердился: правду сказывала сердобольная – останки солдата на дне колодца истлеть в прах не успели. И отпустили Ваньку на все четыре вольные стороны, даже пинком под зад не наградив. А что за воля, что за жизнь, ежели в карманах сквозняк гуляет?! Отыскал он в Немецкой слободе сподручника Камчатку – и завертела-закружила корешков жизнь лихая, как трясина болотная, засосала жизнь воровская. Сначала Москва, затем Макарьево да Нижний Новгород – по многим городам и весям грабил и воровал то в одиночку, то артельно; с шайкой атамана Михаила Зори разбойничал тож.
Казалось бы, уже давно по нём каторга плачет, ан нет: не забоявшись расправы праведной, Ванька Каин возьми вдруг и объявись в Москве, да прямёхонько направь стопу в Сыскной приказ, с челобитною повинной: «Сим о себе доношение приношу…» – в оной сообщая, дескать, впал он, негодный, в немалое прегрешение, мошенничал денно и нощно, но отныне, запамятовав воистину страх божий и смертный час, от оных непорядочных поступков своих решил отойти и желает заказать как себе, так и товарищам своим, кои с ним в тех прегрешениях общи были. «А кто именно товарищи и какого звания и чина люди, того я не знаю, а имена их объявляю при семь реестре». Стало быть, одним ударом двух зайцев убил: избавился от былых корешков по разбою, кто знал его как облупленного, и себя пред властью обелил.
Не секут на Руси повинную голову – не принято. А если умаслить к тому же… 23-й год шёл Ваньке Каину, когда обернулся он в доносителя Сыскного приказа.
Обходя с конвоем злачные места и воровские притоны, многих повыловил по Москве: убийц и разбойников, воров и мошенников, становщиков, перекупщиков краденого и беглых солдат, – однако служба сия прибыток малый сулила. Недолго думая, тогда повёл злодеев не в Сыскной приказ, а в дом к себе: приношением кто умилостивит, того выслобонит, коли не сумеет умаслить – изувечит самочинно, да засим уж в Сыскной приказ препроводит. Опять сошёлся со многими дружками-приятелями, навёл дружбу и с государственными людишками. Не будь простаком, сам себе на уме, – в Сенат челобитную состряпал: сице принуждён, дескать, с разбойниками знаться, дабы те от него потаённы не были. Лукавство удачей обернулось: «Ежели кто из пойманных злодеев будет на него, на Каина, что показывать, то, кроме важных дел, не принимать», – постановил Сенат, а вскоре и вовсе обязал полицию и военные команды чинить ему всякое вспоможение, а кто откажет в содействии, «таковые, как преступники, жестоко истязаны будут по указам без всякого упущения». То-то страху нагнал на всех, а боятся, стало быть, уважают, – вот и стал Ванька важный, как индюк, даже поглупел для порядку.
Усевшись на две скамьи в одночасье, прикармливался из двух кормушек, хлебал из обеих чаш: одной рукой вылавливал злодеев, другой – разбойничал сам. Жрал в три горла и откормился яко гусь неразумный, а жирных гусей, вестимо, режут в первую голову.
Однажды вломился Ванька Каин в дом богатого крестьянина Еремея.
– Злодей! – кричит он с порога, выпучив красные глаза, и прямо в рожу Еремею кулаком тычет, чтоб тот место своё знал.
– Помилуй, какой же я злодей?! – взмолился крестьянин, утирая рукавом кровь с лица.
– Раскольник. Значит, злодей! Я те грю, самый настоящий злодей и есть!!! – орёт Ванька Каин и кулаком мужику – в рыло! в рыло! в рыло! – И молчать, когда я грю!
Едва не дочиста обобрал он Еремея да к тому ещё, несмотря на мольбы слёзные, племянницу его умыкнул; для острастки пущей приставил к дому караул. Не по зубам, однако ж, Ваньке косточка крестьянская пришлась: хрустела косточка, а обломился зуб.
На другой день Еремей бросился Ваньке в ноги челом поклоны бить.
– Верни, Христом богом молю, верни племянницу, кровиночку родную, – ронял Еремей слезу горькую, и поднёс при сём смиренно двадцать целковых выкупа.
– То-то! Смотри мне впредь, – сказал умиротворённый Ванька Каин и принял деньги.
Еремееву племянницу отпустил.
Крестьянин чинно поклонился, попятился, спиною открыл дверь и пошёл – прямиком в Тайную канцелярию стряпать донос, да не облыжный, свидетелей подношения представил. Тако и сии – очевидцы.
Доверие к Ваньке Каину поколебалось. Вспомнили о былых непорядочных, тёмных делишках – хвост к нему приставили. С досады, дабы поправить упущенное, уличил он закадычного дружка Камчатку и сдуру выдал головою вперёд, полагая, верно, вместо своей. А дружок его возьми да и расколись на допросе. Развязался язык длинный под пыткой – поведал закадычный обо всём, как на духу. Обо всём, что было и чего не было, но что предполагали услышать заплечных дел мастера.
Плёл, выходит, Ванька сеть для рыбки помельче, да сам в ту сеть и угодил.
Покатился снежный ком с горы – лавиной обернулся. Между тем в руки генерал-полицмейстера Татищева попала челобитная некоего солдата Коломенского полка Фёдора Зевакина. В оной обвинял солдат Ваньку: умыкнул, бесстыжий, дщерь, пятнадцати лет от роду всего…
– Одно к одному, – подумал Татищев. – И одно безобразнее другого.
Закрыв глаза на указ Сената, генерал-полицмейстер повелел схватить злодея.
– Слово и дело Государево! – возопил Ванька Каин, да захлебнулся от ужаса, видя, как генерал поморщился и сплюнул брезгливо.
Ни разу не выходя, в одни и те же ворота дважды никому ещё не удавалось войти, – началось-таки дознание. Как горох из худого мешка, посыпались доносы, да и сам Ванька Каин, не снеся пыток, покаялся во всех своих злодействах.
Была учреждена особая следственная комиссия. Грянул приговор: смертная казнь!
И сорока не исполнилось Ваньке Каину, когда судьбина занесла секиру над головой своего недавнего наперсника: «Хватит, погулял вволю – пора расплачиваться», – сказала, а сама, видать, задумалась: свои своим головы не секут, хотя и не милуют, – и замешкалась, оставив Ваньку между жизнью и смертью. Год спустя Сенат окончательно постановил: смертную казнь отменить, наказать кнутом и сослать в тяжёлую работу.
Вырвали ноздри, на лоб и на щёки наложили клейма и отправили в кандалах по этапу – на каторгу.
На том и закатилась звезда славного российского вора, разбойника, мздоимца и московского сыщика, но ещё очень и очень долго одно имя его приводило в трепет младенца, наводило суеверный ужас на родителя, бросало то в холодный пот, то в жар всякого, кому довелось слышать имя Каина – крестьянского сына Ивана Осипова, рождённого в 1718 году в селе Иваново Ростовского уезда…
***
– Вот так-то, – заключил свой рассказ о Ваньке Каине рваный рубль. – Один землю пашет, другой сапоги тачает, третий покупает и продаёт, четвёртый думу думает, пятый тащит всё, что плохо лежит. Сыщик ловит, кого может поймать. Защитник: этот не виноват, виновны мы все. Обвинитель: всё равно наказать. Чтоб другим неповадно было. Судья слушает, кто красноречивее бает, и отдаёт – кто-то ведь должен отвечать за непорядок? – на попечение тюремщику. Тот надзирает и сторожит. Высокий господин, взирая на всё свысока, воображает, будто он верховодит. Однажды, к каждому в своё время, придёт гробовщик, чтобы в крышку гроба свой гвоздь забить, и могильщик, под заупокойную, гроб в землю опускает, зарывает… Восстать из жальника никому не суждено. Так восстанавливается кругооборот душ и дум в природе, ну а с ним и высшая, вселенская справедливость. А вы, уважаемый, говорите: закон.
– Это я-то говорю?! – едва не выпрыгнувши из своих собственных ботинок, я взвился с кресла и негодуючи воскликнул: – Да я и не думал вовсе ничего такого говорить! Это вы сказали, что закон как прейскурант и что каждому своя цена!
– Вот и хорошо, раз признаёте.
– Да ничего я не признаю!
А рублишко будто не слышит – как бы свысока вещает:
– Вы ещё слишком молоды, да и понятия о времени у нас с вами совершенно разные, так что, уж поверьте на слово, людей я знаю много лучше, нежели вы сами себя. И не вам – мне судить, обмельчал человек или нет.
– А это тут при чём?! – изумился я, напрочь отказываясь понимать.
– Покрутишься с моё – такого навидаешься, что ни к чему тебе будут ни вопросы, ни ответы, да и вообще слова – пустое. Одна мишура.
Меня он не слушал. Меня он не замечал.
– Как-то, пожалуй лет пять тому, занесло меня в небольшой, тихий городишко, каковыми полна земля русская. Скука в том городишке – неимоверная. Вертишься между тремя точками – пивнушкой, базаром и больницей – и всё в одни и те же кошельки возвращаешься, как назло. Зато стал я свидетелем одного весьма и весьма любопытного случая.
Только теперь я сообразил, что как вскочил в негодовании со своего кресла, так и стоял в оцепенении, – опомнился, сел, приготовился слушать очередной рассказ рваного рубля, что распластался посреди стола и распинался передо мной. Очевидно, где-то глубоко в душе, то бишь по своей сущности, он не лишён был театрального жеста – этакой вполне земной страстишки.
***
В самом начале второй половины дня средь недели в подъезд пятиэтажного кирпичного дома, что расположен на одной из центральных улиц этого тихого уютного городишки, вошла женщина – интеллигентного образа, значительно лет за сорок. Поднялась на второй этаж, вставила в замочную скважину ключ – дверь квартиры не заперта, и… обомлела: изнутри пахнуло газом…
Бросилась в кухню: духовка и конфорки включены на полную мощь, дальняя горелка с отчаянным шипением выбрасывает синее пламя…
Не растерялась – перекрыла вентиль…
Щиплет, выедает глаза. Спирает дыхание. Тугим обручем сжимает виски, и затылок ломит.
Глотая рвотные позывы, она бросилась к окну, настежь распахнула створки… осколки стёкол полетели, звоня о беде во все концы.
Свежий воздух!
Жилые помещения: гостиная пуста… Кабинет… в разлившейся луже крови на паркетном полу между секретером и краем ковра, по которому рассыпаны старинные монеты, в неестественной позе распластался муж…
Бо-о-оря-ааа!!!
На крики и, должно быть, запах газа в распахнутую настежь дверь робко заглянул сосед, затем ещё кто-то и ещё…
Её пытались увести – она, обезумев, рвалась обратно…
Где Ирочка?! Боренька, Бори-ис?!
Внучка, девочка лет десяти, была найдена в туалете, запертая изнутри, – тоже как будто мёртвая… Двое в белых халатах уложили её на носилки и вынесли из квартиры…
Вдруг блик фотовспышки – раз, другой, третий…
По городу молниеносно поползли слухи.
Народная молва взялась плести свои собственные версии. Умозрительные вереницы заключений, впрочем, не так уж чтобы разительно отличались друг от друга и, сходясь в главном, представляли примерно следующее суждение: жертва – преподаватель местного института, известный в городе и за его пределами нумизмат, а следовательно, убийство совершено с целью ограбления; на внучку покушались как на очевидца. Но кто?! – вот вопрос.
Соседка снизу, всезнающая Никитична, уверяла всех прочих, собравшихся на скамеечке у подъезда обмозговать происшествие, будто Ирочка, чай, выживет, но увечной, дай ей бог здоровья, будет непременно. Соседка сверху, тётя Поля, сокрушённо качая головой и цокая языком, сказывала, дескать профессорша задержалась в булочной, чтобы с кем-то там языком своим образованным почесать, а в то самое время – как только сердце не ёкнуло?! – ейного мужа порешили, вот профессорша, будучи не в себе, и пеняла-де: лучше бы, рыдает, и меня заодно, одним махом… Бори-и… И-ир-а… а-ай, боженька ж ты мой-ёй-ёй-й…
– И обчистить-то как следует их хоромы не успели, – тётя Поля будто клубочек разматывала и по ниточке, что пёс по следу, до сути дела языком бежала. – Всего-то, я слыхала, одну монетку и украли. Хозяин в дверь, Борис-то Петрович, а там вор по шкапчикам шарит. Хвать он крадуна за грудки. Ну шутка ли сказать, шестой десяток на исходе! Куда там в моченьке с татем тягаться?! Тот его, с испугу, по голове, да бронзовым бюстом, что под руку подвернулся. Ирочка, она за дедом всегда хвостиком плелась, не за бабкой же, – Ирочка увидела и с криком шмыг в туалет! Дурашка малая, не в ту дверь метнулась. Ей бы назад, на улицу. Там и настиг Ирочку изверг. Много ли ребёнку надоть?! Думал, порешил её, ан нет: рука, поди, дрогнула. Потом хвать монетку, даром что не золотую, главное, – золотом блестит. Газ пустил – и поминай как звали! Ищи теперь свищи… А если бы жахнуло?!
– Типун тебе на язык! – сплюнул в сердцах Кость Семёныч, до того многозначительно помалкивавший.
– Ты, что ль, вправду слыхала, как дитё-то кричало? – усомнилась Никитична.
– Может, и слыхала, так что с того?! Дети ж! Они всегда орут как оглашенные. Поди разбери отчего?!
– Дык из-за медяшки, что ль?! – только теперь изумилась Никитична. – Бориса Петровича – что, из-за медяшки?!
– Э-эх! – урезонил соседок Кость Семёныч. – Кой там медяшки! Латунь. Украден сестерций, Тиберий. Цены ему нет. Гордился им Петрович, потому как подделка времён Христа.
– Как?! Подделка! – в расстроенный унисон воскликнули соседки.
– В том вся соль, что фальшивка всамделишная! – И Кость Семёныч аналитически вычислил: убийца-де нумизмат, покушался именно на сестерций, в противном случае, ежели обычный домушник, прихватил бы всё ценное, что есть в доме и не шибко копотливо в сбыте, причём стянул бы всю коллекцию, а уж потом разбирался, что есть что и почём. Или же злодей сумасшедший! – У Петровича золотой был, петровский червонец. А не тронули… – прошептал аналитик со знанием существа вопроса, в конце концов заявив, будто бы этот некто, убийца то есть, был в очень близких отношениях с профессором, потому как последний во всём тому доверял, раз допустил к коллекции, а ведь известно, нумизматы – народ подозрительный, несговорчивый. – Да сами знаете, каков Петрович – у-у мужик был! Головастый.
Допоздна толковали соседи на скамеечке у подъезда и, прежде чем разбрестись по домам и как никогда тщательно запереть двери на ночь, кто-то предрёк: как внучка придёт в чувство, так и прольётся свет на это тёмное дело. Дай ей только бог здоровья! Полагаться, впрочем, на достоверность молвы бывает опасно, однако стоит лишь едва-едва проступить истине, как задним числом приходит прозрение: был, оказывается, провидец, экой, должно быть, гордец!
А на утро, возвращаясь с покупками с рынка, многие хозяйки заверяли, будто бы следствие вышло на студента, который якобы не только частенько навещал профессора, но ко всему прочему имел со своим преподавателем общий интерес по части нумизматики. Отныне от мала до велика – всякий горожанин знает, что за слово такое «нумизматика»; да, многого в толк до сих пор не возьмут, а вот «сестерций», «Тиберий», «аурихалк» и прочие чудные слова – повторяют.
И действительно, вскоре, то есть к обеду, уж толковали сведущие люди: вчерась, мол, вечером, после операции, хирург заключил: «Без сомнения, девочка будет жить. Об остальном говорить пока рано»; ночью она пришла наконец в себя и, заплакав, пролепетала, должно быть, в полубреду: «Не надо, дядя Коля, не надо»…
В ту же ночь, как это водится под утро, «дядя Коля» – студент, нумизмат, единственный сын уважаемых в городе родителей, также преподавателей института, – был задержан по подозрению. При обыске монету обнаружить не удалось, но на допросе он сознался в содеянном, толково же разъяснить, где монета, он так и не сумел.
Следователь, сказывали, пытаясь разобраться в мотивах преступления, задал, казалось бы, наивный вопрос: решился бы он, Николай, взять на душу грех, если б можно было всё вспять повернуть. Как правило, подследственные одинаково твёрдо, однозначно отвечают: нет! Неожиданно прозвучало лаконичное – да!
– П-почему?! – поперхнулся следователь, полагая, что ослышался.
«Дядя Коля» пожал в ответ плечами.
– Зачем она вам?!
– Я хочу её иметь, – безразлично сказал и… усмехнулся горько-прегорько.
С момента задержания и до самого суда дознание велось за стенами тюремных помещений, за пределы которых сведения не просачиваются, или почти не просачиваются. И главной новостью на много дней вперёд, вызывавшей массу предположений, явился фальшивый сестерций из аурихалка.
– Ндам-м… – как-то вечером этак загадочно и нерешительно протянул Кость Семёныч и почему-то зашептал: – А всем ли, спрашивается, неизвестно, куда задевалась монетка? Да полно! И одна ли только… Слыхал, шмонали всех нумизматов – искали, стало быть, чего-то…
И прикусил язык, испуганно покосившись по обе стороны от себя. В ответ на его заговорщический шёпот скамеечка у подъезда ответила оторопелым молчанием.
– Там, говорят, был и исчез набор Демидовых рублей, платиновых. Кстати сказать, полный: 3, 6 и 12 рублей. Поэтому, я думаю, не замешан ли здесь кто-то ещё? Студентишко же энтот – просто сявка…
А по городу неумолимо ползли слухи. Так привычно спокойные, равнинные реки по весне, взъярившись, вдруг выплёскиваются за берега и, как пересохшие губы страждущим языком, облизывают заливные луга. И вот однажды Никитична на кончике своего языка принесла во двор свежую новость: в городе объявилось некое важное лицо. И недели не минуло, как пополз слушок, будто студент ещё в детстве, то бишь сызмальства, какой-то там болезнью страдал, он, дескать, не вполне как бы и нормальный.
– Убийца чай полудурок! – истолковала Никитична. – Когда что втемяшится шизику в башку – тут прямо вынь да положь. А связать одно с другим он ни-ни, не в мочи. Монетки зажал в кулак, а то, что другим кулаком человека убил, так вовсе, может, и ненарочно. В слепоте душевной, сам того-сего не понимая.
– Да что ты такое языком-то своим мелешь? – не утерпела тётя Поля.
– А то, что лечить его надоть! – вроде бы как рассердобольничалась Никитична. – Сперва лечить, а потом судить и непременно казнить.
В самом деле, разве вполне нормальный человек возьмёт такой неизбывный грех на душу – ради монетки, которую тут же затеряет?! Тем и опасны душевнобольные: полоумны они, полоумны… Вот и весь сказ.
А между тем в ожидании суда и приговора незаметно бежали дни, недели, месяцы. Из этого томительного ожидания родилось и разнеслось по всему городу предположение, что-де суд состоится за закрытыми дверями, дабы не смущать горожан.
Чем ближе к суду – тем больше толков: всех мучил вопрос, расстреляют убийцу или же пятнадцать лет дадут?
Суд таки состоялся – при открытых дверях, вопреки всяким домыслам.
– Кто их, негодный, распускает только?!
Низко опустив бритую голову, подсудимый угрюмо молчал, изредка буркая в ответ на жёсткие, грозные вопросы прокурора: «Не помню…», «Кажется, да…», «Кажется, нет…» А затем, после напоминания, что он, дескать, давно уже не ребёнок и пускай наконец ответит суду как мужчина – прямо и откровенно, где монета, он едва не расплакался и заявил, будто вообще плохо помнит, что происходило с ним «тогда, когда то самое», не знает также, куда запропастился сестерций, но просит поверить, что лично он никуда его не задевал… да, он, кажется, помнит, что однажды он держал в руках, но что держал, точно, этого он не помнит… он совершенно не представляет, куда монетка задевалась…
Все попытки прокурора заставить подсудимого внятно ответить по существу – были тщетны, однако ж и все ходы адвоката, который представлял подзащитного психически нездоровым, умственно несостоятельным, успеха в суде не имели.
Приговор – «…к исключительной мере…» – был встречен одобрительным гомоном, как справедливое воздаяние за бессмысленно зверское преступление против норм человеческого общежития, хотя нет-нет да и раздавались впоследствии робкие голоса за то, что в принципе, а не в данном, разумеется, случае, исключительная мера наказания вообще-то безнравственна: не палач рожал в муках – не ему и голову сечь, и её-де, казнь, стоит заменить пожизненным заключением или бессрочной работой на пользу обществу, которому себя противопоставил. И ещё поговаривали о матери убийцы, о её стеклом застывших глазах, а до того, в процессе, о её же глазах как зеркале съёжившегося сердца.
– Казнить, оно, конечно, того – справедливо, да как посмотреть-то? – Кость Семёныч тщился переговорить соседок, когда те, вернувшись из зала суда, перетирали языками увиденное и услышанное.
– Чего глядеть-то, а?! – возмутилась Никитична, как если б кто понёс какую ересь не перекрестясь, и принялась поучать: – Сказано же, казни сына своего от юности, и успокоит тя на старость твою. Ибо бьёшь его по телу, а душу избавляешь от смерти.
– Правильно встарь говаривали, – согласился с ней Кость Семёныч, но тут же не преминул оговориться: содрогнёшься, мол, при мысли, что должны переживать порядочные люди из-за таких вот выродков.
– Как нормальный родитель, то не допустит себя в такое положение! – Аж сплюнула в сердцах Никитична. – Пороть, пороть до кости надо было в своё богом отведённое время! А нет, не пороли мерзавца – так судить и матку с тятькой. Вот и весь сказ!
– Не знаю… не знаю… – рассудительно качнул головой Кость Семёныч: понятен, дескать, материнский инстинкт – сберечь дитяте то, что дадено ей от него в муках родовых, потому-де и болезнь душевную ему надумала.
– А сынок подыграл, нет, что ль, скажешь?
– Да какая она мать ему?! Не мать – паматерь!
Быть бы тут перепалке нешуточной, да как раз мимо проходил сосед Колька. Заслышал он, как страсти разгораются, и приостановился у скамейки полюбопытствовать.
– Ну, и чего тебе? – Тётя Поля зыркнула на мальчишку с вызовом: не мешай, мол, видишь, люди делом заняты.
– Кабы знал бы что, так раскололся бы – как пить дать раскололся.
– Да тебе-то откудова знать?! Если б да кабы!
– А мне и знать не надо. Когда почки в ментовке отобьют, так признаешься не только в том, что шьют…
– Иди-иди, шалопай, – прикрикнула на него тётя Поля. – Топай своей дорогой.
Колька сплюнул меж зубов в их сторону и пошёл.
Кость Семёныч сосредоточенно нахмурился, с сомнением покачал головой и, разминая рукой небритый подбородок, вымолвил:
– Зачем по почкам? Достаточно и табурета. Перевернул на попа, коленками на край – и через четверть часа сам всё и расскажешь, как на духу, – обо всём, что было и чего не было…
– Уж больно сердобольный ты, как погляжу, – на это ответила Никитична.
Тут к тёте Поле подбежала соседская девочка и, дёргая её за рукав, говорит зычным голосом: мамка, мол, послала сказать, – и зашептала ей на самое ухо. Тётя Поля перевела: дескать, родители ирода как раз съезжают с квартиры, на другое, стало быть, жильё, с глаз людских долой, чтоб не совестно было в глаза людям глядеть.
На время город заполонили иные толки – о мебели лакированной, о хрустале, о грязной плите и неубранном за собой мусоре…
Вдруг, где-то через месяц или чуть менее, неизвестно каким духом по городу прошелестел слушок: кассационный суд какой-то инстанции, то бишь уровня, в конце концов заменил исключительную меру каким-то режимом.
– И что?! – изумлённо развела руки тётя Поля.
– Дык всякое болтают! – плечом повела Никитична. – Кто ж теперь прознает?!
И действительно, кто сказывал, что приговор приведён в исполнение, кто – нет, а кто ничего не утверждал, но думает, что об этом тоже что-то слышал или даже читал.
Кость Семёныч – до чего странный человечишко! – прыснул хохотком и свой неопределённый смешок сдобрил невольной старческой слезой.
Тем не менее, несмотря на требование, то и дело раздававшееся где-то в недрах людской молвы: «Таких четвертовать надо! На площади!! Прилюдно!!!» – страсти постепенно затихали: горе чуть-чуть притупилось – ничего, время лечит; девочка Ира выжила – ну и слава богу; родители убийцы покинули город – ладно, туда им и дорога; сам изувер осуждён – поделом, чтоб другим неповадно было.
Жизнь входила в свою привычную, будничную колею. Толки, слухи, сплетни опутывали своими сетями прочие, более свежие предметы и явления. Однако ж года два спустя, когда о судебном процессе давно и помину не было, город внезапно вновь всколыхнулся от неправдоподобного известия: видели-де Николая, целого и невредимого, там, на южном взморье, вместе с мамкой – нет, не с мамой, а с бабушкой… Да какая, собственно говоря, разница, с кем именно видели, раз он-де в самом деле был признан умалишённым и прошёл курс лечения уколами, а теперь, дескать, есть надежда, что здоровье потихоньку-помаленьку придёт в норму.
– Вишь как?! – тёте Поле отчего-то вздумалось отчитать Кость Семёныча, причём говорила она с ноткой злорадства, с этаким нажимом в голосе. – Что я тебе, старый дурень, сказывала. Помнишь, аль нет? Здоровье поправит, а там, гляди, и припомнит, где монетки-то затерял. Золотые были червонцы-то, золотые!