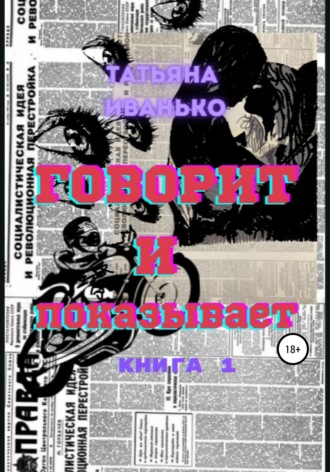
Полная версия
Говорит и показывает
Мы много говорим и о том, что происходит вокруг нас сейчас. Два последних года все мы зачитываемся «Огоньком», устраивая споры, полунаучные диспуты на уроках истории в школе о роли личности в истории и, в частности, культа личности. О том, сколько всего и как было в нашей стране, не будь революции, Ленина, Сталина, Гулага и прочего.
А вне школы… С Васей мы почти не обсуждали эти обличения, все эти публикации, ужасались и всё. Смотрим и по телевизору тематические программы. И чувствуем себя попавшими в какой-то странный мир: мы вступали в комсомол в прошлом году, гордясь, что становимся причастными к геройской части молодёжи, ближе к Павке Корчагину, «Молодой гвардии», Зое Космодемьянской и другим сотням героев, имена и подвиги которых мы помнили с самого нежного детства. Бабушка моя историк, рассказывала мне обо всех этих героях ещё в детсадовском возрасте. Так что я как с родными выросла с ними вместе. А теперь мы приходим к тому, что идеалы, за которые они умирали, посвящали свою жизнь, были ложны?! Что тогда хорошо? Мы выросли, зная это, но теперь это знание – ложь?
– Нет, – сказал мне на это Вася. – Они за Родину, за Россию погибали, пусть и назвалась Советским союзом с 22-го года. А разве важно с хоругвями шли на смерть или с красными звёздами на будёновках и пилотках, разве это важно?
Я задумалась над его словами. Ну, во время войны – да, а в Гражданскую?! Офицеров целыми баржами топили…
Но Васю не смутил и этот вопрос:
– Думаю, белые не сильно отставали. Лазо сожгли же в топке – факт… и он что один такой? В том и ужас гражданских войн.
– Ты Солженицына читал? – спросила я его как-то.
– Да, самиздатовскую полуслепую книжку. «Ивана Денисовича», – сказал Вася. – Ну и «Архипелаг…», конечно. Он, по-моему, больше публицист… больше, чем художник.
Так я и узнала о чудесном Васином соседе Иване Генриховиче, у которого была сокровищница-библиотека. Васе книги брать позволялось сколько угодно, а вот давать каким-то девчонкам… я не решилась бы даже попросить.
Я попросила Ю-Ю достать.
– Что это вдруг? Модный поток подхватил тебя? – усмехнулся Ю-Ю. – Платонова почитай лучше… Но если так хочешь, достану я тебе Александра Исаевича.
– А ты сам читал?
– Я начал, ужаснулся всем, потом устал ужасаться, потом мне стало скучно… Короче, я не дочитал, – сознался Ю-Ю. – Так что не модный я и замшелый.
Но я не отстала так легко:
– Вот ты же комсомолец, Ю-Ю, что…
– Ты что хочешь услышать, Май?
Он окончательно отвлёкся от журнала, который читал перед моим приходом. Отложил его на пол возле кресла, в котором сидел. Качнул головой, эффектно отбросив волосы за плечо, тяжёлый шёлк – его волосы, мои другие – лёгкими волнами… Он посмотрел на меня, глаза заискрились.
– Кинулся бы я как Матросов? Если не было бы иного выхода – да, кинулся бы, а что делать?
– Хорошо, когда спасать товарищей, или там семью, или даже не семью… а… Это ясно. Это все люди так. А вот… вот Боярку эту несчастную узкоколейную пошёл бы строить-гробиться?
– Как Павка? – улыбнулся Ю-Ю. – Знаешь, Павка для меня – это своеобразный Святой, только не за Христову веру, а за веру в идеалы, которые хороши-то всем. Только… – он опустил глаза, на сложенные перед грудью пальцы, вытянул губы, размышляя или подбирая слова, сразу резче обозначились у него скулы и квадрат подбородка, – только после Павки пришли Бездарность и Безграмотность и в конце концов Безверие. Так что… – и большие пальцы разошлись в стороны, – они Боярку строили, чтобы люди с голоду и от холода не умерли, так что простая логика. Всё та же. Никаких противоречий с нормальной человеческой нет. Называем это комсомольской или коммунистической доблестью или нет, это уже решает время…
Но яснее мне не стало. Глядя и слушая «Взгляд», и множество других передач по телевизору, документальных фильмов, я терялась, всё глубже погружаясь вместе со всеми в отторжение всего коммунистического…
Глава 4. Новый год
Новый год. Сегодня мы с Ю-Ю наряжаем ёлку внизу. Здоровенную, до потолка, как всегда, привёз папин водитель. А сам папа до сих пор ещё не приехал. Как и мама. Бабушка сегодня дома и то хорошо, хлопочет на кухне, запахи уже поплыли по дому. Яйца варятся для оливье, запахло уже и коржами для Наполеона… И, конечно, мандариновый дух. Ёлка и мандарины – настоящая Новогодняя атмосфера.
Ю-Ю принёс стремянку, иначе мы ёлку не нарядим. Они вместе с Михал Иванычем установили дерево в ведро с влажным песком. На этом Михал Иваныч уехал домой, а мы с Ю-Ю занялись самым приятным, что может быть под Новый год: украшением ёлки. Достали с антресолей старые коробки из-под люстры и сервиза – в них от зимы до зимы живут ёлочные игрушки, укрытые слоем мишуры, и разложились на полу в гостиной.
– Придумал, куда пойдёшь? – спросила я, доставая мишуру и глядя на Ю-Ю, оценивающего, ровно ли стоит ёлка.
– Там гирлянда должна быть, давай сначала лампочки, – сказал он, а потом ответил всё же на мой вопрос: – Не решил. Дойдёт до того, что с Лидкой и Витькой буду «Голубой огонёк» смотреть…
Он обернулся:
– А ты, я видел, и платье уже достала… и ресницы, вон, навела.
Хихикает. Любит подшучивать надо мной. Но мне нравится, что он не относится ко мне серьёзно, как родители и бабушка.
– Твоя-то Ирочка-дырочка весь телефон оборвала уже звонками. Пойдёшь? – я тоже смеюсь, подавая ему гирлянду, попутно разворачивая длинный шнур. Мы каждый год, снимая её с ёлок, тщательно сворачиваем, чтобы не путались провода.
Он вздохнул, не отвечая, залез на стремянку. И, пока пристраивал лампочки на душистых ветках, сказал:
– Принеси лучше удлинитель, Май, а то вешаю, а она может, не горит, проверить надо.
Маюшка легко встала с пола, разогнувшись, старые джинсы, что носит дома, растянулись и висят на бёдрах и коленках. Или похудела?..
Идти к Ирине и правда не хотелось, но сидеть с Лидой и Виктором – ещё меньше. Если бы Маюшка осталась дома, остался бы и я. А так… сегодня мне будто нарочно перед Новым годом пришлось застать вначале сестру с её хахалем, а после и зятя…
Но по порядку. Тридцать первое декабря, суббота, даже мама дома с самого утра. Я с дежурства, сдал его на планёрке и зашёл к Лиде в кабинет, чтобы сказать, что не останусь на праздничное застолье в отделении, а пойду домой отсыпаться. И что же? Молодой ординатор-хирург, старше меня всего на пару лет, то есть младше Лиды минимум на тринадцать, и Лида целуются, даже дверь не удосужились на ключ закрыть.
– Извините, Лидия Леонидовна, – сказал я, отвернувшись к двери и выходя уже. – До вечера, я домой…
– Да-да, Илья Леонидыч… – немного растеряно пробормотала Лида.
Мне стало противно. О её отношениях с нашим начмедом знали все, и я, и даже мама, уже лет пятнадцать. Этот служебный спокойный роман не мешал ни нашей семье, ни его. Но что это такое?! Я и сам люблю пофлиртовать с молоденькими и не очень молоденькими медсёстрами и докторицами, и встречаться вполне, наверное, можно было бы, если бы у меня были другие принципы, поэтому я и не думаю осуждать её. Но противно: целоваться при открытых дверях, особенно, если ты заведующая, это уж я вам доложу…
Я не завожу романчиков на работе. Длительных и серьёзных – не с кем. А краткие интрижки станут после вредить работать. Поэтому все мои похождения – вне стен больницы. И так деваться некуда, иногда мне кажется, что девушки и женщины размножаются каждый год каким-то почкованием, где спрашивается, все были, пока я был школьником? Ведь девчонок было столько же, сколько мальчиков, в некоторых классах даже меньше, откуда столько их берётся теперь на моём пути?
Я очень легко влюбляюсь. Прямо с первого взгляда всякий раз, но и остываю так же скоро. Мне становится скучно, не о чем говорить или просто не хочется, даже с самыми умными вроде бы, как казалось при знакомстве. Начинают умствовать или умничать, я впадаю в хандру, и всё моё воодушевлённое либидо с грустью опадает. А с глупенькими мило и забавно поначалу, а потом становится так одиноко, будто я Робинзон, который вместо Пятницы так и остался с попугаем…
Так что с девушками у меня всё как-то не очень складывается. Мама говорит, что это, потому что их слишком много и я даже не даю себе труда приглядеться. Но в том-то и дело: едва я начинаю приглядываться, мне хочется сбежать. Соединиться с кем-то только, чтобы не бегать в поисках новых, для некоего постоянства, но для чего это постоянство? Для регулярного секса? Не захочется никакого секса, если ни капли влечения. Или выключить свет и воображать себя с кем-нибудь из знаменитых красоток? Может, все так и делают, кто по сто лет живёт вместе. Но мне это не улыбалось. Чем, как Виктор иметь под боком нескольких женщин или как Лида, лучше я буду свободный «лётчик». Хотя бы без постоянной лжи.
Вот поэтому, а ещё от отвращения, овладевшего мной на сегодняшний день к замужним развратницам, мне и не хотелось к Ирочке, с которой мы встречались раза три, когда её муж бывал в отъезде… Ещё решит, что мы с ней пара… Ещё мужу задумает объявить что-нибудь. А я не знаю даже, к примеру, есть ли у них дети. Она вроде говорила что-то, ничего не помню…
Я приладил верхушку, тройная остроконечная луковица серебристого цвета сантиметров тридцать длиной всё же маловата для нашей ёлки-великанши. И где Виктор только взял такую? Небось, в какой-нибудь подшефный детсад две привезли.
Зазвонил телефон. Маюшка, стоявшая на полу, посмотрела на меня, снизу вверх:
– Ты есть?
– Спроси, кто, – сказал я. – А вообще… нет, нету меня. Ещё подумаю и сам позвоню тогда.
Но это звонил Виктор, сказал, что приедет к восьми. Достойны друг друга с Лидой. Ещё в обед мама послала меня в магазин с целым списком, там я и увидел через витрину Виктора с пигалицей, чуть ли не Маюшкиной ровесницей… Вот такая чудная семейка.
Настроение ни к чёрту. Наконец, явилась Лида. Вошла, оглядывая ёлку, потряхивая головой, оправляя ровное каре, чуть примятое норковой шапкой, как ни в чём, ни бывало трясёт её в руках, красивая, глаза блестят. Что ж, романы молодят и украшают всех, в наступающем году моей сестре будет сорок, как и Виктору, мне двадцать пять, маме пятьдесят девять, а Маюшке – шестнадцать. Стариков у нас нет. Отец умер, так стариком и не став, ему было шестьдесят семь.
– Красиво, – сказала Лида, оглядывая ёлку, – не слишком много игрушек?
– В самый раз, – ответил я, спустившись, и оценивая, что получилось, снизу.
– Ты… – Лида посмотрела на меня, краснея чуть-чуть.
– Меня не касается, – отрезал я, не глядя на неё.
Не хватало ещё обсуждать это со мной… Провалитесь вы!
Лида успокоено отвернулась опять к ёлке.
Снова зазвонил телефон.
– Что скажешь, Ю-Ю?.. – Маюшка посмотрела на меня.
– Status idem, – ответил я.
– И что зовёт тебя как немтырь всё «Ю-Ю»? – проговорила недовольно Лида, глядя вслед дочери.
– Пусть как хочет, зовёт. Ей можно, – сказал я, ещё к Маюшке цепляться будет?
– Всё разрешаешь ей, деньги такие тратишь на неё, балуешь. Женился бы лучше на ком-нибудь, – нахмурилась Лида.
– Кому лучше? – удивился я, выразительно посмотрев на неё.
– Ой, да ну вас, делайте, что хотите! – Лида поморщилась, отмахнувшись от меня, и направилась в коридор к ванной или своей комнате. Вот и иди.
Нет, встречать с ними тут праздник, это я изведусь. Пожалуй, надо всё же позвонить Ирочке. Не мне ли и звонили? Я посмотрел на вошедшую Маюшку. Она ответила взглядом:
– Это меня, Оксанка спрашивала, кто шампанское покупает…
– И кто?
– Да купили уже, опомнилась, – Майя махнула рукой.
– Много?
– Много – три бутылки, много – напьёмся… Только не говори «предкам» …
Я усмехнулся про себя и направился к себе в комнату, где у меня тоже был телефон. Всего по дому было три аппарата. Всё же два директора тут. Когда я поднимался по лестнице наверх, услышал, как хлопнула входная дверь, и потянуло морозным сквозняком, окно наверху у меня открыто. Виктор пришёл. Желать ему Доброго вечера мне не хотелось, поэтому я не стал останавливаться.
А мой Новый год срывается. Я понял это, когда застал маму почти без сознания, упавшую на пол в промежутке между моим диваном и её. Я испугался. Такого ещё никогда не бывало. И было от чего пугаться…
Я наклонился, чтобы поднять её. Но она очень бледная и мокрая от пота почти не могла открыть глаз.
Я поднял её на кровать и бросился к Ивану Генриховичу. Тот мгновенно начал вызывать «скорую».
– Мама, мамочка… – почти в отчаянии бормотал я, держа маму за руку и глядя в её бледное лицо, не в силах сказать что-нибудь, кроме этого, ни одной мысли, кроме страха.
Тут телефонный звонок. А ведь я Майке обещал, что мы вдвоём пойдём к ребятам. Это должен был быть первый Новый год вне дома. Но сейчас я забыл и об этом. Иван Генрихович ответил за меня.
«Скорая» повезла маму в больницу. И мне позволили ехать. Я остался в Приёмном покое вместе с ещё несколькими такими же ожидающими кто чего. Страшно так, что мне, кажется, весь снег, что нападал за декабрь на улице, сейчас у меня в груди. Страшно. Если мама… если мама… Я боюсь даже думать это слово… Меня отправят в детдом… если мама… Я останусь совсем один. Бабушка не интересовалась нашей жизнью, довольная, что мы уехали из Воскресенска подальше от неё. И к себе она меня, конечно, не возьмёт. Больше у меня нет ни одного родственника.
Чёрная дыра разверзлась передо мной, и затягивает меня в себя. И так живу в безысходности, а тут ещё чернее чернота… Я наклонился вперёд, опирая голову на руки. Я не в силах сидеть ровно и спокойно. Ещё немного и я лучше сам умру.
Но что-то мягкое и тёплое коснулось меня, словно накрыли тёплым. Я поднял лицо. Майка. Майка…
– Твоей маме лучше. Всё будет хорошо, мне сказали, сейчас будет спать, а завтра тебя пустят, – она и глазами греет, у неё солнце там.
Она села рядом со мной. Я чувствую прикосновение её острого плеча, перекинула куртку на руку, в джинсах, в свитере каком-то здоровенном, она дома так ходит, я видел.
– Меня тут знают, я прошла… – сказала Майка.
Теперь мне стало стыдно. Страха своего. За себя ведь боялся, не за маму. И не думал вовсе, что умирать в тридцать семь лет, несправедливо и противоестественно. Что она, несчастная до того, что не имеет совсем сил жить, убивает себя каждый день этим проклятым спиртным. Убила бы разом, но я держу, наверное… Мама, мама, прости, что я такой эгоистичный, такой слепой и чёрствый сын… И что я ничего не могу сделать для тебя.
– Идём, Василёк? – сказала Майка.
– Куда? – спросил я, разгибаясь, напугавшись, что скажет, как ни в чём, ни бывало: «Идём на Новый год».
– Домой. Я побуду с тобой до утра, пока тебя к маме не пустят.
– Не надо… – пробормотал я, вспомнив, что дома не убрано, что там…
Но Майка возразила:
– Да надо! Друзья нужны на что-то, – Майка улыбается спокойно и ясно, что спорить бесполезно, решила, что нужна мне сейчас зачем-то, значит так и будет.
Идти недалеко. У нас в М-ске всё, в общем, не далеко, за полчаса пройдёшь город из конца в конец. До моего дома от больницы пятнадцать минут ходу. Снег размяк, и ноги проваливаются в жидкую водно-снежную кашу. Машин уже нет, все утроились встречать Новый год. Интересно, который час?..
Маме легче… Значит, весь ужас отменяется?
Завтра пустят. Увижу… и всё будет по-старому.
Но чем мы ближе к дому, тем я растеряннее становлюсь, Майка, которая пахнет какими-то чудесными духами, волосы шёлком по плечам, в куртке этой красивой с белым воротником, войдёт в нашу с мамой комнату…
А там…
– Слушай, Май, а… Может, я тебя домой провожу? – сказал я.
Ей станет противно со мной, если она узнает. Увидит всё.
– Или к ребятам? – закончил я.
– Что мне делать с ребятами без тебя?! Ты что? И дома я сказала, что пошла к тебе до утра. Так что никто меня не ждёт.
Я соврала, дома я ничего такого не говорила, я просто убежала, когда Иван Генрихович, которого я знала только по телефону, ответил вместо Васи и сказал, что Вася поехал с мамой в больницу… Вот я и побежала, успела только куртку надеть. А то, что ему нельзя одному сейчас – это по лицу видно. Ещё казнит себя, думает он плохой сын. Разве можно человеку одному в такую минуту?
Так что мы пришли, наконец, к ним.
Я не бывала никогда в домах, где живут крепко пьющие люди. И первое, что прямо ударило меня – это запах. Противный кислый запах перегоревшего в человеческом теле спирта и выдохнутый, выпущенный с мочой, испражнениями. Их нет, они смыты водопроводом и канализацией, а вонь сохраняется, впитываясь в ткани, обои, в поролон диванов и перо подушек. Даже в сами стены и пол.
Но бедность и беспорядок, недопитая бутылка какой-то коричневой бурды у ножки дивана, не смущают меня, меня смущает стыдливая потерянность Васи.
– Ты теперь… будешь думать… – поговорил он. – Что у меня… что я… что мы… в каком-то алкашном притоне живём…
– Никакого притона я не знаю, – сказала я, откуда мне знать, какие они притоны эти? – И ничего я не буду ничего думать, я знаю всё давным-давно, – сказала я.
– Знаешь?! – изумился Вася.
Он удивился этому куда больше, чем, когда увидел меня в больнице.
Да, я знаю. Я знала, но я не думала, что это так ужасно. Что это так мерзко. Я никогда не видела притонов и здесь, конечно, никакой не притон, но всё же… Бедный Вася… как же он живёт? Моя собственная жизнь показалась мне райским приключением: столько человек любят меня, заботятся обо мне, а он совсем один лицом к лицу вот с этим ужасом. С этими запахами, с этой старой мебелью, с протёртой обивкой и продавленными подушками, с этим полинялым дырявым линолеумом на полу. Зачем здесь линолеум, в коридоре – паркет. Одна моя куртка стоит, наверное, дороже, чем вся тутошняя обстановка.
Мне стало стыдно, что я живу так хорошо. Так богато, я никогда не задумывалась раньше над этим.
– Как Анна Олеговна?
Мы обернулись на голос. Я увидела высушенного, ещё не старого человека в очках с толстенными стёклами. Это и есть, наверное, Иван Генрихович.
– Здравствуйте, – машинально проговорила я.
– Здравствуй, девочка, – ответил он, вскользь глянув на меня.
А Вася сказал ему:
– До завтра не пустят. Но сказали – лучше. Это Майя, Иван Генрихович, Майя Кошкина, познакомьтесь.
Сушёный очкарик удостоил всё же взглядом:
– Вы – Майя? – почему-то удивился он.
Чему он удивляется? Мы же никогда раньше не встречались. Странно. Но он долго не стоял возле нас, сказал ещё что-то Васе и исчез за дверью, тоже обшарпанной и грязноватой, как и всё здесь.
– А знаешь, что я делаю, если мне страшно или я волнуюсь и не могу найти себе места? – сказала я.
– Что? – пробурчал Вася, которому сейчас вовсе не было до этого дела.
– Я берусь за уборку! Давай приберёмся? Твоя мама придёт, а дома чисто, ей будет приятно. Мамы любят, когда дети убирают.
Он посмотрел на меня:
– Правда, так думаешь?
Ничего я не думала, и Анну Олеговну мне хотелось жалеть в последнюю очередь, тем более что я никогда её не видела, а она довела свой дом до такого свинства. И своего сына до такого отчаяния в глазах. Но надо же было что-то делать, тут и сесть-то негде, если всё тряпьё не убрать.
Всегда в фильмах разнообразные героини, приходя впервые в дом к мужчинам, устраивают уборку, меня раздражали эти повторяющиеся сцены, я всегда думала, что это глупо и неприлично: явилась и давай хозяйничать, порядок наводить. Но сейчас ничего другого просто не оставалось. Да и Вася же никакой не мужчина, Вася мой друг.
Часть 2
Глава 1. Разноликий праздник
То, что Илья застал нас с Георгием, досадно, но не смертельно, он, конечно, никому не скажет, а его презрение не очень-то меня задевает. Да и не боюсь я, что он скажет. Узнает Виктор, и что? Что он сделает? Что он может сделать, директор Приборного завода, крупнейшего предприятия в городе, член горкома. Что он сделает? Разведётся что ли? Пусть молится, чтобы я не развелась с ним за его бесконечные амуры… Так что, руки у меня развязаны.
Вот только Игорь бы не узнал. Игорь Владимирович, старость уже постукивает в твои окна, седины на волосы намела, весу прибавила на всегда стройное тело. А Георгий – молод, если Игорь прознает, не поздоровится ни мне, ни ему. Придётся в Москву ездить работать. Георгию-то это только повод отсюда, из М-ска свалить, а я, стану на электричке туда-сюда мотаться. Надо осмотрительнее всё же… А вот и Виктор, дверь входная лопнула.
Я вышла из ванной, едва не столкнулись с Виктором.
– О, привет.
Я смотрю на жену. Что-то очень довольной выглядит. Я-то еле отделался от Вики, надо же взяла в голову, вместе Новый год встречать… Но почему так выглядит Лида? И не смотрит в лицо, и румянец на щеках… не иначе, новый хахаль. Ах, Лида, всё одно и то же… Столько лет у нас всё одно и то же. Дочь уж невеста, а мы так и не повзрослели, всё будто черновик пишем, будто вот-вот прекратим, и будет контрольная.
Я смотрю на себя в зеркало. Как странно видеть своё отражение снова спустя какие-то полчаса после того, как смотрелся в зеркало в ванной у Вики, в её кривоватое зеркало в розовой пошловатой оправе, плитка ребристая с коричневатым деграде, модно что ли? Или налепили, что достали, как и все… Это у нас в ванной старинный белый кафель, глянцевый, с маленькими чёрными вставками и зеркало большое, я вижу себя почти во весь рост. И выгляжу я здесь куда значительнее и даже интереснее. Во какой – красивый даже. А в тускловатой ванной у Вики – настоящий обормот, какой-то потрёпанный развратник…
Я закончил намыливать руки, смыл пену. После праздника надо с Викой развязываться, не то надумает себе что-нибудь лишнее.
Я вышел из ванной. Хлопнула входная дверь. Кто это ушёл?
Я заглянул на кухню. Татьяна Павловна сразу на двух столах хлопочет над стряпнёй.
– О, Виктор, пришёл, переодевайся, помоги-ка, картошку почистить надо. Уж извини, все разбежались куда-то, – сказала она, вскользь взглянув на меня.
– Куда же только еды – удивился я, оценивая масштабы готовки, – нас сегодня трое всего, как я понял.
– А завтра опять пятеро будет. Ты, не разговаривай, Витюша, время не тяни.
Я увидел, как Маюшка метнулась на лестницу и так быстро, что только кончики волос мелькнули, как кончики крыльев. Я выглянул, вижу, она в домашнем побежала, не переоделась:
– Ты куда понеслась-то? Стряслось что? – только и успел я крикнуть ей в спину.
– Там… Вася… Ох, Ю-Юшка, потом расскажу! – даже не взглянула и исчезла внизу.
Через несколько секунд стукнула входная дверь. Надо же, как несётся, на ходу, на улице одеваться будет. «Вася», ишь ты… Я почувствовал что-то такое, что-то, чего не знал никогда раньше. Что это, почему мне нехорошо от того, что Маюшка побежала к своему приятелю? Что такого? Какой противный сегодня день!..
Я подошёл к шкафу, что надеть-то… Чёрт, позвонить вначале надо, а то собираюсь, а может там никто не ждёт меня.
Нет, ещё пока ждёт и даже обрадовалась. Ох, лучше бы послала. Похоже, я сегодня сам не знаю, чего хочу…
Ёлка необыкновенно красивая сегодня, как никогда. Хорошо, что такая высоченная, под четырёхметровый потолок, как мечта из детства. И игрушки ребята развесили здорово. В этом году мы с Маюшкой забыли по нашей с ней традиции новых игрушек купить, всегда покупали, с тех пор как ей исполнилось пять, а в этот год… как же это я забыл? Нехорошо как-то. В каком классе Маюша? В восьмом? Или уже в девятом?
На заводе план выполнили на семьдесят восемь процентов, подводят поставщики, как ни ругался я, каких не отправлял пройдох-снабженцев к ним, какими только обещаниями взаимозачётов не обольщал, вплоть до личной заинтересованности, но они так и не пошли навстречу. Тринадцатая зарплата повисла в воздухе. А премии вообще сорвались и это перед Новым годом. Пришлось выдать из резервов…
– О, вы уже чистите картошку?
Лида зашла на кухню, потянулась за фартуком. Стройная талия, красивая грудь, волосы блестят. Она всегда радует глаз, я люблю её уже за это: приходишь домой и видишь вот такую Лиду…
– Покемарить бы перед Новогодней ночью, – сказал я, взглянув на неё. Лида не ответила взглядом, только улыбнулась.
– Майя уходит? – Лида спросила Татьяну Павловну.
– Ушла уже, – это Илья заглянул в проём, тоже уже готовый к выходу, только куртку застегнёт.
Всегда о Майе знает больше, чем мы все. Они там наверху давным-давно живут своей отдельной от нас жизнью. Я о том, что они вместе катаются на мотоциклетные рокерские сборища, узнал только этой осенью, и то, увидев мотоциклетный шлем у Маюши под мышкой, когда она входила в дом. Она с удивлением заявила, что с тех пор, как Илья вернулся после института, редкие выходные они не бывают на этих сомнительных собраниях.











