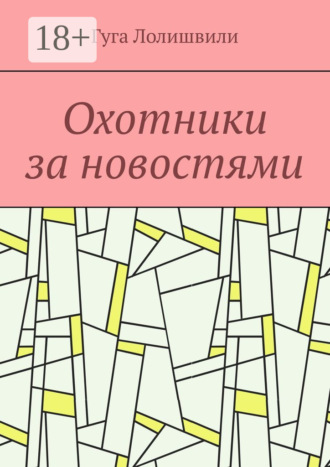
Полная версия
Охотники за новостями
Вселенная жила своей жизнью – где-то пили чай с баранками, а где-то взрывались звёзды, всё было comme il faut и сыроватые простыни, плоские подушки, мерное покачивание вагона под перестук колёс – всё укладывалось в порядок вещей. Хаос танцевал с Гармонией, время сливалось с пространством…
В окне мелькал жёлтый свет придорожных фонарей, в котором виднелись размытые неясные контуры строений и деревьев, тонущих в темноте. Я сонно глядел на них зачем то борясь с искушением закрыть глаза, мне казалось, что быстро заснув, я пропущу что-то важное, какой то жизненный фрагмент, которого потом не вернуть и которого мне будет очень не хватать… Вот поезд замедлил ход и со скрипом остановился. В окно вплыло здание небольшого вокзала с часами и названием станции, в котором не хватало последней буквы. Я попытался его прочитать, но глаза сами собой закрылись.
Хорошо проснуться в залитом солнцем купе. Повсюду скользят яркие блики, они вспыхивают на никелированных полочках и на рукоятке двери, пробегают по столу и по лицам сладко спящих друзей улыбающихся во сне. Вагон не раскачивает, не слышно перестука колёс, а за окном живёт своей жизнью большая станция, оттуда доносятся – хриплые крики носильщиков, шутки встречающих, брань, свистки…
Я проснулся от холода. В купе было пасмурно и зябко. На столике лежала газета с остатками вчерашнего ужина. С верхней полки доносился лёгкий стук барабанных палочек – там стучал зубами спящий Тенгиз. Ярусом ниже лежал, с головой закутанный в бумажное одеяло, Вигнанский.
На ноги одеяла не хватило и из кокона торчали босые пятки.
Я выглянул в окно, посмотреть на станцию, но обнаружил лишь бурую, набухшую от дождя степь, поросшую чахлыми кустиками. Словом передо мной раскинулся самый унылый пейзаж какой только можно себе не пожелать увидеть спросонья. Решив, что друзьям тоже необходимо срочно увидеть мокрую степь, я оттянул, удерживаемую в исходном положении пружиной, сетчатую полочку и отпустил её. Она громко стукнула по стене, что вызвало недовольное шевеление и ворчание на обоих ярусах.
За одеванием и умыванием мы прибыли в Баку. Состав малым ходом прошел последние сотни метров и триумфально остановился там где ему было положено.
Нами было решено оставить вещи в камере хранения вокзала и побродить по городу налегке. Список мероприятий предусматривал бритьё, обед и прогулку по набережной Каспия.
Александр Дюма, проезжавший Баку по дороге в Тифлис в конце пятидесятых годов девятнадцатого века, оставил несколько интересных воспоминаний об этом городе. Вот одно из них:
«Скоро Баку предстал перед нами во всей своей красе; мы как будто сходили с неба.
На первый взгляд есть как будто два Баку: Баку белый и Баку чёрный.
Белый Баку-предместье расположенное вне города, -почти целиком застроилось с того времени, как Баку стал принадлежать русским.
Чёрный Баку, – это старый Баку, персидский город, местопребывание ханов, окружённый стенами менее прекрасными, менее живописными, чем стены Дербента, но, впрочем, вполне характерными.
Разумеется все эти стены воздвигнуты против холодного оружия, а не против артиллерии.
Посреди города красовались дворец ханов, разрушенный минарет, старая мечеть и Девичья Башня, подножие которой омывается морем.»
По этому отрывку трудно судить о том, насколько понравился город автору «Королевы Марго», лично нам Баку очень понравился, особенно, его старая часть. Центр был просто великолепен. Смешение европейского и азиатского стилей, древние стены напомили другие строки А. Дюма:
«Въезжая в Баку думаешь, что попадаешь в одну из самых неприступных средневековых крепостей. Тройные стены имеют столь узкий проход, что приходится отпрягать пристяжных лошадей тройки и пустить их гуськом. Проехав через северные ворота, вы очутились на площади, где архитектура домов тотчас же выдаёт присутствие европейцев. Христианская церковь возвышается на первом плане площади…»
Пристяжных лошадей у нас не имелось так, что отпрягать и пускать гуськом было к сожалению некого. Разочарованные этим, мы отправились обедать. Приют нашли в ресторане какой то гостиницы в центре города.
В памяти на всю жизнь остались два образа – меню, в котором имелось одно только блюдо, жареная стерлядь (после изобилия тбилисских ресторанов нам это обстоятельство показалось более, чем странным) и невероятная для того времени цена в 100 рублей которую с нас попытались «заломить» за три порции. Вероятно причина была в том, что мы прибыли в заведение небритыми и пешим ходом. Нагрянь мы на лошадях нас приняли бы с большими почестями и подали другое меню. В Грузии меньше внимания обращали на подобные вещи и мы привыкли к более высокому уровню общепитской демократии.
Оскорблённый таким обращением Вигнанский, резво запрыгал перед метрдотелем, размахивая удостоверением и рьяно призывая нас с Тенгизом в свидетели, громко объяснял, что он корреспондент самой известной в мире газеты «Кавказ» и, что никому кто пытается, «надуть» такую шишку не поздоровится.
Пожилой вышколенный метрдотель внимательно слушал его, а потом ослепительно улыбнулся, пустив золотым зубом солнечных зайчиков и примирительно сказал:
– Три рыба – сто рублей? Нехорошо, ай-ай-ай! Наверное Вагиф ошибся да.
После этого он тяжело вздохнул, а нам принесли счёт на 60 рублей. Вигнанский побагровел и запрыгал перед метром во второй раз.
Тот терпеливо прослушал всю пластинку до конца и опять очень удивился:
– Три рыба – шестьдесят рублей? Нехорошо, ай-яй-яй. Наверное Вагиф опять ошибся да. После этого он вздохнул во второй раз.
Счёт унесли и принесли другой на сорок рублей.
Вигнанский погрустнел, но скакать больше не стал и мы, заплатив, отправились восвояси.
На вокзале перед отъездом мы совершили три дела – заели сторублёвую стерлядь мороженым, побрились в привокзальной парикмахерской и сделали первые шаги в изучении азербайджанского языка – мороженое – дондурма, парикмахерская – берберханы, касса – касасы.
Вечер застал нас в купе поезда уносившего берегом Каспийского моря, на север, в направлении Дагестана. Вагон опять заливало тусклое канареечное электричество, но от этого уже не так щемило животы. Время брало своё и хандра потеряла пронзительность, её разбавили пережитые за день впечатления так, что мы глядели в окно с осторожным оптимизмом. Железнодорожный состав, со знанием дела перестукивал литыми колёсами. Сверху на Каспий театральным занавесом опускались синие сумерки. Шло двадцать второе декабря 1990 года. В торговых центрах стран капитализми, на который наша новейшая история начинала брать курс, царила предрождественская суета.
ГЛАВА 8
В Махачкале зябко. Ветер и мокрый снег в тот день заключили союз и превратили столицу Дагестана в царство плохой погоды.
Подгоняемые в спину порывами ветра несущего легионы полукапелек – полуснежинок, мы прошагали узким фронтом, выискивая проходы в слякоти центральной улицы и скрылись в гостинице «Ленинград»…
За окном над крышами незнакомого города тоскливо выл ветер. Где-то нараспев читали молитву. Мы долго лежали на кроватях, прислушиваясь к ветру и молитве. Никто не решался брать на себя инициатиы. Ветер налетал на гостиницу резкими порывами, выл и свистел запутавшись в проводах и выбираясь из проводов и закоулков коммуникацмй крыши. Такое поведение гасило весь наш объединённый энтузиазм и мы хранили молчание.
Самыми слабыми нервы оказались у Мишеля:
«Ну я пошёл?» – неуверенно вопросил он.
Не дождавшись комментариев он сел и принялся натягивать ботинки. Мы с Тенгизом внимательно следили за ним.
Вигнанский взял в руки левый ботинок, внимательно его осмотрел со всех сторон, затем поставил на пол и взялся было за правый, но почему то передумал, вернулся к левому и принялся его надевать.
Он очень долго возился, подправлял обувь, осматривал, как она сидит на ногах, тщательно подтягивал шнурки.
Наконец он исчерпал все возможные комбинации действий, встал и с несчастным видом повторил: «Ну я пошёл?»
Не дождавшись ответа, Мишка ушёл, укоризненно топая ботинками и хлопнув дверью. В этом стуке прозвучал такой неподдельный упрёк, что у меня ещё сильнее заныл живот. За окном по-прежнему свистел ветер, за стенкой нараспев молились и не имелось никаких предпосылок считать, что эти обстоятельства вскоре изменятся.
Я сел и принялся натягивать ботинки. Процедура обувания становилась для нас чем-то вроде церемониального танца какой исполняли некоторые народности собираясь всем племенем на охоту.
Тенгиз внимательно следил за тем, как ловко я управляюсь со шснурками.
«Вставай, студент, – торжественно обратился я к нему, когда дело было сделано, – Надевай ботинки. Пришла твоя пора собирать фольклор. Или ты думаешь, что не за этим сюда приехал?».
Пока Тенгиз исполнял свой танец, я вышел из номера и направился к дежурной по этажу. Мне давно известен один секрет – лучшие справочные бюро в гостиницах незнакомых приезжим городов, это дежурные по этажам. Они привыкли к самым необычным вопросам постояльцев и у них, как правило, имеются на них ответы. Но, в этом деле имеются свои тонкости, чтобы получить ответы, нельзя проявлять интерес и рубить сплеча. Советский гостиничный персонал презирал прямо поставленные вопросы с такой первородной силой, что вытянуть нужные сведения можно было лишь при помощи уловок, фокусов, ужимок и ловушек.
Несмотря на то, что дежурным скучно за стойками и тянет поговорить, им не хочется болтать со всеми подряд. Улавливаете? В этом вся соль! Гостиничный персонал не склонен разговаривать с тем, кто хочет что-то выпытать. Он замыкается, начинает отвечать односложно, притворяется, что страшно занят и пиши пропало. Нет! Дежурная по этажу стремится поговорить как раз с тем, кто этого не хочет. Вся хитрость заключается в том, чтобы подобрать правильную наживку и ловко забросить её.
Карпа, к примеру, можно словить на хлебный мякиш. А вот форель или, скажем, осётр на хлебный мякиш не клюнут ни за какие коврижки. А на червя клюнут. Но клюнут только в том случае если будут твёрдо уверены, что тебе этого не нужно. Но если у них появится малейшее подозрение на твой счёт, то можешь сразу сматывать удочки. Так и дежурные по этажам. С ними нужно быть начеку.
Мне требовалось узнать, где обитают неформальные объединения. Я медленно, словно думая о чём-то своём, приблизился к дежурной и сосредоточившись на окне за её спиной задумчиво пробормотал: «Опять снег пошёл. А у нас, совсем, тепло».
«У нас» – тот самый червяк, которого я насадил на крючок.
– Где у вас? – немедленно «клюнула» дежурная.
Я сделал вид, что только сейчас её увидел:
– А я вас и не заметил! Задумался. У нас это в Тбилиси.
Дежурная взяла наживку так хорошо, что мой поплавок, бешено, заплясал а воде, распугав стрекоз и разогнав в стороны ряску.
– Так вы из Тбилиси? Ого! А у меня там двоюродная сестра живёт. В прошлом году мы к ним ездили в гости и нам очень понравилось!
– Сейчас у нас неспокойно, появились всякие неформальные движения и всё такое, – направил, я разговор в нужное мне русло.
– А где сегодня спокойно? И у нас создаются всякие движения.
– Не может быть!
– Точно вам говорю! Вон в Институте языка, целую партию образовали, кажется социал-демократическую, я в этом не очень разбираюсь. Уже и в газетах про них писали.
– В Институте языка? Знаю! Большое такое здание, из красного кирпича, напротив вокзала.
– Да нет, это в другом районе, – на улице Маяковского. Туда автобус номер четыре идёт. Но это не важно! Вы только послушайте, что наш директор на собрании сказал.
Дежурная довольная тем, что заполучила покладистого слушателя, приготовилась подробно рассказывать о том, что именно сказал директор, кто при этом присутствовал и кто как на это реагировал, но тут на сцене появился обувшийся Тенгиз, и я не узнал, что обычно говорят директора махачкалинских гостиниц на собраниях трудовых коллективов, относительно неформального движения.
– Ну и куда мы сейчас? – спросил Тенгиз, когда мы вышли на улицу.
– Как куда? В Институт языка, разумеется.
– А на кой нам Институт языка?
– Мог бы и сам догадаться.
– Неформалы?
– Точно.
– А, где это? Надо у кого-нибудь спросить.
– Не надо. Садимся на автобус номер четыре, едем до улицы Маяковского, а вот там, если что спросим.
– Ты, что здесь уже бывал?
– Нет.
– А откуда…
Пойдём скорей. В автобусе я тебе расскажу, как это делается.
Светофор открыл свой зелёный глаз, и мы перешли улицу. Под ногами чавкало серое месиво. Где-то на этих улицах, по серому месиву шлёпал Вигнанский, сжимая в кармане список кавказских языков на которые ему предстояло перевести предложение Кавказ наш общий дом.
ГЛАВА 9
Институт языка не оправдал ожиданий. Никаких социал—демократов там не было и в помине. Они завелись в не в Институте языка, а в Институте литературы.
Это заведение находилось на другом конце города. Мы с Тенгизом решили разделиться: он поехал обратно в гостиницу, чтобы поджидать там Вигнанского, который мог вернуться с новостями для нас.
По уговору он должен был узнавать всё, что можно о партиях и движениях, а мы хватать под локти всякого местного полиглота и совать ему под нос бумажку с лозунгом: «Кавказ наш общий дом».
Итак, Тенгиз вернулся в гостиницу, а я продолжил идти по следу неформалов. Но след на этот раз оказался верным и привёл меня туда куда было нужно. Спустя некоторое время, замёрзший и уставший я сидел
в кабинете на третьем этаже дагестанского Института литературы, перед членом правления социал-демократической партии. Этого достойного человека звали Алексей Николаевич и он проявил себя с самой хорошей стороны, во-первых напоил меня горячим чаем, во-вторых обстоятельно ввёл в курс местной политической обстановки.
Институты многопартийности, которую тогда называли неформальным движением, только зарождалось и было совершенно неясно, что за зверь такой пробуждается от семидесятилетней спячки. В условиях, когда в кавказском винном бочонке забродил дух сепаратизма в ядовитых испарениях которого угадывались контуры грузино-южноосетинского конфликта, а самые дальновидные прогнозировали проблемы в Абхазии, информация о реальных раскладах в регионе представляла огромный интерес.
Начались «трения» между осетинами и ингушами из-за спорных приграничных территорий. Всегда тлевшая как зола в плохо затушенном костре, вражда между казаками и чеченцами, исторические корни которой уходят в прошлые века, тоже грозила новым пожаром – произошли несколько вооружённых столкновений и обе стороны извлекали из фамильных сундуков дедовские сабли и кинжалы.
Я расспрашивал Алексея Николаевича о программных целях парии, её численности, позиции по вопросу государственного устройства Дагестана. Затем принялся задавать вопросы относительно общей политической обстановки в автономии, других движениях. Собеседник неплохо анализировал, не впадал в крайности и умело оперировал имевщейся у него информацией. Он сделал ряд оказавшимися впоследствии верными прогнозов: полный распад Союза, новую русско-чеченскую войну и то, что значительно русифицированный Дагестан останется частью Российской Федерации. Словом, я получил исчерпывающую информацию и унёс из Института литературы полностью исписанный блокнот.
Теперь следовало встретиться с представителем официальных властей, чтобы материал получился сбалансированным и показывал противоречия (либо их отсутствие) между двумя ветвями – правительством и неформалами.
В гостиничном номере было уютно. Вигнанский с Аблотия развалились на кроватях и вели спор о том какой соус правильней подавать к жаркому – зелёную подливку из алычи или бордовую из слив сорта «Ткемали».
Эта пошлая сцена вызвала волну раздражения вполне оправданную для человека прошагавшего полдня под снегом и ветром. Вид лежащих без дела друзей вообще вызывает дискомфорт, а тут я испытал чувства преданного коварными партнёрами золотоискателя, весь день, вымывавшего крупинки золота из речного песка в глуши Юкона или Аляски.
– Всё валяетесь как ленивые скоты в хлеву? – поспешил я внести ясность в ситуацию.
– Смотри какой он злой! Ха-ха! Скучно, небось, по лужам за неформалами прыгать, – ответил Вигнанский, и они довольно «заржали». В их хохоте так явственно слышалось лошадиное: «иго-го!», что стало тошно. Я открыл было рот, чтобы ответить как следует, но нечеловеческим усилием воли сдержал себя и остаюсь холоден и вежлив:
«Даже в неоплодотворённом курином яйце побольше интеллекта, чем в разговаривающих ослиных задницах на ваших кривых шеях».
Они опять восторженно закудахтали. Надрыгав ногами, Вигнанский сделал серьёзное заявление:
«Завтра иду к замминистру внутренних дел. Думал, что тебя это тоже заинтересует, но вижу, что ошибся. Нельзя же вести человека с таким лексиконом в это заведение».
Я выудил из кармана блокнот, продемонстрировал страницу, на которой на пяти или шести языках было написано: «Кавказ наш общий дом» и сказал:
– Вот, известная тебе фразочка от мастеров перевода. Я тоже думал, что тебя это заинтересует, и тоже вижу, что ошибался. Нельзя же помогать неблагодарному прохвосту, даже если и сидел с ним, когда-то за одной партой.
– Я имел в виду, что замминистр это слишком мелко. С тобой нужно идти не меньше, чем к самому министру.
– Ну тогда забирай листок. По-правде говоря, я имел в виду не тебя, когда говорил про разговаривающую ослиную задницу.
Вигнанский косо поглядел на сразу поскучневшего Тенгиза и подвёл итог дискуссии:
– Я так и думал. В общем завтра к десяти утра нам надо быть в министерстве.
* * *
Ровно в десять утра мы в приёмной.
«Замминистра» не заставил нас долго ждать, – в 1990 году, заезжие журналисты не частые гости автономных республик и областей. Беседа заняла около часа и её результатом стал ещё один исписанный блокнот. На этот раз я получил исчерпывающую информацию о криминогеной обстановке плюс размышленмя представителя МВД о политических событиях. Но заглянуть в будущее силовику не удалось – он не верил в распад СССР и полагал, что всё останется по-прежнему, вроде как «перебесятся и успокоятся».
В любом случае, я был доволен. Материала имелось достаточно, чтобы «слепить» из него информационный обзор социально-политической обстановки в Дагестане. Но у Вигнанского ещё оставались кое-какие дела, которые он рассчитывал завершить в тот же день. Было решено уехать из Махачкалы в Грозный утром следующего дня.
Хотя католиков среди нас не было, вечером мы накрыли в номере стол по случаю Рождества. Главное блюдо – большая банка китайской тушёнки «Великая стена». Тушёнка оказалась первосортной и превосходно запивалась душистой, сладковатой «Хванчкарой» прихваченной из Тбилиси.
«Вот ведь счастливый народ китайцы», – изрек Тенгиз набив рот и прикрыв глаза от избытка чувств. Мы вопросительно посмотрели на него. «Такую тушёнку едят!», – разъяснил он свою нехитрую мысль. Мы не стали спорить. Полки продуктовых магазинов тогды были пусты, это делало людей неприхоливыми и они с радостью обходились тем, что имели.
ГЛАВА 10
Поезд Махачкала – Грозный отправлялся в 11 часов. Отсутствие отпечатков обуви на загустевшей за ночь слякоти перед вокзальной кассой говорило о том, что во всей Махачкале никому кроме нас, в тот день не требовалось выезжать в Грозный.
– Сколько нам ехать? —поинтересовался Вигнанский деловито потирая руки.
– С полдня, кажется, или даже меньше.
– То есть, несколько часов, да?
– Вроде того.
– А стоит ли нам тратиться на билеты? Всё равно в поезде будет не больше народу, чем сейчас перед кассой.
Выбрав вагон в котором не заметно проводника, мы удобно устроились в одном из пустующих купе. До самого Грозного нас никто не побеспокоил.
В Чечено-Ингушской АССР неспокойно. Конфликты ингушей с осетинами, и чеченцев с казаками становились всё острее. За несколько дней до нашего приезда сюда, прозвучали первые выстрелы – застрелили одного из мелких атаманов и станицы начали вооружаться.
О причинах давней вражды казаков и чеченцев, подробно говорить здесь, нужды нет. Интересующихся отсылаем к сочинению А. Дюма «Кавказ», роману Л. Толстого «Казаки», а также хроникам Кавказской войны 1817 – 64 гг, в результате которой к Россиии были присоединены Чечня, Дагестан и часть Северо – Западного Кавказа, и в которой активную роль играли казацкие части.
Внимательное чтение исторических материалов меняет устоявшиеся стереотипы. К примеру, тех же чеченцев считают в России «историческими головорезами», но кто сегодня помнит о том, что во время Кавказской войны за каждую отрубленную голову абрека (непокорившегося России горца) платилось вознаграждение в десять рублей.
А. Дюма в своём (уже упоминавшемся) сочинении «Кавказ» описывает как стал свидетелем выдачи подполковником русской армии расписки на двадцать рублей за два человеческих уха.
Князь Мирский «питавший, разумеется отвращение к этим кровавым трофеям, счёл достаточным, чтобы доставляли только правое ухо» – объясняет Дюма.
При этом следует иметь в виду, что сам Дюма путешествовал в качестве российского гостя, с почётом принимался высокопоставленными чиновниками и военачальниками и его взгляд на вещи совпадал с их взглядами. В антироссийских настроениях его не заподозришь, скорее наоборот. Об ушах и прочих страстях он упоминает лишь по инерции, как истый романист, который, что увидел, о том и написал.
Что же касается напряжения между ингушами и осетинами, то здесь яблоком раздора стали территории прежде заселённые ингушами. После того, как в конце второй мировой войны этот народ был депортирован, их дома заняли осетины, и территории вошли в состав Сев. Осетинской АССР. Теперь, когда, советская власть пошатнулась, ингуши предъявили права на то, что когда-то действительно принадлежало им.
На фоне всех этих, висящих на стене ружей, неформальные организации Чечено-Ингушетии подняли вопрос о выходе из состава СССР и России. Кроме того Чечено-Ингушетия была готова разделиться на две части – Чечню и Ингушетию.
В Грозном мы «стали на постой» в цирковой гостинице «Арена». Название это погружало в детские воспоминания и окутывало воображаемым запахом арены – смешанным ароматом опилок и конского навоза. В голове всплывали образы – упитанные цирковые лошади с мощными крупами, мчались по кругу, вздымая копытами пыль и опилки. Круг был маленьким, но лошади уверенно нарезали его раз за разом, не проявляя ни малейших признаков головокружения. В центре арены размеренно щёлкал бич, а на спине головного скакуна, как вишенка на торте сидела нарядная наездница. Её литые гимнастические ноги с крутыми бёдрами, туго обтянутые серебрянными колготками и притягивавшие восхищённые взоры мужской аудитории, то выпрямлялись – наездница вставала во весь рост на несущемся по кругу коне, то складывались, как складные перочинные ножи – наездница приземлялась обратно в седло…
Мы заняли номер на втором этаже и принялись раскидывать мозгами с чего и как начинать грозненский этап. Планы имели размах, но единственное, чем мы располагали была бумажка с адресом местной молодёжной газеты. Не имея выбора, иы начали разматывать катушку с этого конца.
Провинциальные советские города, все эти районные и областные центры, столицы АО и АР, в большинстве своём для приезжего были неинтересны и скучны. Чтобы жить нескучно, провинциальному городу требовалось иметь статус морского курорта. Такое звание разкрашивало сочными красками серость процинциальной среды.
Морской пляж – длинная теряющаяся в вечерних сумерках полоска бело-розовой гальки на которой тут и там растянуты для просушки рыболовные сети, издающие резкий запах тины (мечтательным одиноким блондинкам особо далеко забредать по гальке не рекомендовалось, для блондинок кавказские сумерки были полны сюрпризов и неожиданностей).
Жизнь била ключом, яркие южные цветы освежали красными и синими островками буйную субтропическую зелень, в просветах которой виднелись стенды-витрины со свежими номерами советских газет. Курортники жизнерадостно шагали на пляж мимо стендов с новостями. Их опьянённые морским воздухом головы, занимали совершенно другие мысли. Нужно было многое успеть, а отпуск так быстро таял на солнце! Отпускной народ жизнерадостно тащил сетчатые кошёлки с персиками, сливами или арбузами, слюнявил газетные полоски и лепил их на носы, чтобы не обгорали, по тюленьи усеивал тысячами разгорячённых тел беловато-розовую гальку пляжа. Море лизало курортникам пятки и смывало с них городскую пыль.
Ну а мелкие советские городки удалённые от моря вели совершенно другую жизнь, такую пыльную и унылую, что про неё и писать не хочется.

