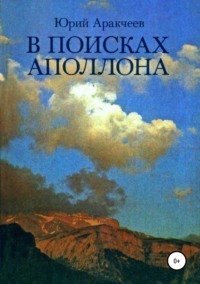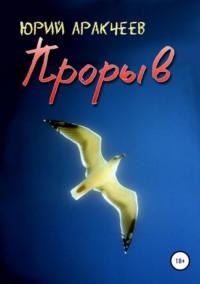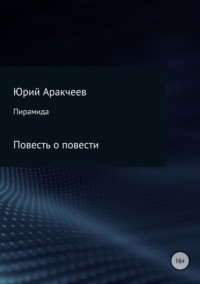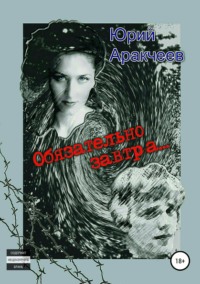полная версия
полная версияИбо не ведают, что творят
Я вдруг вспомнил, что в таких случаях мне иногда особенно помогают чьи-нибудь стихи – как допинг. Как маршевый ритм. Но сейчас даже на стихи не было сил. Абсолютно. Даже в мыслях.
Окружающего не существовало. Прошлого тоже. Впереди маячила грязно-желтая постылая дорога, и лицо щипало от пота. Я уже не говорю, о том, что веревка не оставляла приятного ощущения. Вскоре пришло избавление от Бориса. Но ненадолго. Так мы протащились километров шесть. Оставалось приблизительно два.
Впереди в полутора километрах – берег. Слева по берегу – наша деревня. Дорога отклоняется вправо, к рыбзаводу. Если идти напрямик, мы сократим путь. Борис сошел с дороги и попробовал наст. Держит. Мы пошли целиной. Вскоре наст начал проваливаться. Ненавистные санки зарывались полозьями в следы от ног и заваливались то на один бок, то на другой. Мы менялись через каждые двести шагов. Потом через сто. Ноги стали совсем непослушными. Они нахально отказывались двигаться. Хотелось переставлять их при помощи рук. Я сказал это Борису. Он безнадежно молчал и даже не улыбнулся. Он только шумно дышал, словно лошадь, берущая подъем. Он, по своей теории, дышал носом. Я шел сзади по готовым следам и чувствовал себя, как утопающий, которому перед смертью удалось еще глотнуть воздуха пополам с водой. Но всё же в голове у меня шевельнулось ехидство.
– Знаешь, Борь, – прошелестел я, – к тебе сейчас подходит любое сравнение, но только не с вихрем.
Это доконало Бориса. Он упал. И стал хватать ртом мокрый снег. Мне стало жалко своего друга. Я хотел его поднять, но упал сам. Лежать было лучше, чем везти санки. Но через некоторое время вода пропитала одежду и добралась до измученного тела. Борис встал, нехорошо засмеялся и помог мне встать. Была моя очередь.
До берега оставалось метров триста. Наст опять то держал, то вдруг ломался и, теряя равновесие, приходилось иногда падать. Это было совсем ни к чему, потому что каждое падение, во-первых, отнимало силы, а во-вторых, парализовало волю. Предательство какое-то, ей-богу. Борис шел сзади и поправлял мешок, который теперь постоянно сползал на сторону. Борису было немногим лучше, чем мне. Потом он повез. И мне стало немногим лучше, чем Борису. Даже мысленно я перестал теперь ругать того, кто выдумал эти нелепые слова: «Своя ноша не тянет». Ненависть тоже отнимает силы. Тогда я подумал, что Борису будет легче, если к его усилиям я присоединю свою волю.
– Но! – сказал я, и хотел, как извозчик, причмокнуть языком.
Но у меня не хватило на это сил. И я еще раз сказал, но теперь более протяжно:
– Ннно…
К несчастью, мои слова произвели обратное действие. Борис снова упал. И уже не хотел вставать.
– Но, – коротко и вяло повторил я на всякий случай.
Борис не двигался. Он даже закрыл глаза. Я испугался и сказал:
– Давай, я повезу.
Борис отполз от санок и предоставил мне возможность продемонстрировать свою силу. Вернее, бессилие. Потом он поднялся и пошел за мной. Если можно так громко выразиться – «пошел». Когда я упал, солировать опять стал Борис.
Так мы дотащились до берега. Но теперь предстоял штурм откоса. Поняв это, мы не упали в обморок лишь потому, что у нас не хватало сил удивляться чему-нибудь. Мы немножко отдохнули. Потом я опрометчиво предложил Борису свои услуги, то есть, сказал, что сам втащу санки на берег. Я хотел пострадать за вчерашнее – за то, что так глупо гулял с дамой и даже не попытался поцеловать ее на прощанье. А еще, вероятно, во мне заговорила кровь моих мужественных предков славян. Жалко, что в эту минуту меня не видит отец, подумал я гордо. Но у меня ничего не вышло. Не я тащил санки вверх, а санки тянули меня вниз. Мое благородство оказалось мне не по средствам. Хорошо, что в эту минуту меня не видел отец. Хорошо, кстати, что он и вчера меня не видел.
Тогда мы решили развязать воз. Борис оказался не менее благородным, чем я. К тому же он ведь занимался боксом. За всё надо расплачиваться. Я помог ему взвалить мешок на спину. Мне досталось везти санки. На них был чемодан с удочками и гора нашей одежды, которая вырастала по мере нашего приближения к берегу. Пот и тающий снег заливали глаза, и ничего не было видно. Санки цеплялись за что-то. Борис забрался первым и, глядя на меня с высоты своего положения, смеялся. Он потом объяснил, что это была его месть за «нно».
Дома мы пили чай и обедали. Потом, не разгибаясь, совершили переход от стола к кровати. Я понял еще одну истину. Счастье человека в том, что он имеет возможность отдыхать. И еще счастье, что человек – всё-таки живой организм, и этот организм умеет восстанавливаться сам по себе – спасибо тебе, наша природа-мать. Всякая истина проста, это правда. И всё просто. Особенно, если есть возможность уснуть мгновенно и лежа в кровати.
…А утром – привычные толчки Бориса, надоевшая картошка и тусклый рассвет».
(Из повести «На Рыбинском море», 1960 г.)
Первая публикация
Поступление на заочное отделение института в те времена могло быть только при условии, что ты принесешь справку с места работы – в разгаре была хрущевская «борьба с тунеядством». А я и на самом деле тогда работал – на автомобильном заводе станочником. Не помню уже каким образом познакомился с сотрудником заводской многотиражной газеты. Звали его Миша Румер. Узнав, что я студент первого курса Литературного института, он восхитился (это ведь была и его мечта) и попросил какой-нибудь из моих небольших рассказов, «прошедших творческий конкурс в Литинституте», для опубликования в своей заводской газете. Я дал на выбор несколько, и он выбрал «Зимнюю сказку».
Тираж газетки был маленький, гонорара, естественно, не платили, но я ждал с замиранием сердца: напечатают или нет?
Напечатали! Впервые в жизни я держал в руках отпечатанный в типографии свой текст, в котором была тщательно выверена мною каждая фраза, каждое слово. Его, слава Богу, не редактировали, и я видел: в рассказе моем сохранилась музыка – музыка слов, передающих музыку жизни – морозное утро, восход солнца, свежий пьянящий воздух, лунка – волшебное окно в подводный мир, торжество природы! В типографском тексте эта музыка не исчезла!
Мои родственники и знакомые, наконец-то, тоже отчасти зауважали меня – и за поступление в Литинститут, и за публикацию в многотиражке. Типографски напечатанный текст магически действует на людей… А Миша Румер надолго стал одним из моих близких друзей.
Но на центральные газеты и журналы мое поступление в институт не подействовало ничуть. Мне по-прежнему все возвращали. Конечно, я не прочь был написать что-то такое, что пробило бы стену непонимания, заставило бы их понять меня – увидеть, услышать! Но как? Изменять своим принципам мне, естественно, даже не приходило в голову – как ни мучился я постоянным непониманием окружающих, но все же по-прежнему считал свои рассказы хорошими, а себя правым. Однако выбрать другую, более «серьезную», что ли, с их точки зрения тему никак не получалось. По-настоящему писать можно только о том, что любишь (или наоборот ненавидишь), что волнует и что хорошо знаешь. А я пока любил по-настоящему только природу – рыбную ловлю, охоту – и красоту (в частности, женскую), а знал все-таки еще очень мало. И никого пока что не ненавидел. Что ж, вся жизнь впереди. Будем учиться. И – жить.
«Обязательно завтра»
В одном из молодежных журналов одобрили мой рассказ-очерк о рыбаке с Центрального рынка («Алексей»), но опубликовать его не удавалось никак. Заведующий отделом публицистики и очерка, Артем Захарович Анфиногенов, которому «Алексей» понравился, сказал, что дважды предлагал на редколлегии его опубликовать, но каждый раз отклоняли. Потому якобы, что Алексей крепко «закладывал» – о чем я честно написал, – а его доброта и любовь к жизни никак не могли реабилитировать «антисоциальное поведение».
Артем Захарович человек добрый, честный и совестливый, поэтому он, как бы пытаясь компенсировать неудачу, сделал мне предложение, от которого я был прямо-таки в восторге. Он предложил написать большой проблемный очерк «о преступности несовершеннолетних», которая в последнее время в нашей стране очень выросла. Причем главным образом речь должна была идти о преступлениях на половой почве – изнасилования и убийства. И от имени журнала мне была дана «зеленая улица» в комсомольские органы (вплоть до высшего молодежного органа – Центрального Комитета ВЛКСМ!), отделения милиции, прокуратуры, следственные изоляторы и даже тюрьмы. Вот это настоящая жизнь! Вот это ее глубины!
И я – ринулся. К этому времени я как раз ушел с завода и занялся запрещенной «предпринимательской деятельностью» – фотографировал детей в детских садах. И свободное время у меня было. Я составил список и чуть ли не каждый день, как на работу, ходил по перечисленным инстанциям и заведениям, собирая богатейший материал для своего очерка. Это было нелегко, но это было захватывающе интересно! О каких только уголовных делах я ни наслушался, с какими людьми ни встречался, в каких только местах ни побывал! Дважды посетил тюрьму, СИЗО, несколько раз заходил в камеры для «несовершеннолетних преступников», ребят, и дважды побывал в камерах, где в ожидании суда сидели даже не парни, а – несовершеннолетние девочки…
Но самое поразительное – и мистическое! – что в то же самое время в моей жизни начался очередной любовный роман, причем с девушкой (вернее – молодой женщиной), которая по сути могла быть кандидаткой в героини моего будущего очерка, хотя ей было уже 26. Но изнасиловали ее, когда ей было 15. Причем с подачи ее собственной матери. И последствия той трагедии были соответствующими…
«Собирались, как всегда, у меня. Антон обещал прийти с Костей и девушками часам к семи. Уже часов в пять я начал готовиться: стирал пыль со шкафа, письменного стола, тумбочки, потом принялся подметать пол.
С утра отгонял от себя мысли о вечере, что-то даже пытался сделать в курсовой работе, над которой сидел с понедельника. Но убираясь и подметая пол, ни о чем другом уже думать не мог. «Ерунда – успокаивал я сам себя, – ну что хорошего может получиться из нашей вечеринки? Неизвестно ведь, кто придет. Да и придут ли девчонки вообще?»
Выбросил мусор в помойное ведро, которое стояло в углу нашей коммунальной кухни, вернулся в комнату. Машинально глянул в окно. И увидел вдруг, что они уже идут по двору. А я даже не успел переодеться!
Поспешно выхвачена вешалка с костюмом из шкафа, натянута по-быстрому белая рубашка. И в этот момент раздается звонок в коридоре. Кто-то из соседей открывает дверь квартиры за меня.
Торопясь, завязываю галстук и слышу тяжелые шаги за дверью: первым, конечно же, идет Антон. Высовываюсь в коридор, впускаю в комнату Антона одного, прося остальных подождать, пока оденусь. Антон хохочет и оправдывается за слишком ранний приход. Наконец, верхняя пуговица рубашки под галстуком застегнута, надет пиджак, я распахиваю дверь и прошу всех входить.
Гости входят, в комнате тотчас становится людно, шумно. Антон знакомит меня со всеми поочереди, я, как всегда, не запоминаю имен, потому что нужно говорить свое. Помогаю девушкам снять пальто, принимаю шарфики, шапки. Они осматриваются и одна за другой подходят к зеркалу старинного бабушкиного трельяжа. А я сажусь на тахту, переводя дух.
В эти первые минуты все три девушки у зеркала кажутся мне удивительно красивыми, от них пахнет свежестью и духами, с ними в мою комнату входит праздник. Антон, высокий, коротко, современно стриженый, спортивный, чувствует себя, как всегда, хозяином, он что-то говорит громко, хохочет. О Косте я не раз слышал от Антона, но вижу его впервые. Он разочаровывает: невысокий, крепенький, смугловатый блондинчик, тихий… А девушки щебечут наперебой, и голоса их звучат, как музыка. Все словно светлеет вокруг, и даже выцветшие и кое-где поотставшие от стен обои в комнате становятся ярче.
– Олег, вот что! Мы не успели в магазин забежать. Развлеки девчонок пока, а мы с Костей мигом! – весело говорит Антон.
Шумя, топая, задевая то одно, то другое на пути своим мощным телом, Антон выходит, за ним тихо выскальзывает и Костя. А я остаюсь с девушками один. Напрягшись, собравшись внутренне, я встаю с тахты, прохаживаюсь по комнате, лихорадочно соображая, чем же мне их развлечь.
Одно имя запомнилось все-таки в сумбуре знакомств – Лора. Потому и запомнилось, что она сказала «Лора», а не «Лариса», хотя все звали ее Ларисой. Лора – первая, отроческая, самая-самая первая любовь, девочка одиннадцати лет. Это было в Лесной школе, и мучительное, неизжитое чувство осталось: медленная, тягучая, невыразимо прекрасная пытка, связанная и как будто почти не связанная с маленькой, живой черноволосой девчушкой. Милое, милое создание – где она сейчас?… Девушки с детства были для меня словно существа с других планет, таинственные и чудесные…
Теперь, когда после ухода ребят начинаю приходить в себя и осматриваться, сразу бросается в глаза, что Лора – это как раз и есть самая эффектная из девушек, можно даже сказать очень красивая: черноволосая, с большими голубыми глазами, вся какая-то яркая, даже резкая на первый взгляд. Но – лишь на первый. Потому что тут же видна в ней и внимательность, мягкость. Причесываясь у зеркала и осматриваясь, она, конечно, замечает и обои, и выщербленный кое-где пол, и старый расшатанный нелепый столик в углу… Бросает быстрый взгляд на меня и тут же улыбается. Сочувственно, но совсем не обидно.
Едва поправив прическу, с веселой озабоченностью Лора просит воды. Я тотчас иду на кухню, наливаю воду в стакан, приношу. Но она не пьет. Достает из сумочки букетик подснежников – крошечный белый букетик, стиснутый листьями ландышей, – бережно развязывает, распеленывает его, выбрасывает жесткие листья, набирает воду в рот, обрызгивает нежные цветочки, любуясь ими, заботливо опускает в стакан и ставит в центре стола.
– Это мне один парень на улице подарил, красивый… – говорит она, гордая, и смеется.
Я замечаю, что в глазах у нее почему-то печаль. Или мне только кажется?
Надо, надо их как-то развлечь! Я даю им ручной силомер, медицинский – это у нас в последнее время в моде. Они с визгами, возгласами поочереди сжимают его в своих ладошках, потом просят и меня. Я выжимаю много (как ни странно, я выжимал тогда больше Антона, хотя он на полголовы выше меня и значительно тяжелее).
Подруги Лоры несравнимо менее эффектны: одна молоденькая, лет двадцати, миленькая, но очень уж простенькая, другая – высокая, с меня ростом, лет тридцати, худая, с длинным носом и тяжелым, несоразмерно большим подбородком, застенчивая.
Лора подходит к радиоле, роется в пластинках и ставит не рок, не джаз, не что-то отвязное, быстрое, а – итальянского певца Джильи. Я внимательно смотрю на нее, и она отвечает мне веселым понимающим взглядом. Во мне словно бы разжимается что-то…
Наконец, ребята прибывают во всеоружии – бутылки выстраиваются на столе. Опять в комнате шумно. Долой Джильи – ставим веселую музыку! Начинаются привычные хлопоты по добыванию у соседей посуды, рюмок, Антон, как всегда по уговору, разыгрывает из себя тоже хозяина комнаты, ему это хорошо удается. Костя смазлив, галантен – типичный сердцеед: молчаливый, манерный, томный, с печальным, скучающим и как будто зовущим куда-то взглядом… Садимся за стол. Лора – между Антоном и Костей. За окнами уже стемнело, и мы включаем маленький, «интимный» свет, дурачимся, поочереди выдумываем тосты, бутылки быстро пустеют…»
(Роман «Обязательно завтра», 1965 г. и далее…)
Та вечеринка оказалась для меня исторической. Дело в том, что в конце ее мы в комнате остались втроем – Антон, я и Лора. Антон очень хотел, чтобы все у нас «получилось», однако мне это представлялось совершенно немыслимым. Дело в том, что я… влюбился. И почувствовал явный ответ от Лоры. И «втроем» было для меня совершенно исключено.
Влюбился я болезненно, как-то «по-достоевски», то есть в этой любви было больше жалости и сочувствия, чем любования, больше сумасшедшей похоти, чем святости и уважения – хотя и то, и другое было… Само знакомство с этой эффектной женщиной было ведь ненормальным.
К тому времени я хотя и с мучениями и сомнениями, но состоялся все-таки как мужчина – на моем «счету» было аж пять женщин. Но как-то не очень выразительно… И чувствовал я себя отнюдь не мачо. Приятель Антон потом упрекал меня, говорил, что в ту ночь у нас ничего не состоялось из-за меня, а для Лоры такое вовсе не внове, что для нее это раз плюнуть. Она, мол, бывает с кем попало и, скорее всего, за деньги. Но я не верил.
Для меня несравнимо важнее была наша таинственная, магическая близость, что возникла между мною и ею в тот вечер и ночь. И которая помешала тому, на что рассчитывал Антон.
И все шло параллельно. Я ездил по прокуратурам, милициям, тюрьмам, встречался со многими судьбами, которые казались мне просто чудовищными по степени свалившихся на людей несчастий… И – всего лишь три раза мы встречались с Лорой. Два раза были у меня – она отдалась мне в первый же раз, а потом и во второй. И было у нас нечто ошеломляющее – правда, ошеломляющее в основном для меня… Ничего подобного раньше у меня не бывало.
Да, всего встреч было лишь три, не считая знакомства на вечеринке, множества телефонных звонков и моих фантазий, страданий, снов, сочувствия и мучительного осознания невозможности как-то помочь ей в жизни.
«…Но вдруг я понял, какой могла бы быть жизнь. Словно занавеска на миг раздвинулась, и я глянул в окно. На ослепительный, залитый солнцем мир. С деревьями, птицами и травой. Радостный, свободный мир. Только на миг! Занавеска сдвинулась и закрыла… Пыльная, серая занавеска. Паутина. Я увидел свою убогую комнату и всю свою убогую, серую жизнь. Нашу жизнь.
А Лора вдруг начала рассказывать о себе. Много. Это был какой-то поток. Жалостный и тоскливый…
С 17-ти лет она фактически осталась одна. Отец бросил их и сошелся с другой, а мать беспробудно пила. Она пила и при отце, пьянки устраивались, когда Лора лежала в детской кроватке за занавеской. С 13-ти лет к ней уже приставали («Я рано сформировалась», – сказала она), а в 15 один мамин ухажёр ее изнасиловал. «Мне иногда кажется, что все мужчины скоты. К тебе это не относится, ты понимаешь, но вообще-то я не верю никому, ни одному человеку. Кругом одна ложь, я давно поняла. Все ненавидят друг друга. А ты… Ты какой-то особенный, но…»
– Что «но»? – тотчас вскинулся я.
– Да нет, не то, что ты думаешь, глупый. А просто ты такой же, как я, понимаешь? Неприспособленный.
Это было странно сказано, я не понял. Но не спрашивал. Я не был доволен собой. Ни в каком смысле. Что спрашивать? Мне опять было плохо. «Неприспособленный». Увы.
– Я, наверное, другая, не как все. Хочется по-человечески, а получается…
Так говорила она, а у меня ком стоял в горле. «Неприспособленный».
На работе к ней без конца пристает начальник. Не Костя, нет. Другой. К сожалению, он очень противен ей как мужчина («Знаешь, он такой толстый, потный»), и она никак не может заставить себя переспать с ним. А то бы… А то бы ее, может быть, перевели на лучшую должность с приличной зарплатой. Он ей обещал. Сейчас она получает восемьдесят, копейки. «У некоторых это запросто получается, а я никак…» – сказала она и вздохнула. «Злюсь на себя, а ничего не могу поделать. С кем другим куда ни шло, а с ним ну никак. Он открыто предлагает, понимаешь… хотя бы в рот – ну, ты понимаешь… – а я… Ну, ты понимаешь…» Живут с матерью вдвоем в однокомнатной квартире – не так давно получили, а то жили и подавно в коммуналке, в бараке, – мать по-прежнему пьет, «не просыхая». С мужем не сложилось потому, что у него тоже есть мать, которая ее, Лору, невзлюбила. «Женщины вообще меня плохо переносят» – сказала она и улыбнулась грустно…»
(Из романа «Обязательно завтра», 1965 г. и далее…)
Что-то около двух месяцев я прожил в горячечном любовном и «рабочем» чаду. И при всем при этом, посещая «инстанции», я ведь должен был соблюдать некий декор: корреспондент журнала (орган ЦК ВЛКСМ!), молодой писатель, студент Литературного института им. А.М.Горького! Не к лицу мне стенать и рвать на себе волосы от горячего сочувствия и к жертвам, да и к самим «маленьким преступникам», сплошь да рядом не осознававшими, что они делают. Нужно что-то существенное придумать, принимать какие-то меры…
Но еще, ко всему прочему, я ведь сам был в какой-то мере – с точки зрения официальной! – нарушителем закона, ибо в то время ушел с завода, официально нигде не числился и зарабатывал фотографированием детей в детских садах частным образом, то есть занимался «кустарным промыслом», что у нас было, запрещено.
Так что я, помимо прочего, вынужден был опасаться милиционеров, фининспекторов, работников ОБХСС… По законам того времени я ведь был «тунеядцем», и меня самого теоретически могли привлечь к суду, крупно оштрафовать, выслать из Москвы. Конечно, до такого вряд ли дошло бы, но формально могло!
Кстати, один раз меня все-таки замели – по доносу «коллеги», работавшего фотографом от официальной организации на ВДНХ. Меня отвели в отделение милиции, составили акт. Через некоторое время ко мне в коммуналку нагрянул фининспектор, но, увидев бедность обстановки, сжалился и сказал, чтобы я написал заявление: мол, прекратил заниматься «кустарным промыслом» и сейчас устраиваюсь на работу… Я, естественно, написал.
Но очерк таким, какой нужен был для журнала¸ я написать так и не смог. Зато я написал… роман! Свой первый роман, содержавший в первом варианте что-то около 250 страниц машинописного текста. Назвал его так: «Обязательно завтра».
То есть, в результате всех своих походов, встреч и переживаний в связи с порученным очерком я понял лживость и путаницу нашего существования, жестокость и невменяемость большинства «взрослых» людей, особенно «вышестоящих». Я увидел чудовищное переплетение судеб, сумбур, непонимание друг друга, фантастическую смесь любви и ненависти в головах современников. Но при этом осознал свою незрелость, неумелость, беспомощность. И обещал сам себе, что завтра… обязательно… Научусь, преодолею, помогу хорошим людям, сумею… И – обязательно напишу об этом!
Фактически это получилось у меня то, чего я подсознательно и хотел – документальный, до предела честный (как я понимал), большой, солидный очерк. От первого лица, естественно. Этакая исповедь и крик боли.
Но ведь именно такое всегда и было свойственно настоящей русской литературе – «самой человечной литературе мира», как я где-то прочитал и как с уверенностью считал сам! И я гордился тем, что сделал. Нет ничего важнее правды. А я писал правду так, как я ее видел и понимал. Честно.
Последствия
Рассчитывать на скорую публикацию романа было бы, конечно, полным безумием. Все-таки не настолько я был наивным и сумасшедшим. Но… «Пепел Клааса стучал в мое сердце», и я начал с того, что стал давать читать рукопись всем своим родственникам и знакомым подряд…
Да, это не выстроенный по литературоведческим канонам роман и, может быть, даже не повесть в обычном понимании. Но это – правда жизни! Какая разница, как назвать! Это – искреннее и документальное нечто, просто вопящее о том, что происходит вокруг, взывающее к совести и человечности, взаимопомощи, взаимоподдержке, честности, искренности, мужеству! Не в этом ли была истинная суть советской идеологии?
Но, увы, «линия Лоры» в моем сочинении оказалась самой вопиющей красной тряпкой не только для редакторов, но и для кое-каких моих знакомых и приятелей, которым я давал читать рукопись. Они с таким искренним как будто бы возмущением осуждали Лору за ее «пустоту, развращенность, продажность», а меня за «искажение позиции морального плана», за «нестойкость и аморальность»!
Я опять в буквальном смысле слова обалдевал…
Эти «читатели», что, такие все безгрешные, «стойкие и моральные»? Ведь Лора не только не принесла мне никакого зла, а – наоборот! Она бескорыстно подарила мне такую близость, какой у меня не было никогда! Хотя прекрасно понимала, что взять с меня нечего. Она изо всех сил пыталась устроить свою судьбу – «Мне 26, пойми, я не девчонка!» – а потому в этом плане встречи со мной были ей не нужны и даже рискованны – я был неопытный, и она могла «залететь». И в мужья ей я, разумеется, не годился, да и не хотел. Но она подарила мне свою искреннюю – в этом я не сомневался ничуть! – БЛИЗОСТЬ…