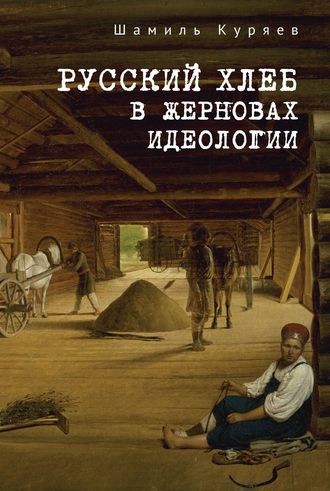
Полная версия
Русский хлеб в жерновах идеологии
А чтобы воспринимать созданные государством и Церковью народные школы как рассадник невежества – кем надо было быть для этого?! В чём вообще могло заключаться это «сознательное поддержание невежества»? – разве что в преподавании ученикам Закона Божьего (от которого еретика Толстого, разумеется, корчило, как беса перед заутреней…).
Вот в «опростившихся» толстовских общинах жизнь была бы прекрасна! И урожаи были бы стабильно высокими, и солнце бы светило ярко, и «дожжик» вовремя шёл, и запас хлеба в общинном амбаре не переводился бы, и народная медицина (подорожником и корой дуба) была бы на высоте. И жили бы все до ста лет – в мире, тишине и сытости, не воюя и не противясь злу насилием…
Сдержанную, но меткую оценку учению Толстого дал ещё в 1894 году его собрат по перу Антон Чехов (в письме к издателю Суворину): «Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6 – 7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что–то протестует; расчётливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человечеству больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч».
Можно долго гадать и полемизировать по поводу внутреннего мира и душевного состояния великого русского романиста в разные периоды его жизни. Нельзя исключать, что причина многочисленных толстовских «странностей» (с возрастом проявлявшихся у него всё резче!) коренилась в постепенно прогрессирующем психическом расстройстве, вызванном кризисом мировоззрения (утрата веры), крайне нездоровой атмосферой, которую создавали постоянно окружавшие Толстого «ученики» и «последователи», а также невыносимой внутрисемейной обстановкой (мучительный разлад с женой). К слову сказать, жена Толстого в последние годы жизни была откровенно ненормальной: «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой», – это диагноз психиатра Россолимо.
Как бы там ни было, безусловным является одно: Толстой–публицист, Толстой–политик – никакой не мудрый «учитель жизни», а парадоксальная гремучая смесь из Сократа, Савонаролы и бродячего дервиша.
По сути дела, Лев Толстой, с его отрицанием и Церкви, и государства, и научно–технического прогресса, и вообще любой традиционной организации человеческого общества; с его идеями «опрощения», «непротивления» и «ненасильственного анархизма», – был в каком–то смысле ещё более радикальным «ниспровергателем», чем Ленин. А уж ссылаться на его обличительные писания (неважно куда посылаемые – в книгоиздательства, императору Александру, императору Николаю, премьер–министру Столыпину или в английскую «Дейли Телеграф») как на беспристрастное свидетельство («свидетельство человека, которого трудно упрекнуть в неадекватности») – это и есть неадекватность!
И неслучайно высокомудрые мнения Толстого о причинах народного голода оказываются сегодня востребованными на таких экстремистских пабликах как «Нечаевщина».
Глава 3
§ 3.1. По частоте цитирования в работах неосоветчиков с Толстым успешно конкурирует Александр Энгельгардт. Всякий уважающий себя поклонник СССР хоть раз да приводил выдержки из его знаменитых очерков «Из деревни. 12 писем».
Конечно, агрономическим подробностям в сегодняшней антиимперской публицистике не место! – их там почти и нет… Неосоветчики неустанно тиражируют одни и те же отрывки из «Писем» (видимо, как всегда, прилежно передирая их друг у друга). Отметим главные хиты, в режиме «случайного воспроизведения»:
«Наш мужик хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об яблочных пирогах и понятия не имеет, да ещё смеяться будет, что есть такие страны, где неженки–мужики яблочные пироги едят, да и батраков тем же кормят. У нашего мужика–земледельца не хватает пшеничного хлеба на соску ребёнку, пожуёт баба ржаную корку, что сама ест, положит в тряпку – соси».
И вот ещё: «В человеке из интеллигентного класса такое сомнение понятно, потому что просто не верится, как это так люди живут, не евши. А между тем это действительно так. Не то чтобы совсем не евши были, а недоедают, живут впроголодь, питаются всякой дрянью».
И ещё: «Пшеницу, хорошую чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, которые не станут есть всякую дрянь. Лучшую, чистую рожь мы пережигаем на вино, а самую что ни на есть плохую рожь, с пухом, костерём, сивцом и всяким отбоем, получаемым при очистке ржи для винокурен – вот это ест уж мужик. Но мало того, что мужик ест самый худший хлеб, он ещё недоедает. Если довольно хлеба в деревнях – едят по три раза; стало в хлебе умаление, хлебы коротки – едят по два раза, налегают больше на яровину, картофель, конопляную жмаку в хлеб прибавляют. Конечно, желудок набит, но от плохой пищи народ худеет, болеет, ребята растут туже, совершенно подобно тому, как бывает с дурносодержимым скотом».
И вот: «Имеют ли дети русского земледельца такую пищу, какая им нужна? Нет, нет и нет. Дети питаются хуже, чем телята у хозяина, имеющего хороший скот. Смертность детей куда больше, чем смертность телят, и если бы у хозяина, имеющего хороший скот, смертность телят была так же велика, как смертность детей у мужика, то хозяйничать было бы невозможно. А мы хотим конкурировать с американцами, когда нашим детям нет белого хлеба даже в соску? Если бы матери питались лучше, если бы наша пшеница, которую ест немец, оставалась дома, то и дети росли бы лучше и не было бы такой смертности, не свирепствовали бы все эти тифы, скарлатины, дифтериты. Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаём кровь нашу, то есть мужицких детей».
Неосоветчики понимают, что использовать Энгельгардта надо с умом!
Поэтому его обычно преподносят как выдающегося учёного и прогрессивного агрария, который–де успешным ведением сельского хозяйства подтвердил верность своих теоретических взглядов и – на основе собственного практического опыта – пришёл к мысли о необходимости обобществления земли и создания колхозов. Именно такое освещение фигуры Энгельгардта – во–первых, как признанного учёного мэтра, химика и агрария (что сразу внушает невольное почтение); во–вторых, как крупного земельного собственника, «крепкого хозяйственника» (что предполагает его объективность и «неангажированность» в данном вопросе) – призвано внушить доверие к его свидетельствам и взглядам.
В самом деле! – если так прямо сказать, что эти душераздирающие описания нищеты и забитости русской деревни (с выражением твёрдой уверенности в том, что единоличным хозяйствам из нужды выбиться не дано) высказал ещё один ссыльный социалист–народник, то должного впечатления на публику это не произведёт. Ну, мало ли что врали в своих «агитках» дореволюционные леваки? – они были свято убеждены в том, что любая их ложь, даже самая дикая и бессовестная, есть «ложь во благо» (о преувеличениях, «сгущении красок» и расстановке акцентов нечего и говорить). Вот и ещё один. Тем более фамилия у него какая–то подозрительная…
А так – другое дело: прогрессивный учёный, «поверивший теорию практикой».
§ 3.2. Поэтому надо сказать несколько слов об Александре Энгельгардте.
Во–первых, собственно научные лавры Энгельгардта были достаточно скромны. Никаких прорывных открытий в химии у него нет. На научном поприще он был «один из многих». Чем он был действительно приметен, так это своей левизной и потаканием революционно настроенному студенчеству (что естественно для идейного «землевольца»). Успешная профессорская карьера Энгельгардта оборвалась резко, хотя и ожидаемо, – высылкой. Так что за занятие «практической агрономией» (в имении Батищево Смоленской губернии) Энгельгардт взялся вынужденно: надо было как–то существовать.
Применив свои научные знания и прогрессивные методы ведения хозяйства – а также недюжинную работоспособность! – на практике, он добился того, что разорённое имение стало процветающим, передовым сельскохозяйственным производством, на которое равнялись многие российские аграрии. На протяжении нескольких лет в Батищеве существовала своеобразная «сельскохозяйственная академия» по обучению интеллигентов сельскому хозяйству (правда, повторить успех наставника никому из них не удалось). Со временем Энгельгардт разочаровался в этом проекте, перестал принимать учеников, а сам сосредоточился на сугубо технических вопросах, прежде всего – искусственных удобрениях. Умер в безвестности, полузабытым.
Во–вторых, типичное капиталистическое (потому и процветающее) хозяйство в Батищеве не имело никакого отношения к теоретическим изысканиям Энгельгардта в духе наивного социализма. Более того, оно было им «прямо противоположно»! Сам Энгельгардт считал, что он ведёт «кабальное хозяйство». Энгельгардт неоднократно, устно и письменно, называл себя «эксплуататором»; говорил, что его «всегда угнетала экономически–социальная сторона дела»; и что вообще «эксплуататорское хозяйство, которое я веду в Батищеве, давно уже перестало меня интересовать».
Что ж, подобный пример – не в новину. Дела у хлопкопрядильной фабрики «Эрмен & Энгельс» тоже шли хорошо, что не помешало её владельцу стать одним из основоположников научного коммунизма. Тоже страдал и мучился, бедняга–эксплуататор!.. И даже пытался загладить свою вину перед работницами, вербуя себе наложниц из их числа (сёстры Бёрнс).
И тоже ведь – многое почерпнул из общения с ними! – в плане «расширения интеллектуального кругозора»… Без этого Энгельс вряд ли написал бы «Положение рабочего класса в Англии».
Однако же сей забавный факт: Фридрих Энгельс – хозяин передового капиталистического производства; коммунисты не преподносили как «безусловное доказательство» истинности всего, что им сказано и написано. Мол, руководящий работник, сын совладельца, а впоследствии – сам совладелец фабрики (уж он–то всё знал о «прибавочной стоимости»!), именно на примере её валов и шестерён изучил изнутри природу капитализма и понял его историческую обречённость, неизбежность установления диктатуры пролетариата и обобществления средств производства. Напротив, этого факта в Советском Союзе стыдились и старались его не афишировать…
§ 3.3. Идейные же построения Энгельгардта были довольно своеобразны. Он словно предстаёт в двух разных ипостасях. В то время как Энгельгардт–хозяин – распорядителен, грамотен и предприимчив, Энгельгардт–футуролог – несколько наивен; порой… до степени инфантильности, чтобы не сказать резче.
Социалисты–народники пореформенной России грезили о прекрасном и мудром народе (под «народом» понимая исключительно простонародье); молились на «мужика» – святого хлебопашца, сеятеля и хранителя (каковой представлялся им вместилищем всех мыслимых и немыслимых добродетелей; давно утраченных в высших, эксплуататорских классах…). Энгельгардт никаких иллюзий касаемо интеллектуальных и моральных качеств крестьянина не питал. Какие и были – в деревне быстро развеялись!
Социалисты–народники пореформенной России (в подавляющем большинстве) почитали за величайшую ценность крестьянскую общину; предполагая в крестьянине «инстинктивный» дух коллективизма, а в общине видя прообраз и фундамент будущего социалистического общества. Энгельгардт – хотя и не единственный, но один из немногих, – считал существующую крестьянскую общину злом, пережитком прошлого, а никак не залогом будущего прогресса.
Что же касается «общинного духа», якобы органически присущего русскому крестьянину, то Энгельгардт оставил массу потрясающих свидетельств, убедительно доказывающих, что русский крестьянин, по натуре своей, – индивидуалист до мозга костей, враг всякого коллективизма, при первом же удобном случае стремится «обособиться» и работать на себя. При этом Энгельгардт отмечал, что дух индивидуализма в русском крестьянине прогрессирует на глазах: «многие работы, которые ещё несколько лет тому назад исполнялись сообща, огульно целою деревнею, теперь делаются отдельно каждым двором».
На первый взгляд, из всего этого напрашивается очевидный вывод – коль скоро надежды на крестьянскую общину глупы; а сами крестьяне – далеко не те ангелы без крыльев, что могли бы жить при порядках, созданных по образцу раннехристианских общин… Значит, надо использовать и всемерно поощрять свойственный крестьянину дух индивидуализма, любовь к самостоятельности и желание разбогатеть – двигаться по тому пути, по которому давно и успешно идёт весь Западный мир.
Но нет! Капиталистический уклад России не подходит (он, строго говоря, – вообще никому не подходит…). Оказывается, единственно верный путь: передача всего земельного фонда в коллективную собственность крестьян, обобществление средств производства (от скота до сельскохозяйственных орудий) и, соответственно, коллективный труд на земле. Словом – тотальная коллективизация.
Да вот беда: крестьянам все эти идеи утопического социализма глубоко чужды! И Энгельгардт постоянно негодует на психологию русского крестьянина: «У крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации».
В итоге идеи Энгельгардта повисают в воздухе: крестьянин – не гож, община – не годна, дух коллективизма на селе иссякает год от года (а крестьянам–единоличникам из нищеты не выбиться! – у нас не Америка и не Германия…). Грядущий социализм Энгельгардта выглядят «социализмом вопреки всему».
Кто же даст необходимый толчок к тому, чтобы русская деревня развивалась по пути обобществления собственности и труда? Кто заложит фундамент для нового сельскохозяйственного уклада? Кто подаст пример косному (и вообще – «неправильному») крестьянству?.. Это могут сделать «интеллигентные хозяева», которые будут приезжать в деревню и оставаться там – чтобы вести своё хозяйство коллективно и производительно, по последнему слову науки и техники; наглядно показывая преимущество новых принципов организации труда. Эти же люди постепенно создадут и всю необходимую сельскую инфраструктуру – от медицины и полиции до университетов…
О том, насколько были осуществимы подобные замыслы (тем более – в масштабах всей России), можно судить хотя бы по неудаче выпускников энгельгардтовской «сельскохозяйственной академии». Словом, Энгельгардт – это грамотный аграрий и «крепкий хозяйственник» (в терминах сегодняшнего дня), но в то же время – прожектёр и социальный утопист; ещё один яркий представитель когорты прекраснодушных социалистов–утопистов 19–го века.
§ 3.4. Важно то, что Энгельгардт не только футуролог, но и макро–экономист – весьма специфический. Так, одной из главных причин крестьянской нищеты он (и надо признать, не только он один!) видел в хлебном экспорте.
К теме «голодного экспорта» Энгельгардт в своих очерках возвращается постоянно и высказывается очень категорично. «А мы хотим конкурировать с американцами, когда нашим детям нет белого хлеба даже в соску?» «Хлеб нужно продавать немцу для того, чтобы платить проценты по долгам». Одним словом: «У мужика деньги шли на хозяйство. А пан деньги за море переведёт, потому что пьёт вино заморское, любит бабу заморскую, носит шелки заморские и магарыч за долги платит за море».
Разумеется, Энгельгардт, как предприимчивый аграрий, не был сторонником натурального хозяйства. Напротив, он ратовал за расширение посевов сельскохозяйственных культур, пользующихся рыночным спросом; за товарное производство и расширение внутреннего рынка. Но при этом был уверен, что даже двукратное увеличение производства хлеба привело бы лишь к его минимальной достаточности для самой России. Какой уж тут, к чёрту, экспорт!
Надо сказать, Энгельгардту был присущ крайне пессимистичный взгляд на действительность. Ибо если даже удвоенные сборы способны лишь минимально обеспечить потребности страны, то реально имеющиеся – должны были обернуться тотальным голодом. Однако такого голода Энгельгардт на своём веку не видел. И даже, наверно, не предвидел, что такой, людоедский, голод может когда–нибудь случиться в России (а именно – когда деревня наконец–то познакомится с социалистическими принципами организации труда!).
Кроме того, Энгельгардту было присуще крайне негативное отношение к российской внешней торговле. Экспорт зерна он считал выгодным лишь для своекорыстного помещичьего сословия, но губительным для крестьянства и разорительным для государства (которое, по его мнению, не получало от возрастающих объёмов хлеботорговли никакой реальной выгоды – а напротив, всё больше разорялось, запутываясь во внешних долгах).
Что ж, негативистский подход к вопросам внешнеторгового баланса, тарифной политики, валютного курса и государственного займа был свойствен многим «оппозиционно настроенным умам». И не только из народнической среды! – достаточно вспомнить армейского пехотного генерала (и историка–любителя) Нечволодова…
Позиция Энгельгардта в данном вопросе была совершенно анти–государственнической. По счастью, министры Российской Империи были большими прагматиками, чем этот провинциальный аграрий. Но характерен пафос Энгельгардта: «Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаём кровь нашу, то есть мужицких детей». Можно подумать, какой–то правительственный злодей, облечённый властью, отнимал хлеб у крестьянских детей (или их родителей) и отвозил его за море!..
А ведь так и будет! – когда российские социалисты, идейные последователи Энгельгардта, станут отнимать у крестьян выращенный ими хлеб (в целях его справедливого распределения), а самих крестьян мобилизовать на общественные работы (тот самый «производительный коллективный труд»). И вот тогда в России действительно разразится невиданный, страшный голод – с миллионами жертв, с поеданием детей родителями и похищением трупов из могил…
А потом весь сельскохозяйственный уклад российской деревни перестроят (почти по Энгельгардту) приехавшие наконец–то из города передовые, прогрессивные люди – «двадцатипятитысячники». Что ж, на «городских» и была вся надежда Энгельгардта! – сами–то крестьяне к социалистическим идеям оказались глухи… И вот тогда вся земля окажется у крестьян в коллективной собственности (равно как и скот и вообще все средства производства), и появится возможность для коллективного производительного труда на ней. И вот тогда в России опять разразится страшный голод – с миллионами жертв, с поеданием детей родителями и похищением трупов из могил… А хлеб («кровь нашу, то есть мужицких детей»), отнятый у крестьян, российские социалисты будут продавать немцам!
История любит посмеяться над утопистами – превращая их вымышленные утопии в реальные антиутопии.
§ 3.5. Впрочем, Энгельгардт порой удивляет не только своими макро–экономическими обобщениями, но и некоторыми заявлениями, странными в устах учёного мужа, – вроде того что «если бы наша пшеница, которую ест немец, оставалась дома, то и дети росли бы лучше и не было бы такой смертности, не свирепствовали бы все эти тифы, скарлатины, дифтериты».
Казалось бы – профессор–естественник, химик–органик; крестьян брался лечить… Правда, лечение было специфическим: «Приходили ко мне: тому дам стакан пуншу, тому касторового масла, тому истёртого в порошок и смешанного с мелким сахаром чаю – помогало». Очень напоминает методы, описанные Куприным в «Олесе» и Чеховым в «Сельских эскулапах»!
Дело в том, что ни тиф (ни сыпной, ни возвратный, ни брюшной, ни паратиф…), ни скарлатина, ни дифтерия не являются «болезнями голода» – то есть теми, что непосредственно вызываются недоеданием. В ту пору их даже нельзя было отнести к «болезням нищеты» – то есть свойственным исключительно представителям социально незащищённых слоёв. Это – инфекционные заболевания.
Перечисленные Энгельгардтом «бичи человечества» убивали тогда отнюдь не только крестьян и не в одной только России! В ту эпоху болезни эти были распространены по всему миру: век антибиотиков и вакцинации ещё не наступил. Да, известно, что массовые социальные потрясения часто сопровождаются тифозными эпидемиями (прежде всего – эпидемиями «сыпняка»). Вспышки сыпного тифа характерны для общественных катастроф, связанных с перемещениями большого количества людей в условиях антисанитарии: войн, депортаций, голодовок. Косил «сыпняк» узников тюрем и лагерей. Но «Письма из деревни» ни к военной, ни к лагерной мемуаристике не относятся…
Словом, возлагать ответственность за смерть крестьянских детей от тифа, скарлатины или дифтерита на хлебную торговлю с Германией можно было бы только в одном случае – если предполагать, что в результате тех торговых контактов инфекция переносится из империи Гогенцоллернов в империю Романовых (подобно тому как чума в старину путешествовала с торговыми караванами…).
Шутки шутками, но имперской статистикой зафиксирован тот примечательный факт, что детская смертность у мусульман Европейской России была ниже, чем у православных, – хотя жили тогдашние татары и башкиры беднее соседствующих с ними русских! То есть здесь сказывались, прежде всего, свойственные разным народам бытовые привычки и обычаи (более или менее здоровые).
Конечно, заболеваемость инфекционными болезнями – это ещё не вся проблема; есть и такой показатель как уровень смертности от них. В дореволюционной России этот показатель был очень высоким. Понятно, что здесь важен не только уровень развития медицины в стране (прежде всего – степень её доступности), но и общей уровень жизни. Когда больной сыт, ухожен и находится в тепле; когда сыты и здоровы его близкие, которые призваны обеспечить ему уход, – тогда и болезнь протекает легче и надежд на выздоровление больше.
Однако тогдашние Ирландия и Румыния (откровенно бедные, но достаточно благополучные в плане инфекционных болезней) не позволяют сводить всё к «уровню среднедушевого дохода». Видимо, здесь сказывались многие факторы – начиная с культурных и бытовых привычек и заканчивая климатическими и генетическими особенностями…
Но у Энгельгардта и тут виноватой оказывается «наша пшеница, которую ест немец»! Это уже напоминает идею фикс.
§ 3.6. Одним словом, все выводы, обобщения и социальные прожекты Энгельгардта… ясны и понятны. Но как быть с теми энгельгардтовскими зарисовками, которые приводят неосоветчики? Неужто и они «лживые»?..
Это зависит от того, что мы имеем в виду. Энгельгардтовские «зарисовки с натуры», надо полагать, правдивые. А вот неосоветчики, приводящие их в качестве иллюстрации «ужасной жизни народа в предреволюционной России» (и соответственно – в качестве оправдания Революции, доказательства её «благости» для простого народа; который–де без неё «так и прозябал бы в нищете», ибо «по–другому проблема не решалась») – лживы насквозь!
Дело в том, что Энгельгардт в своих «Письмах» живописал бедную смоленскую деревню 1870–х – начала 1880–х годов. Этот хронологический отрезок подавляющее большинство историков и экономистов признают «ямой», периодом максимального ухудшения положения крестьянства. То была своего рода «расплата за века крепостничества». Собственно говоря, в очерках Энгельгардта описывается пореформенная Россия Александра Второго. А ведь потом была ещё стремительно развивающаяся Россия Александра Третьего; а потом – стремительно развивающаяся Россия Николая Второго (а сам Энгельгардт и умереть–то успел – ещё задолго до кончины Александра Третьего…).
Российская Империя в конце 19–го – начале 20–го века быстро менялась. Соответственно – менялась постепенно и жизнь крестьянства, её основного сословия… Если уж оперировать не статистическими выкладками, а яркими картинами крестьянской жизни и быта (как у Энгельгардта), то на цитаты из его «Писем» всегда можно ответить контраргументами того же уровня.
Вот, например, Энгельгардт рассказывает о жизни пореформенной деревни: «Наш мужик хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об яблочных пирогах и понятия не имеет, да ещё смеяться будет, что есть такие страны, где неженки–мужики яблочные пироги едят, да и батраков тем же кормят». Красноречивое свидетельство бедности, кто бы спорил!..
А вот свидетельство такого признанного знатока русской жизни и основоположника реализма в русской литературе как Чехов (только уже 1887 года! – рассказ «Свирель»). Герой рассказа, пожилой пастух, по–стариковски сетует на времена и на молодое поколение: «Ты вот гляди, мне седьмой десяток, а я день–деньской пасу, да ещё ночное стерегу за двугривенный и спать не сплю, и не зябну; сын мой умней меня, а поставь его заместо меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдёт. Так–тось. Я, акроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный даждь нам днесь, и отец мой, акроме хлеба, ничего не ел, и дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство».
Если подумать – это даже не «контраргумент»; напротив – всё «по Энгельгардту»! В предыдущие десятилетия и впрямь питались крестьяне почти одним хлебом (и считали это нормальным). А теперь – то есть в конце восьмидесятых – у молодых поколений начинают заводиться какие–то сибаритские привычки: и булка им нужна, и водка, и оплата за труд более высокая, и ночной отдых, и медицина. Так что уже к концу жизни Энгельгардта многое в деревне начало меняться… А впоследствии – в ходе модернизации девяностых, девятисотых, девятьсот десятых годов – темпы перемен значительно выросли.


