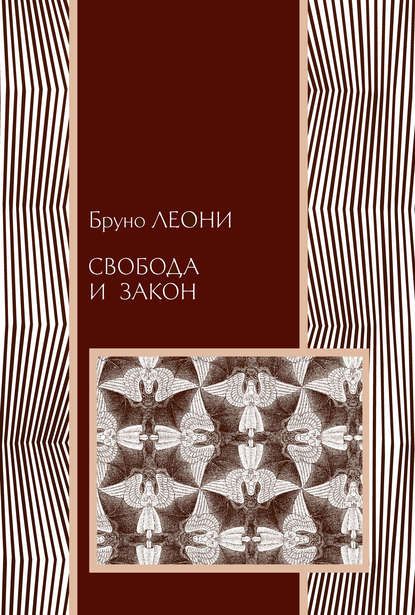Полная версия
Естественное право и естественные права

Джон Финнис
Естественное право и естественные права
© John Finnis, 1980
© АНО «ИРИСЭН», 2012
© В. П. Гайдамака, перевод, комментарии, 2012
От издателя
Мы продолжаем серию «Право» публикацией книги «Естественное право и естественные права» современного австралийского философа и правоведа Джона Финниса, профессора британского Оксфорда и американского Университета Нотр-Дам (штат Индиана). С момента выхода в 1980 г. эта работа уже стала классической и поныне вызывает бурные дискуссии.
Трактат Дж. Финниса представляет собой один из наиболее успешных и авторитетных опытов реконструкции теории естественного права и продолжает богатую естественно-правовую традицию, восходящую к Аристотелю и Фоме Аквинскому. При этом автор учитывает состояние современной общественно-политической и правовой философии различных направлений, а также предлагает оригинальные и тонкие ответы на типичные доводы противников естественно-правового подхода. В то же время в своем изложении и рассуждениях он демонстрирует весь тот утонченный инструментарий мысли, которым славится англосаксонская школа аналитической философии.
Следует отметить, что традиция философии естественного права – весьма «экзотический зверь» на просторах постсоветского мира. Хотя она изучалась и имела последователей в дореволюционной России, коммунистический режим буквально выжег ее каленым железом ввиду ее принципиальной несовместимости как с раннесоветской «классовой» юриспруденцией, так и с позднесоветским юридическим позитивизмом. Сегодня позитивизм или легизм, который, по сути, отождествляет «право» с выраженной волей доминирующей в обществе организации, способной осуществлять насилие, является абсолютно преобладающей философией права в России и в большинстве постсоветских стран. Для позитивистского мышления непредставимо, что воля господствующей силы может оцениваться по каким-то внеположным ей критериям, но именно в этом состоит ключевая посылка философии естественного права.
В отличие от России и других постсоветских государств, в странах Запада естественно-правовая традиция никогда не прерывалась, продолжает жить и развиваться. Несмотря на наличие также и сильного (и в последние десятилетия набирающего все большую силу) позитивистского течения, философия естественного права не сдает своих позиций. Более того, не будет преувеличением сказать, что во многом благодаря ей там сохраняется тот фундамент свободы, который составляет отличительную особенность западной цивилизации, поскольку именно философские и религиозные традиции, провозглашающие и обосновывающие внешние ограничения произвола земной власти, мобилизуют людей на защиту свободы и сдерживание тирании.
К сожалению, в русскоязычной литературе естественно-правовая традиция представлена очень слабо, если не считать публикаций старой философской классики, которые в отсутствие живой традиции толкования представляют лишь исторический интерес, и нескольких вышедших в последние годы переводов работ современных авторов, которые можно пересчитать по пальцам. Данной публикацией мы хотим помочь в заполнении этого пробела.
Следует подчеркнуть очень важное достоинство работы Дж. Финниса: она является подлинно современной. Читая ее, оппоненты философии естественного права обнаружат, что у автора есть ответы на многие типичные возражения, обычно приводимые в обзорных учебниках по истории философии и по философии права, и что он не допускает многих ошибок, столь типичных для более ранних или менее искушенных сторонников этого направления. Например, он тщательно избегает логически неправомерного вывода нормативных суждений из суждений о фактах («должного» из «сущего»), очень тонко прорабатывает понятие «самоочевидного» и т. д. В то же время, углубляясь в тонкости аргументации, автор никогда не теряет, более того, подчеркивает практический смысл и практическую мотивацию своих построений, а в конечном счете выводит на вопросы, в высшей степени насущные, в том числе для нашей постсоветской ситуации, такие как общее благо, справедливые и несправедливые законы, природа прав и их взаимоотношение с общим благом и т. д.
Изучение и понимание традиции естественного права, в первую очередь через изучение книг ведущих авторов этой традиции, является для русскоязычной аудитории необходимой интеллектуальной и культурной работой. Вместе с тем чтение трактата Дж. Финниса, как и его критика, – это увлекательное интеллектуальное предприятие. Надеемся, что русское издание этой работы найдет своего благодарного читателя.
Валентин Завадников
Август 2012 г.
Сокращения


Предисловие
Сердцевину этой книги составляет ее вторая часть. В едином длительном развитии общественной мысли главы IIIXII обрисовывают то, что систематизаторы, пишущие учебники, назвали бы «этикой», «политической философией» и «философией права» или «правоведением». Мы можем для удобства изучения принять такие наименования, но не вывод, что «дисциплины», которые они обозначают, реально различны и ими можно успешно заниматься по отдельности. Части первая и третья – в определенном смысле сопроводительные. Тот, кого естественное право интересует лишь как этическая концепция, может пропустить главу I; тот, чьи интересы ограничены правоведением, может не читать главу XIII. Те же, кому захочется, забегая вперед, увидеть, как все исследование в целом приводит к пониманию, весьма отличному от трактовок «естественного права» в их учебниках правоведения и философии, нужно обратиться сначала к главе XII, а потом, пожалуй, к главе II.
Книга носит вводный характер. Многочисленные относящиеся к делу вопросы здесь затронуты вскользь или не рассматриваются вовсе. Бессчетным возражениям отдается должное только в виде не подчеркиваемых попыток сформулировать утверждения, которые можно было бы отстоять, если бы пришлось специально отвечать на возражения. Я не предпринимаю систематического изложения долгой истории теоретизирования относительно естественного права и естественных прав. Опыт показывает, что такие изложения скорее ослабляют, нежели стимулируют, интерес к их предмету. И к тому же, чтобы действительно понять историю этих теорий, надо осознать подлинные проблемы человеческого блага и практической разумности, которые стремились разрешить теоретики естественного права. Итак, моя задача – прежде всего предложить свое осмысление этих проблем, дать свой ответ на эти вопросы; другие теории упоминаются только тогда, когда я полагаю, что они могут прояснить теорию, представленную в моей книге, и сами могут быть ею прояснены. Надеюсь, что воспроизведение и развитие главных элементов «классических», или «магистральных», теорий естественного права путем аргументации по существу дела (как говорят юристы) сочтут полезными и те, кто хочет понять историю идей, и те, кому важно сформировать или пересмотреть собственную точку зрения на существо дела.
У каждого автора своя среда. Корни моей книги – в современной традиции, которую можно назвать «аналитическая юриспруденция»; интерес к этой традиции я проявлял до того, как мне впервые пришло в голову, что в теориях естественного права, возможно, есть нечто большее, чем суеверие и мрак. Если кто‐то разделял бы мою теорию естественного права, но сферой его интереса и компетенции была бы, скажем, социологическая юриспруденция, или политическая теория, или нравственное богословие, он написал бы иную книгу.
В 1953 г. Лео Штраус в предисловии к своему исследованию, посвященному естественному праву, предупреждал: «Вопрос о естественном праве предстает сегодня как вопрос партийной приверженности. Оглядываясь вокруг, мы видим два враждующих лагеря, прочно укрепленных и тщательно охраняемых. В одном находятся разного рода либералы, в другом – последователи Фомы Аквинского, католики и некатолики»[1]. За прошедшие с тех пор двадцать пять лет ситуация изменилась, и различные взгляды, высказываемые в ходе полемики, уже не настолько поляризованы. Однако вопросы, рассматриваемые в этой книге, достигают корней всякого человеческого усилия, всякой убежденности и приверженности и в то же время отягощены длительной и продолжающейся историей острой борьбы партий. А посему стоит отметить, что в этой книге ничто не утверждается и не отстаивается через обращение к авторитету какой‐то личности или группы. Я очень часто ссылаюсь на Фому Аквинского, потому что, как бы ни оценивались его воззрения, он занимает уникальное стратегическое место в истории теоретизирования относительно естественного права. Иногда я ссылаюсь и на высказывания Римско‐католической церкви о естественном праве, потому что в современном мире это, возможно, единственная организация, претендующая на авторитетное толкование естественного права. Но если я обращаюсь к авторитету и уважаю авторитет, то отнюдь не в философском обосновании достоинства теорий или истинности ответов на практические вопросы, и, стало быть, в этой книге нет места преклонению перед авторитетом.
Итак, мои аргументы убедительны или не выдерживают критики единственно вследствие их внутренней разумности или несостоятельности. Но это не значит, что в них много оригинального. То, чем я обязан Платону, Аристотелю, Аквинату и другим авторам, принадлежащим к этой «классической» традиции, указано в подстрочных примечаниях и в более пространных примечаниях, сопровождающих каждую главу. Заимствованное мною у Джермена Грайсеза отмечено таким же образом, но требует особого упоминания. Этическая теория, выдвинутая в главах III–V, и теоретические доказательства в разделах VI.2 и XIII.2 прямо основываются на осмыслении содержащегося у него четкого воспроизведения и весьма существенного развития соответствующих классических доказательств.
Я, конечно же, в долгу и перед многими другими, в особенности перед Дейвидом Олстоном, Дейвидом Брейном, Майклом Детмолдом, Г. Л. А. Хартом, Нилом Мак‐Кормиком, Дж. Л. Маки, Карлосом Нино и Джозефом Рэзом. Все они с разных позиций высказали свои соображения о моем замысле в целом или о его существенных частях.
Книга была задумана, начата и закончена в Оксфордском университете, девиз*[2]которого мог бы быть помещен в конце третьей части. Но написана она в основном в Африке, в Чанселлор‐колледже Университета Малави, в обстановке, одновременно и благоприятствующей размышлениям над проблемами справедливости, закона, власти и прав, и наводящей на такие размышления.
Март 1979 г.
Часть первая
Глава I
Оценка и описание права
I.1. Формирование понятий дескриптивной общественной науки
Есть человеческие ценности, или виды блага, которые могут быть обеспечены только при посредстве институтов права, и есть требования практической разумности (practical reasonableness), которым могут удовлетворять только эти институты. Цель данной книги в том, чтобы выявить эти виды блага и эти требования практической разумности и продемонстрировать, каким образом и при каких условиях такие институты оправданны и по каким причинам они могут быть (и зачастую оказываются) ущербными.
Нередко предполагается, что оценка права как типа социального института, если ею вообще стоит заниматься, должна быть предвосхищена свободным от оценочных суждений описанием и анализом этого института в том виде, в каком он фактически существует. Однако развитие современной юриспруденции наводит на мысль, а методологическая рефлексия всех общественных наук подтверждает, что теоретик не способен дать теоретическое описание и анализ социальных фактов, если он в то же время не участвует в деятельности по оцениванию, по выработке понимания того, что на самом деле хорошо для человека и чего действительно требует практическая разумность.
Общественная наука, такая как аналитическая или социологическая юриспруденция, стремится описать, проанализировать и объяснить некоторый объект или предмет исследования. Объект этот составляют человеческие действия, устоявшиеся порядки, обычаи, склонности людей, а также их мыслительная и речевая деятельность. Все эти элементы – действия, устоявшиеся порядки и т. д. – несомненно, подвергаются влиянию «естественных» причин, для исследования которых подходят методы естественных наук, включая определенную часть науки психологии. Однако действия, устоявшиеся порядки и т. д. могут быть в полной мере поняты только через постижение их смысла или, иначе говоря, их цели, их ценности, их значимости или важности, как они мыслятся теми, кто совершает их, участвует в них и т. д. И эти представления о смысле, ценности, значимости и важности будут отражаться в мыслительной и речевой деятельности тех же самых людей, в тех понятийных различениях, которые они проводят или же, наоборот, не проводят либо отказываются проводить. Более того, эти действия, устоявшиеся порядки и т. д. и соответствующие представления существенно различны для разных людей, обществ, обстоятельств времени и места. Как же тогда может существовать общая дескриптивная теория, охватывающая эти разнообразные частные элементы?
Например, теоретик хотел бы описать право как социальный институт. Однако представления о праве или законе (law) (и о jus, lex, droit, nomos…*), которые люди принимают и используют для формирования своего поведения, весьма разнообразны. Предмет описания теоретика не предстает перед ним четко отграниченным от других сфер общественной жизни и практики. Кроме того, общественная жизнь и практика имеют наименования во множестве языков. Языки могут быть изучены носителями других языков, но принципы, на основе которых эти наименования усваиваются и применяются, – иными словами, практические интересы и самопонимание людей, чье поведение и намерения составляют предмет описания теоретика, – не одинаковы. Может ли теоретик сделать нечто большее, чем составить список этих изменяющихся представлений и практик вместе с соответствующими им наименованиями? Даже простое составление списка требует некоторых принципов отбора элементов для внесения в список. А правоведение, как и другие общественные науки, претендует на большее, нежели быть всего лишь соединением лексикографии и локальной истории или пусть даже сводом всех лексикографий вместе с соответствующими локальными историями.
Как теоретик решает, что считать правом для целей его описания? У ранних представителей аналитической юриспруденции не обнаруживается сколь‐нибудь серьезного понимания этой проблемы. Ни Бентам, ни Остин не выдвигают никаких оснований или оправданий для тех определений права и юриспруденции, которые были ими выбраны. Каждый из них пытается продемонстрировать, каким образом факты юридического опыта могут быть объяснены в терминах этих определений. Но сами определения вначале просто постулируются, а впоследствии принимаются как данность. Упоминание Бентамом «реальных элементов» идей наводит нас на мысль, что он пришел к своему определению права (а именно: «совокупность знаков, объявляющая волю, сформулированную или одобренную сувереном в государстве…»[3]), отправляясь от того факта, что совокупности знаков (или приказов и запретов, исходящих от определенного индивидуума или группы индивидуумов) – это «реальные сущности», которые через опыт отпечатываются в сознании. Obiter dicta* Остина о методологии подсказывают, что для него привлекательность понятий приказа, политического старшинства и привычки к подчинению заключалась именно в их простоте и определенности. По‐видимому, он хотел, чтобы «основные понятия» его объяснительной системы обладали той «простотой и определенностью», которые можно обнаружить в «методе, столь успешно применяемом геометрами»[4]. Поэтому он не обращал внимания ни на запутанность одних умозаключений (например, относительно суверенитета в федерациях), неизбежно следовавшую из предпосылок, заложенных в определениях, ни на необычность и искусственность других (например, о внеюридическом характере конституционного права или об отсутствии юридических прав у суверена). Он высоко ценил «немногочисленность» своих основных терминов[5]; каждый читатель Остина замечает, что получающееся в результате описание юридического опыта оказывается уплощенным или «прореженным».
В «общей теории права» Кельзена мы не находим критического рассмотрения методологической проблемы отбора понятий с целью использования в свободной от оценочных суждений, или дескриптивной, общей теории. Да, у него можно обнаружить нечто, чего нет ни у Бентама, ни у Остина, – осознание того, что цель или функция присущи самой структуре предмета, а следовательно, являются неотъемлемой частью его дескриптивного понимания. Так, Кельзен понимает право как специфическую социальную технологию: «Социальная технология, которая состоит в побуждении людей к желаемому социальному поведению под угрозой принуждения, применяемого в случае поведения, противоположного желаемому»[6]. Отсюда он выводит свое определение отдельной правовой нормы как нормы применения санкции, откуда, в свою очередь, следуют прочие особенности его «номостатики» и некоторые свойства его «номодинамики». Но как Кельзен предполагает подтвердить само определение? А очень просто:
«Что общего может иметь общественное устройство негритянского племени под руководством деспотического вождя – устройство, также называемое «правом» («law»), – с Конституцией Швейцарской республики?» [Позвольте спросить: а кто дает такое название? Чья готовность называть племенной общественный строй именно этим словом (да еще на языке, выражающем такие различия, которые сам деспотический вождь и его подданные и не думают проводить) становится решающим аргументом? Но продолжим цитату.][7] Однако существует общий элемент, в полной мере оправдывающий эту терминологию… так как данное слово обозначает ту специфическую социальную технологию, которая, несмотря на значительные различия… в сущности, одинакова для всех народов, столь различающихся по месту обитания и принадлежащих к столь разным эпохам и культурам…»
Что может быть проще? Берется слово «law» <«право», «закон»>. Далее рассматривается совокупность предметов, которые оно обозначает в рамках выбранного (без всякого объяснения) словоупотребления, при игнорировании более широкого спектра смыслов и референций этого слова (как, например, в выражениях «law of nature» <«естественное право», «закон природы»>, «moral law» <«моральный закон»>, «sociological law» <«социологический закон»>, «international law» <«международное право»>, «ecclesiastical law» <«церковное право»>, «law of grammar» <«правило грамматики»>) и, вдобавок, при игнорировании иных возможных названий для рассматриваемых предметов (например, для общественного строя «негритянских племен»). Затем отыскивается «общий элемент». Этот единственный общий элемент и есть критерий «сущности» права и, таким образом, единственный отличительный признак, используемый для характеристики и объяснения всего предмета дескриптивного исследования. Так возникает понятие, которое может прилагаться в равной степени и в одном и том же смысле (т. е. однозначно) ко всему, что кому‐то вздумалось назвать «law» во вненаучном словоупотреблении (теоретик пассивно следует ему при формировании теоретического словоупотребления).
Причину заметно большей объяснительной способности позднейших дескриптивных исследований права, таких как работы Г. Л. А. Харта и Джозефа Рэза, надо искать в их решительном разрыве с довольно наивной методологией Бентама, Остина и Кельзена. Это усложнение методологии имеет три основных отличительных особенности, которые будут рассмотрены в последующих трех разделах.
I.2. Рассмотрение практического смысла
Критика Хартом Остина и Кельзена не ставит под сомнение их теоретический замысел, описательный в своей основе: его возражение состоит в том, что их теория «оказалась не соответствующей фактам»[8]. Однако факты, которым их теория не соответствовала, согласно Харту, относятся к функции. Кельзен определяет право как «специфическую социальную технологию», Харт возражает на это, что кельзеновское описание на деле затемняет «специфическую роль права как средства социального контроля» вследствие «искажения тех различных социальных функций, которые выполняют различные виды правовых норм»[9]. Даваемое Хартом описание («понятие») права построено на том, что он снова и снова обращается к практическому смыслу составных частей этого понятия. Право должно описываться в терминах норм, предназначенных для управления в равной мере должностными лицами и гражданами, а не просто как совокупность предсказаний, ка`к должностные лица будут поступать. Правовая система – это система, в которой «вторичные» нормы появились для того, чтобы исправить недостатки доправового режима, содержащего только «первичные нормы». Право должно[10] содержать в себе минимальный объем первичных норм и санкций для того, чтобы обеспечить выживание общества или его членов и дать им практическое основание для подчинения праву.
Рэз уточняет эти элементы, давая описание права, еще дальше отстоящее от монополизации силы «деспотическим вождем» через угрозу ее применения. Для Рэза, как и для Харта, право – не просто какая‐то совокупность норм; это система норм, обеспечивающая метод (т. е. технологию) урегулирования конфликтов авторитетным образом, путем применения норм, которые (a) служат обязательным руководством для «первичных учреждений» (разрешающих споры принятием «обязывающих постановлений применительно к рассматриваемому случаю») и (b) одновременно (т. е. «те же самые нормы») служат руководством для индивидуумов, чье поведение может и не подвергаться оценке и вынесению суждений со стороны этих учреждений[11]. Благодаря этой двойственной функции норм правовая система в корне отличается от любого социального порядка, при котором власть может урегулировать все вопросы на основе неограниченного произвола, решая каждую проблему способом, представляющимся ей наилучшим[12]. Более того, право не стремится просто монополизировать применение силы и тем самым сохранить мир; для него характерно то, что оно притязает на власть регулировать любую форму поведения и регулировать все нормативные институты, к которым имеют отношение члены подчиненного ему сообщества[13]; наконец, право содержит в себе нормы, «цель которых – обеспечить обязательную силу в рамках системы нормам, к данной системе не принадлежащим»[14]. «Притязая на все это, право тем самым претендует на то, чтобы гарантировать общие рамки для функционирования всех сфер общественной жизни, и позиционирует себя как верховного попечителя общества»[15]. Отсюда, естественно, следует, что санкции и их принудительное применение вовсе не являются специфическим идентифицирующим критерием права как социального порядка или «отличительной особенностью, которая входит составной частью в наше понятие права»[16]. Учитывая человеческую природу, какова она есть, обращение к санкциям носит универсальный характер, а функционирование права без такого обращения хотя и «логически возможно», «невозможно с точки зрения человеческой сущности»[17]. Однако даже в «обществе ангелов», где в применении санкций не было бы нужды, для осуществления функций права, связанных с координацией, разрешением споров и возмещением причиненного ущерба, потребовался бы социальный порядок, который был бы в полной мере правовым[18].
Рэз строит свое описание права с ясным пониманием (не заметным у более ранних теоретиков права) того, что существуют ученые, работающие в области общественных наук, которые в своем описании свойственного человеку социального и даже политического порядка не находят места для понятия права или правовой системы[19]. Он сознает, что их теоретическое решение заменить его другими понятиями может быть оспорено – и сам хочет его оспорить – только путем демонстрации того факта, что эти исследователи игнорируют (i) важные функции (или цели, или технологии) социального порядка и (ii) способ, каким эти функции могут быть взаимосвязаны в многогранном институте, заслуживающем сохранения в качестве отдельного элемента или компонента социального порядка.
Подчеркивая (в своей недавней работе) различие между правом и социальной системой, основанной на абсолютном произволе, поскольку правовые нормы, направляющие поведение граждан, обязательны также и для судов (юридических «первичных органов»), Рэз довольно близко подходит к анализу социальной функции права, содержащемуся у Лона Фуллера. Если Харт оставил в силе идею Кельзена, что право – это метод социального контроля, но отверг данную Кельзеном характеристику этого метода как недостаточно дифференцированную, то Фуллер отвергает само понятие «средство социального контроля» как недостаточно дифференцированное и неадекватное в своей общности. Для Фуллера право действительно есть социальный порядок, при котором существуют правители и подвластные, однако его следует отличать от всякого другого социального порядка, при котором правители осуществляют «административное руководство» по отношению к подвластным. Право отличается от такого административного руководства отчасти общим характером его основных норм, но в первую очередь тем, что поставленные ему на службу должностные лица могут применять только те нормы, которые они предварительно объявили подвластным. Таким образом, существует естественный компонент сотрудничества и взаимности в деле подчинения поведения людей управлению правовых, в отличие от просто административных, норм[20].