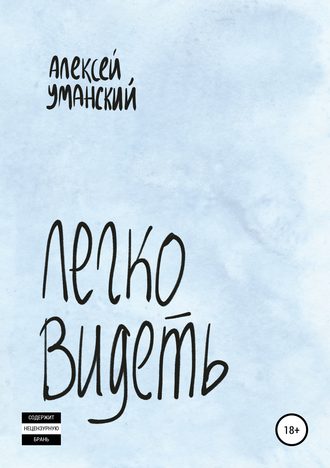 полная версия
полная версияЛегко видеть
Подумав, сколько всего сразу придется объяснять, Михаил понял, что это будет для него серьезный устный экзамен. В кратком сообщении предстояло высказать главное из того, над чем он работал десяток лет – ни больше, ни меньше. Но отказываться не хотелось. Мысленно он до предела сжал то, что про себя называл своим «Кредо», потом начал излагать вслух. Борис слушал, не перебивая. Когда Михаил кончил, он спросил, какой объем занимает его труд. – «Концептуальная часть – страниц двадцать пять. В несколько расширенном варианте – полсотни. А общий объем – около полутора тысяч страниц». – «Ничего себе! – воскликнул Борис. – Это же минимум четыре докторских диссертации!» Михаил удивился, отчего этот факт произвел на сокурсника такое впечатление – сам-то он никогда не представлял, что о важности работы можно судить, измеряя ее в таких единицах. Четыре докторских или пять или шесть – какая разница? Это просто главное дело жизни, а не конъюнктурная поделка для защиты и получения ученой степени, дающей значительные денежные и служебные преимущества ее обладателю. Впрочем, кто бы дал Михаилу защититься в области философии? Это был бы настоящий абсурд! Борис спросил, может ли он познакомиться с концептуальной частью. – «Можешь, – сказал Михаил, – если приедешь сюда на пару часиков». – «Договорились, – отозвался Борис. – Через неделю я опять буду здесь». Михаил принес свою рукопись в условленный день. Но Борис не пришел и не позвонил. Ни в тот день и ни в какой другой, покуда Михаила не уволили на пенсию. Все это время Михаил точно знал, что Борис Бельфест жив и здоров и продолжает работать на прежнем месте. Что же заставило его отказаться от намерения познакомиться с авторефератом Михаила? Ведь от природы он был достаточно любознателен, а тут еще подталкивало элементарное любопытство, как далеко зашел в дебри премудрости бывший однокурсник, с которым когда-то на заре туманной юности они толковали о философии. Или Бориса больно задело за живое, что Михаил настолько углубился в предмет, что и в самом деле совершил определенный прорыв в неосознанное-неведомое, а он, Борис Бельфест, сам мечтавший о такого рода занятиях и их результате, не продвинулся никуда? Можно было не сомневаться, что он расскажет о Михаиле двум другим приятелям-однокурсникам – Вадиму Кротову и Толе Колосовскому, с которыми встречался регулярно не реже раза в год, скорее всего, очень немногое, что-нибудь вроде того: «А знаете, Мишка Горский ударился в Бога и в религиозную философию и, похоже, уже давно».
Если бы слушатели на это отреагировали с интересом или любопытством, Борису было бы полезно почитать, чтобы рассказать подробней. Но, видимо, этого ему тоже совсем не хотелось. Отчего? Ответ напрашивался сам собой. Те оригинальные словообразования, которые придумывал Борис, безусловно видели и Вадим, и Толя. Они наверняка смеялись и одобряли. Но много ли значили бы его выдумки и находки рядом с оригинальной философией Горского, пусть даже и «религиозной»? Контраст был бы не в пользу Бельфеста. Тем более, что заклеймить работу Михаила клеймом «поповские бредни» у Бориса язык скорей всего бы не повернулся, поскольку в разговоре с ним Михаил оперировал только естественнонаучными и историческими аргументами, совершенно не прибегая к цитатам и авторитету Священных Писаний, да и вообще логика у него была во всех этих суждениях «железная» – как говорили они в студенческие времена. Впрочем, чему тут было удивляться? Ради сохранения комфортного внутреннего самовосприятия и поддержания своего реноме в глазах окружающих люди очень часто делают и не такое. Борис Бельфест всего лишь промолчал. На что ж тут было обижаться? Все-таки и расстались они по-приятельски, а не как-нибудь худо: «Через неделю к тебе зайду». – «Заходи».
Вторым вероятным гением физики после Вадима Кротова среди знакомых Михаилу людей оказался Дан Захарович Симаков. Впервые Михаил услышал о нем от его жены Наташи Рудыкиной. С этой сотрудницей у Михаила быстро возникла взаимная симпатия. Но до постели дело не дошло. Он любил Марину, она – своего мужа, и только нечто платоническое принадлежало им двоим. Наташа с гордостью говорила о Дане – о том, что он самостоятельно изучил три языка – немецкий, английский и японский, а теперь занялся фундаментальными проблемами физики и готовился совершить здесь прорыв. Он тоже окончил МВТУ примерно в то же время, как и Михаил с Вадимом Кротовым. Оставалось только удивляться, сколько незаурядных людей вышли из стен, где когда-то, во времена, когда институт назывался Императорским Высшим техническим училищем, выпускали штучных инженеров, таких как Туполев и Стечкин, штучные же профессора – такие, как Жуковский и Куколевский, а в советское время производство инженеров поставили на поток, и учили студентов, увы! не только и столько академики (хотя такие еще были), сколько бывшие выпускники училища, оставшиеся в аспирантуре при разных кафедрах по рекомендации комсомольского бюро института и Бауманского райкома партии, то есть люди типа декана Зверева, кто-то получше, кто-то похуже.
Естественно, что после Бауманского училища Дану Симакову, так же как и Вадиму Кротову, пришлось основательно изучить математику и физику. Он справился с этим и чувствовал себя достаточно оснащенным, чтобы взяться за решение сверхзадачи. И в конце концов он его достиг. Ни на одном этапе его работы у него не было никаких советчиков и никаких покровителей, даже таких вялых, как у Вадима Кротова в МВТУ. Помощницей и союзницей была все время одна Наташа, и Михаил желал ее Дану успеха в большей степени ради нее, чем из уважения к интеллектуальному подвигу ее мужа, тем более, что житейский подвиг у них был общий.
Еще одним отличием Дана Симакова от Вадима Кротова было то, что он не имел ученой степени ни кандидата, ни, тем более, доктора наук, особенно физико-математических. Поэтому без всяких проб было ясно, что любое специальное физическое издание с порога отвергнет его труд как чужеродное тело. Но это отнюдь не означало, что его труд не сможет заинтересовать потенциальных грабителей чужих идей, особенно «прорывных» и обещающих вывести на самые высокие орбиты в мировой науке. Когда Дан Симаков завершил свой труд и на основе построенных им функций вычислил прямым путем ряд параметров физических объектов как макро- так и микро- мира в задачах, которые прежде решались только приближенно, с использованием методов подгонки по результатам натурных наблюдений, то тем самым объективно доказал справедливость всей его теории. Следом ему пришлось задуматься, как обеспечить принятие этой теории научным сообществом БЕЗ раскрытия самих открытых им законов. Ибо он ни секунды не сомневался, что если он в предварительном порядке откроет кому-то из профессионально подготовленных, особенно маститых физиков-рецензентов, сердцевину своей теории, то его обязательно ограбят, а затем оболгут и отодвинут от результатов, над получением которых он денно и нощно трудился около тридцати лет. Он даже разработал остроумную, как он считал, схему проведения расчетов, направленных на решение конкретных, проверяемых на практике задач, с отсылкой не прямо к своим уравнениям, а к их представлению в скрытом виде – в форме параметров, загруженных в определенную модель, которую уже можно было рассчитать на ЭВМ с помощью существующих программ.
Когда Михаил встретился с Даном Симаковым по желанию последнего и узнал, каким способом тот надеется заставить оппонентов (для начала – рецензентов в научных журналах) признать свою правоту, ему стало не по себе. До этого момента он вполне разделял радость, которая прямо-таки переполняла первооткрывателя, но тут он встал в тупик, не представляя, как можно одобрить теорию (хотя бы для приоритетной публикации), которую ее автор в натуральном виде не предъявляет вообще? Михаил попытался деликатно втолковать Дану, что это нонсенс, что это обрекает его работу на заведомое отвержение с самого порога, и привел в пример, что сказали бы Ньютону его научные коллеги, если бы он заявил им, что открыл закон всемирного тяготения, но представил бы не его формулу, а результаты своих подсчетов и их соответствия результатам натурных наблюдений? Пожали бы плечами – и всё!
Михаил ждал, что убедит Дана в недейственности выбранной им стратегии преодоления научных барьеров перед публикацией теории, но тот набросился на него с яростными упреками – дескать, я был так благодарен вам, что вы внушили мне уверенность в моей правоте, когда я было заколебался и хотел все бросить, так ждал, чтобы поделиться с вами радостью своей победы, а вы – вы толкаете меня на путь, на котором меня обязательно обворуют! Выходит, вы тоже хотите, чтобы это произошло? Да я лучше уничтожу свою работу перед смертью, чем допущу, чтоб она досталась кому-то другому! Когда-то вы правильно говорили, что Бог это все равно зачтет, а ограбить себя я никому не позволю!
Попытки Михаила встрять в это гневное словоизлияние, чтобы убедить Дана в отсутствии у него какого-либо желания подталкивать к несвоевременному рассекречиванию сути теории перед грабителями, но с другой – показать собеседнику, что он избрал совершенно бесперспективный путь, оказались тщетными. Дан Симаков уже не говорил, а кричал, и свой слуховой канал он закрыл совершенно. На глазах удрученного Михаила у Дана неудержимо развивалась истерика, которой бесполезно было противостоять с помощью разумных аргументов. Слушать его было противно. Настолько противно, что Михаил попрощался бы и ушел, чтобы не слушать совершенного бреда насчет своей солидарности с научными грабителями, если бы не понимал, ценой какого перенапряжения ума и психики, истощавших его жизненные силы и защитный потенциал, Дан пришел к окончанию величайшего труда его жизни. Теперь он мог ослабить свою волю, скорее даже весь должен был расслабиться, осознав успешное окончание дела, которому служил и которому целых три десятилетия не видел конца. Ему больше нечем было сдерживать себя, да и незачем – ведь это ОН завершил эпохальный труд, оказавшийся непосильным для любого другого, поэтому ОН априори прав относительно всего, что касается его работы. И потому только ЕМУ судить о том, как надо действовать и о чем беспокоиться, кому и в чем доверять, а кому не доверять совсем. В конце концов, выкричав всё, что из него само собой перло из-под слишком тяжелого и затяжного гнета, Дан, не прощаясь, сам повернулся и ушел.
Больше у Михаила не возникало желания разговаривать с ним, но помочь чем-нибудь все-таки хотелось. Выяснив, что в научных академических журналах берут деньги с авторов «налом», то есть фактически взятку за публикацию, когда автор желает прорваться на страницы издания во что бы то ни стало, возможно, даже минуя рецензентов, Михаил позвонил Наташе на работу. Вопреки обыкновению, она разговаривала с ним отчужденно, пожалуй, даже враждебно. Михаил понял, что Дан окончательно произвел его во враги, а Наташа с этим согласилась. Тем не менее, он еще раз повторил то, что им не нравилось – покуда Дан не предъявит свою теорию в явном виде, никто ее положительно оценивать не станет, более того его теорию вместе с косвенными доказательствами ее истинности будут просто отвергать с порога. – «Наташа, я не навязываюсь со своими советами ни вам, ни Дану. Ваше право поступать как хотите. Вам неприятны мои суждения об этом деле, я это вижу, но врать вам все равно не намерен. Если бы ко мне обратились за оценкой теории, не предъявляя ее саму в полном виде, я бы не стал разговаривать с автором. Извините, но это общее правило. Кота в мешке никто рассматривать не будет, даже когда известно, что кот в мешке все-таки есть». После этого Наташа сменила тон и принялась выспрашивать, каким образом можно договориться с журналом, чтобы тиснули статью хотя бы за деньги. Потом он пожелал ей и Дану успехов и попрощался, мало веря в приемлемость своих советов для этой пары. Теория Дана была единственным детищем их совместной жизни. Для мужа не было ничего важнее совершаемого интеллектуального научного подвига на фоне любви к жене. В жизни жены, любившей мужа и преклоняющейся перед его способностями, так и не нашлось места для другого – настоящего – ребенка. Так что кроме теории они вдвоем не произвели ничего. Оттого оба так дружно стояли на страже своей главной семейной тайны, покуда не нашли путь для ее опубликования под именем Дана Симакова. Поскольку Михаил был заподозрен в единомыслии с потенциальными грабителями, ему, пожалуй, не стоило больше принимать никакого участия в судьбе поворотного события в мире физики, да и вообще в мире людей, обещающего открыть возможность к управлению гравитацией, а также доступ к новым источникам энергии и многому, многому другому. Михаил сделал из этого вывод, что будущность открытия такого масштаба может определять только Тот, кто дал его сделать Дану Симакову несколько раньше времени, когда это новшество могло бы во благо преобразить жизнь людей без риска уничтожить все человечество. Следовательно, синхронизируя появление важнейших открытий со способностью человечества безгрешно использовать их, Господь Бог не давал совершать их тем, кто по своему социальному положению и набитости знаниями как будто мог и должен был их сделать; зато тем, кто их действительно совершал, он до времени не давал возможности заявлять о своих достижениях.
Так парадоксальным образом воздавалось Свыше и хорошо пристроившимся при науке людям, успевшим уже позабыть, каких жертв требует от ищущих каждый новый значительный шаг к познанию неведомого, и людям, не пользующимся поддержкой ни с чьей стороны, кроме любящих их, которые штурмуют неприступные стены исключительно на свой страх и риск, опираясь лишь на свою веру, что стены можно одолеть, когда такой огонь желания разрешить проблему бушует внутри существа и не унимается либо до победы, либо до смерти.
Многое, очень многое убеждало Михаила в том, что перенасыщение знаниями даже очень способных умов не способствовало в ожидаемой степени и более того – не способствовало вообще – подлинно новаторскому творчеству в науке, технике и даже во многих далеких от точных, естественных и прикладных наук отраслях. К примеру, кто больше всех сведущ в литературе, поэзии, в знании всех ее приемов и стилей, чем литературоведы и литературные критики? Никто. А кто из них сумел создать что-либо заслуживающее любви и уважения современников, не то что потомков, в области собственно художественного творчества? Тоже никто. Ну, это ладно – Бог с ней, с литературной беспомощностью профессиональных литзнатоков. В науке-то все происходит сложнее, неэпохальные открытия на основе образованности в профессиональной среде там худо-бедно, с тем или иным скрипом все-таки случаются, но в судьбу эпохальных свершений слишком уж часто вторгаются непрофессионалы или, по крайней мере, не элитарно образованные профессионалы.
Достаточно вспомнить таких подлинных новаторов в своих сферах деятельности, как Майкл Фарадей, тот же Томас Алва Эдисон, и даже выдающийся советский физик академик Яков Борисович Зельдович, вообще не имевший формального высшего образования. Таким талантливым самоучкам должны были завидовать – и завидовали, да еще как! – их коллеги с дипломами, учеными званиями и степенями, полученными по всем правилам после разгрызания всех камней науки от Ромула до наших дней, но главное – после получения одобрительной оценки от своих многоуважаемых (часто только по виду) учителей, возглавляющих «признанные научные школы».
Самоучки, до поры-до времени не признаваемые, не спонсируемые, без денег и званий шли к своим целям исключительно по призванию Свыше, честное служение которому доводило их внутренние творческие способности до уровня гениальности, а волевая неотступность от своих сверхзадач позволяла им с самовоспитанной с Божьей помощью гениальностью проложить путь к успеху сквозь все препятствия, специально создаваемые другими заинтересованными людьми.
Получалось, что пресыщенность знаниями исправно превращала потенциально способных работников из экспансионистов в консерваторов еще до того, как они приступали к своей собственной изыскательной деятельности. И редко кто из тех, кто надеялся именно путем получения высшей образованности проявить себя способным к крупным новациям творцом, вовремя останавливал себя перед этим заманчивым тупиком.
В молодости будущий академик Отто Юльевич Шмидт наверняка полагал, что путь к научным открытиям лежит именно через сверхобразованность. Он происходил из культурной семьи, а по роду своей ментальности, не только по происхождению, принадлежал к высшей степени честным немецким идеалистам-служителям и хранителям знаний. Он и начал свою жизнь в науке с того, что составил список книг, которые ему следовало изучить в порядке подготовки к собственному прорыву. Но вскоре Отто Юльевич пришел в ужас от того, сколько времени поглощает знакомство со всеми вроде бы относящимися к делу трудами предшественников, поняв, что с такой скоростью он в течение всей своей жизни так и не справится с их усвоением. Поэтому он резко, не меньше, чем на порядок, сократил список подлежащих прочтению книг. И все-таки своим высшим успехом – созданием космогонической теории возникновения Солнечной системы – он был обязан скорее Божьему Дару за свою научную и человеческую честность, чем своей незаурядной образованности. Не зря же он был ценим и уважаем людьми за то, что говорил одним и тем же языком и с властителем, и с кем угодно еще – вплоть до судового кочегара, никого не унижая, но и не роняя себя. Кроме того, он не стремился предохранить свою жизнь от риска и принимал самое деятельное участие в опасных экспедициях в Северном Ледовитом океане. Там он наверняка при встрече лицом к лицу с первозданной натурой и ее стихиями очень многое переплавил в своей душе и уме в совершенно иной продукт, чем тот, который сложился там у него под воздействием образования. Звездное небо, не затмеваемое огнями цивилизованных мест, льды, малоизвестные и вовсе неизвестные острова, жизнь на кораблях, очень слабо приспособленных к столкновению с мощью плавучих льдов, наконец, после гибели парохода «Челюскин» и вовсе на дрейфующем в торосящемся льду, можно сказать, силой взыскали в нем новое виденье мира и породили новые представления о его действительном, но пока что скрытом от других наблюдателей и аналитиков его устройстве.
Размышляя об Отто Юльевиче Шмидте, как, впрочем, и о себе самом, Михаил всерьез склонялся к выводу, что двигать науку вперед, отправляясь от одних только прежних научных теорий и интерпретируемых этими теориями практических наблюдений принципиально невозможно. Новые гипотезы, оказывающиеся затем продуктивными теориями для очередного этапа развития ряда наук, обязательно основываются еще и на вере в правомерность многого игнорируемого или отрицаемого устоявшейся, так сказать – ортодоксальной наукой. Наука в лице своих официальных блюстителей и хранителей слишком часто не желает ни видеть чего-либо, ни признавать, ни рассматривать. А ведь те, кто преподносит блюстителям неудобные для них вещи, наблюдения и объяснения, отнюдь не менее способны, умны и наблюдательны – просто более уязвимы для недобросовестной критики и преследований со стороны консерваторов, совсем неглупых и изобретательных в подобных делах. Закономерно было такое поведение сопротивляющихся, противящихся прогрессу? Несомненно – ведь каждый сущий должен печься прежде всего о своих персональных интересах, а о науке или любом другом «общем деле» – потом. Консерватизм любого индивида, обеспечивающий стабильность его положения в обществе и личное благосостояние, предопределен Промыслом Создателя – точно так же, как этим же Промыслом экспансионизм новаторов Предопределен как взламыватель консерватизма тех, кто не желает перемен. Таким образом, сопротивление новациям гарантировалось всегда, чего бы эти новации ни касались, к чему бы ни относились. Грядущие благодетели человечества почти всегда обращались за поддержкой и признанием не по адресу. Максов Планков в мире было куда меньше, чем Кротовых и Симаковых, в любые времена. В будущем они могут вымереть как порода и социальное явление. Но вот порода Кротовых и Симаковых никогда не переведется. Просто им будет делаться все трудней и трудней жить и добиваться признания.
Новое утро выдалось солнечным, но холодным. Встречный ветер не ослабел. Собираясь в путь, Михаил раздумывал, стоит ли ему продолжить путь в гидрокостюме. Пороги уже кончились. Дождя вроде тоже не ожидалось. Поэтому преть под резиной казалось не обязательным. И все-таки он решил не отказываться от ее защиты. Случись в пути что-то непредвиденное, выручить его могла только собственная предусмотрительность и готовность к довольно длительному пребыванию в холодной воде.
В этот день впервые стало очень заметно, что хребты по обе стороны потока начали понижаться, хотя дно долины не расширилось, а склоны не стали менее крутыми. Не сегодня-завтра можно было наткнуться на местных рыбаков или охотников, поднявшихся от устья Реки на моторе, если, конечно, в наступившие времена ценность добычи могла перекрыть несуразно высокую стоимость горючего. Оно и в Москве было очень дорого, а уж в такой дали от центров снабжения – тем более.
Михаилу вспомнились прошлые встречи с местными промысловиками на Печоре и ее притоках, на Енисее в Саянском Коридоре, на Подкаменной Тунгуске и Витиме. Люди поднимались против сильного течения на сотни километров в больших деревянных лодках с прожорливыми подвесными моторами и одной или двумя двухсотлитровыми бочками бензина на борту. Теперь подобное вряд ли было возможно, а, стало быть, и встречи с посланцами из аванпостов цивилизации были практически исключены.
Вскоре мысли Михаила закрутились в другом направлении. Почему большинству людей так трудно распознать свое подлинное призвание в этом мире – настолько трудно, что многие за долгую жизнь не успевают даже догадаться о нем? Моцарты, Пушкины, Лермонтовы и Ландау тут явно не в счет. Хорошо, если человек успевает сделать осознанный выбор к окончанию школы и таким образом получает возможность поступить именно в тот институт, в котором с наименьшими затратами времени и усилий рассчитывает набраться необходимых начальных знаний в будущей профессии. А если призвание осознается позже – не в семнадцать-восемнадцать, а в тридцать, сорок или даже пятьдесят? Почему столь недолгое время отпускается тогда Небесами на те самые главные и осмысленные труды, которыми надо было бы заниматься насквозь всю свою взрослую жизнь от юности и до конца? Почему начисто забывается все умственное и духовное достояние, нажитое данной личностью в прошлых ее существованиях, из-за чего в текущем существовании ей приходится практически все начинать с нуля? Или таково кармическое наказание за греховность прошлых жизней, заслуженное почти ста процентами людей с редкими известными исключениями? О прежних жизнях помнил легендарный граф Калиостро, об одной – Даниил Леонидович Андреев. Еще один советский пенсионер – герой одной из радиопередач, фамилию которого Михаил не догадался записать, а потом забыл, помнил, по его словам, порядка сорока своих прошлых жизней, из которых он в двадцати четырех умирал насильственной смертью. В числе последних была и та, которую он геройски принял вместе с тремя сотнями гоплитов во главе со спартанским царем Леонидом в Фермопильском сражении против армии персов в 480 году до новой эры, которую они ценой своих жизней так и не пропустили на Пелопоннес. В той радиопередаче говорилось, что в доказательство своего участия в той достославной битве пенсионер привел ранее неизвестные историкам обстоятельства, которым после его сообщения нашли подтверждение на местности. Так что изредка людям как будто удавалось получать живые свидетельства из далекого прошлого. В Индии, конечно, это никого бы не удивило, но для современного европейца или американца такие явления воспринимались как невозможные. Подумать только, какими бы мы все оказались полиглотами, если бы помнили хотя бы те языки, которыми свободно пользовались в прошлых жизнях! Сколько недоразумений, обид и конфликтов можно было бы избежать при наличии всего лишь элементарного понимания чужой речи! А тем более – памяти о том, кем ты сам только ни был из племен нынешних друзей и врагов! Но нет, опять же за редчайшими исключениями, зафиксированными в истории, не помним, не владеем.
Михаила давно занимала тема беспамятства о прошлых жизнях. Получалось, что самым ценным своим богатством – опытом и знаниями, добытыми в прошлых жизнях – мы просто не можем воспользоваться в нынешней, хотя по всему выходило, что они записаны за каждым и не уничтожены – просто с помощью некоторой процедуры перед каждым новым появлением на свет память о прошлом опыте выключалась на одну жизнь. И однажды его осенило – он вдруг понял, как это может происходить. А помог догадаться не кто-нибудь, а великий писатель Чингиз Айтматов, описавший в романе «Буранный полустанок», как некое степное племя имело обычай превращать своих пленников в рабов – идиотов, которых называли манкуртами. Гнусная технология обезмысливания человека состояла в том, что с шеи свежеубитого верблюда трубкой снималась шкура и ее тут же натягивали на голову пленника. Ссыхаясь, она оказывала страшное давление на череп – такое, что девять из десяти подвергнутых этой страшной казни умирали, а один после мучений начисто терял сознание свободного самодеятельного человека и был способен только к бездумному выполнению приказов хозяина. Эта образная картина расчеловечивания человека неожиданным образом логически и ассоциативно сопоставилась в сознании Михаила с другим очень сходным испытанием, которому подвергаются почти все люди (за исключением родившихся после кесарева сечения, да и те не наверняка). Ведь во время родов ребенок обычно головой вперед проходит через материнские родовые пути, подвергая их при этом страшному давлению, одновременно растягивая, а то и разрывая их. О страданиях матери-роженицы всем хорошо известно, а вот о том, что ребенок испытывает точно такое же силовое воздействие, только не разрывающее, а сдавливающее, не думает почти никто – ведь новорожденные не жалуются, даже если вопят, выйдя на свет. Слабый, еще не окостеневший череп подвергается, по сути дела, точно тому же ужасному испытанию, что и голова человека, из которого делают манкурта. Может, и впрямь родовой процесс включает в себя операцию купирования прошлых знаний той уже многознающей неумирающей человеческой души, воплощающейся в очередное бренное тело? Серьезных доводов против такой гипотезы Михаил не видел. А что до «кесарят», то ведь и внутри матки тельце ребенка плотно и с немалой силой обжато, да и притом в течение долгих месяцев. Вот и «кесарята» не помнят прошлого, только в сравнении с нормально родившимися детьми они, как слышал Михаил, тоже что-то теряют в своем психическом здоровье, правда, толком неведомо, что.





