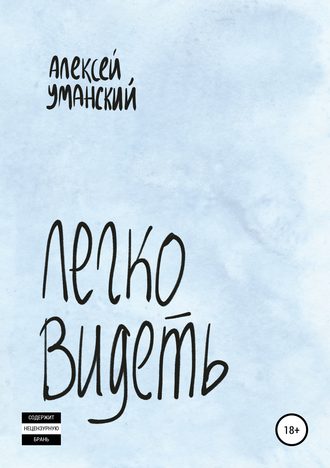 полная версия
полная версияЛегко видеть
Только после окончания первого курса института, побывав в Ленинграде у самого младшего из маминых кузенов Владимира, Михаил, наконец, понял, в чем обвинялся дядя Мирон, и что в его поведении считалось неслыханной и нетерпимой, позорящей род вещью. Спросив своего молодого дядю о Мироне, Михаил услышал в ответ, что в свое студенческое время Владимир сильно нуждался. Однажды он посетовал на это в разговоре с двоюродным братом Мироном, а тот сразу дал ему совет, следуя которому можно было бы забыть о всех житейских неприятностях: «Чего проще? Обзаведись охочей бабочкой старше себя. Будешь как сыр в масле кататься!» Владимир – горячий, благородный, романтического настроя человек и поэт – был до крайности возмущен советом стать альфонсом. И хотя у Миши с Владимиром (несмотря на разницу в возрасте) сложились отношения скорей как между сверстниками, притом романтиками, этот совет насчет жизнеустройства, который Мирон несомненно проверил на себе, прежде чем порекомендовать кузену, почему-то не произвел на Михаила сплошь отталкивающего впечатления. Ну не тянул дядя Мирон на заправского альфонса, определенно чем-то не тянул. Само собой в памяти вставало лицо дяди Мирона, когда Михаил вновь и вновь думал об этом. Полногубый, полнощекий, с припухшими веками вокруг казавшихся несколько на выкате глаз, с остатками растительности по бокам головы и на затылке, то есть далеко не красавец, он все равно выглядел приятным человеком и располагал к себе. А уж как любили его зрелые женщины, с которыми он вступал в связь! Значит, было за что, и, само собой, было понятно, за что именно было! Собственно, маялись они с Мироном только из-за одного: по доброте и мягкости характера он старался никого не бросать, когда заводил новую пассию. И видно, в общих чертах его на всех их хватало! Но все равно каждая из его женщин старалась отшить его от других и несмотря на неудачи, любила. Это надо было уметь. Перебирая подробности в своем уме, Михаил все больше склонялся к выводу, что даже если в молодости дядю Мирона действительно содержали охочие дамочки, все равно в ответ на получаемые от них деньги, кров, еду и услуги он отдавал им явно не меньше, потому что ему нравились такие женщины – щедрые во всех отношениях обладательницы крупных форм, которых он с энтузиазмом доводил в постели до экстаза. К тому же он сам давным-давно стал очень хорошо зарабатывать и не испытывал никакой нужды общаться с такими женщинами, кроме как мужчина, сам искренне влекомый к ним! Разве можно было равнять его с настоящими альфонсами, профессионально извлекающими деньги из своих половых связей? Нет, такого пятна на своей житейской репутации Мирон все-таки не заслуживал. Самое смешное заключалось в том, что родные настолько приучили его к ношению этого клейма, что встречаясь даже с Михаилом – тогда всего лишь подростком – дядя считал себя обязанным бормотать что-то не особенно внятное о своем несовершенстве и извинения за него. Да таких мужчин надо было поискать! Сколько дам встречали его как своего рода мессию – посланца Небес – чтобы узнать с ним счастье в той очень невеселой жизни, какой в то время они жили сами, как и вся страна, потерявшая десятки миллионов мужчин и оставшаяся с миллионами неудовлетворяемых женщин. О какой корысти с его стороны можно было говорить, когда он зажигал свет в душах своих пассий, когда они сами изо всех сил стремились сделать ему приятное в ответ? Неужели его работа, которую он выполнял с любовью и охотой, не стоила их привязанности, благодарности и любви? Да всем им, наверно, казалось, что за приносимое им счастье невозможно расплатиться ничем, кроме преданнейшей и неизменной готовности сделать то, что ему будет в радость! Споря за него с конкурентками, каждая была готова на все, чтобы полностью завладеть предметом своей любви, восторга и восхищения. Но в таком случае, если бы победила только одна из них, как бы он облагодетельствовал тех, кого мог? Вот поэтому-то он остался верен всем в той мере, в какой это было возможно. Нет, не стоило родне так напропалую клеймить человека, творящего добро, хотя и не в соответствии с господствующей моралью. Давно уж не стало на свете дяди Мирона, но Михаил не сомневался, что осталось много тех, кто добром поминал его и возносил мольбу за его по всем канонам грешную душу. Если их заступничество что-то значило на Страшном суде, разве он не мог надеяться на получение Божественного прощения? Ведь за какую-то часть грехов он заплатил еще здесь, на земле. Ему выпало тяжело умирать, потому что боль рвала его сердце до крика. Может быть, так ему воздавалось за сердечные муки женщин, старавшихся сделать его только своим – и ничьим больше, но никогда этого не достигавших?
Перебрав в голове вроде бы все, касавшееся дяди Мирона, Михаил вдруг словно споткнулся обо что-то. В первый миг он еще не понял обо что, но следом осознал – это было то единственное, что прямо относилось не только к Мирону, но и к нему тоже. Анна Павловна!
Единственная женщина, любившая его дядю, которую Михаил знал в лицо, и первая зрелая женщина в возрасте его матери, к которой его повлекло совершенно иначе, чем к любимой девочке-сверстнице Ирочке Голубевой. Анна Павловна явно отличалась особым шармом среди Мироновых пассий, поскольку ее одну признавала и принимала Мишина Харьковская родня. Она часто бывала в доме его дедушки и бабушки. Там-то он и разглядел ее со всех сторон.
Милая, с добрым красивым лицом, с будоражащим воображение телом из крупных, хорошо сочетающихся в целое форм благородных пропорций, словом, жгучая южная брюнетка, она в первую очередь воспринималась образцовой женщиной для дома, а уж потом только микробиологом или кем-то еще. Анна Павловна несколько раз приводила Мишу к себе на работу в Мечниковский институт, рассказывала о своих научных занятиях. Однако гораздо важней и приятней были для него другие встречи – у нее дома, куда доступ ему был всегда открыт. Он старался бывать там возможно чаще – насколько позволяли его представления о приличиях.
Если не считать дядю Мирона, жившего далеко в Москве, рядом с Анной Павловной Миша не видел ни одного мужчину. Это слегка удивляло, но обычно нисколько не занимало мальчишеского сознания.
Миша всем телом льнул к Анне Павловне (всегда к Анне Павловне, а не к Анне, Нюте – как ее называли старшие, и даже не к тете Ане), когда умещался на диване рядом с ней, занимавшейся каким-нибудь рукоделием. Кстати, незадолго до этого похода Михаил случайно наткнулся на свою старую фотографию – там как раз Анна Павловна вышивала по канве подушку, и отчего-то сразу разволновался – почти как тогда, когда его руки и губы сами тянулись к ней. И он обнимал ее вокруг торса, целовал губы и лицо, но на большее не отважился – воспитание неодолимой тяжестью наливало руки, когда им страшно хотелось проникнуть к ее груди или в совсем потаенное место, при мысли о котором у него едва не плавились мозги.
Анна Павловна нередко отвечала ему теми же, только менее страстными ласками. Она ни разу ни от чего не уклонилась, ничего не пресекла, но и сама ни разу не позволила себе ни поощрительного слова, ни жеста, который Миша мог бы счесть сигналом об открытии крепостных ворот. И все-таки сейчас Михаил задавался вопросом, позволила бы она дойти до конца, если бы у него хватило решимости действовать без спроса, без оглядки на приличия? Или он упустил свой первый в жизни шанс не только из-за своей психической неготовности, но и из-за ее нежелания путаться с таким маленьким, хотя и симпатичным щеночком, каким он тогда в ее глазах был? Не надо было иметь особую проницательность, чтобы видеть это невооруженным глазом и понять, что конкуренцию своему дяде он не составит. Ведь даже в те минуты взаимных родственных ласк Анна Павловна могла при случае спросить у Миши, что он знает о житье-бытье Мирона в Москве. Кое- о чем Миша знал. Источником сведений была его кузина Тамара, родная племянница Мирона, который, кстати, по доброте своей регулярно помогал деньгами ее матери, своей сестре, еле сводившей концы с концами без мужа. Когда Миша бесхитростно пересказывал Тамарины слова, благодарная, хотя и кое-чем огорченная Анна Павловна ласкала его, пожалуй, нежнее обычного. И все-таки без знака с ее стороны готовая сорваться лавина так и не сошла. А жаль.
О том, что могло бы быть у него с Анной Павловной, взрослый Михаил постепенно узнавал из опыта жизни, а еще больше и красочней – из замечательных произведений знаменитых писателей.
Сильнее всех его впечатлила история, рассказанная одним из величайших мастеров мировой литературы и ее радикальным преобразователем, внёсшим дух абсолютной откровенности во все, о чем только могут говорить и думать на страницах книг их герои, Генри Миллером в романе «Черная весна». В том эпизоде действующими лицами являлись сам Генри и только что овдовевшая любовница его отца Кора Декстер. Отец тогда настоял, чтобы сын тоже высказал вдове свои соболезнования. Генри подчинился, видимо, одновременно с желанием и с неохотой. Ему было явно трудно лепетать фальшивые фразы сочувствия, во-первых, потому что покойный муж был никчемный пропойца и доброго слова не стоил, а, во-вторых, потому что от прелестей вдовы, затянутой в черное траурное бархатное платье, в его голове кипело желание совсем другого рода. Он недолго смог усидеть рядом с вдовой на диванчике – пока не дошел до такого градуса, что задрал ей подол и вставил своего молодца, куда полагалось. Вдова была более чем утешена, и Генри больше никогда не приходилось задирать ей подол или стаскивать платье, потому что вдова опережающим образом раздевалась сама. У Михаила не было сомнений, сколь обоюдно упоительными стали соития Генри с этой дамой (правда, он был все-таки старше Миши года на два). И все-таки сам Миллер приспустил свои восторги с небесных высот до уровня обыденности следующими заключительными словами: «Она была легкой добычей». Впрочем, в другом варианте перевода «Черной весны» Михаил прочел в том же месте нечто иное: «Любой мог подойти и сделать с ней, что угодно». Быть легкой добычей и допускать в сексе что угодно, значило не одно и то же, хотя обе фразы били в одну цель, но как было в оригинале у Миллера, Михаил так и не узнал.
Вот в романе Жоржи Амаду «Возвращение блудной дочери» героиня Тьета вернулась в родной провинциальный город, в котором много лет не бывала, уже не проституткой, а хозяйкой шикарного борделя, обслуживающего «сливки общества» в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу. На родине в семье сестры она сразу положила глаз на своего юного племянника-семинариста, который и сам загорелся желанием при виде прелестей тети. Тьета разожгла его еще сильней, попросив перед сном натереть ей спину кремом, а потом прямо спросила, естественно, заранее зная ответ: «Ты грезишь обо мне?» Он, разумеется, грезил. И в итоге без задержки в атмосфере взаимного энтузиазма постиг всё относящееся к желанному делу.
Сходный сюжет был и в романе «Ангел мой», написанном мастером изящной словесности и знатоком сексуальных дел Сидони-Габриэль Колетт. Богатая парижская куртизанка Леа взяла на воспитание и содержание подростка – сына своей близкой знакомой и коллеги по роду занятий. Мать этого юного ангела, без сомнения, представляла, в курс каких наук введут ее мальчика, но это со всех сторон устраивало ее. Все равно сынок вот-вот сам начнет бесконтрольную половую жизнь с кем попало – так пусть уж лучше им будет руководить настоящий знаток своего дела, который сможет обеспечить ему роскошный быт, избавив мать от больших расходов, а заодно и от опасений, что мальчик подхватит дурную болезнь от уличной проститутки или в борделе. Герои этого романа были довольны друг другом долгое время, хотя и не всю жизнь.
Все эти примеры говорили Михаилу об одном – связи зрелых женщин с несовершеннолетними любовниками не выглядели ни преступными, ни аморальными. Да, у опытных дам был специфический вкус и интерес к очень юным партнерам, от которых они имели свой «плезир». Но ведь и те не были в накладе, бесплатно обретая высокую квалификацию в жизненно важном деле, а, главное, получая еще больший плезир от своих взрослых возлюбленных – уж в этом-то сомневаться не приходилось! И хотя в случае с Анной Павловной Михаил лишь слегка прикоснулся к таинству взаимных тяготений мужчины и женщины, отпечаток от встречи с ней, оказывается, так и не стерся во все последующие пятьдесят с лишним лет. Если оставить в стороне несколько первых увлечений сверстницами, Михаил – это было теперь очевидно – постоянно отдавал предпочтение статным дамам старше себя по возрасту, с рельефной пропорциональной фигурой и прекрасным одухотворенным лицом, почти всегда темным шатенкам или брюнеткам. И в начале этого ряда стояла именно Анна Павловна, под чьим воздействием любовь впервые заговорила с ним не невразумительным и неопределенным языком романтических чувств, а ударным языком великолепного роскошного женского тела, воплощающего в себе высшую эстетику и мудрость мира.
Как он ухитрился не вспоминать о ней столько лет?
А что касается совета дяди Мирона кузену Владимиру, то давал он его с полной искренностью, убежденный в том, что мужчина, заслуживающий этого имени, будет творить и отдавать не меньшее благо женщине, чем то, которое мог от нее получить. Теперь, правда, по многим данным, современные сексуально раскованные женщины готовы были идти дальше своих охочих предшественниц, состязавшихся за обладание одним мужиком. Им и одного на одну не хватало. Кому требовался гарем из мужчин, кому триосекс или кварто. Вряд ли и в прежние времена обходилось без этого, но теперь таких вещей уже не скрывали, то есть могли хотеть и не скрывать и даже широко пропагандировать свои пристрастия. Среди знакомых Михаила таких, конечно, не было – они в другое время состоялись – а нынешним это не казалось ни дикостью, ни бессовестностью. Просто всем сразу может быть хорошо. Но особенно – даме, которую берут во все места, принося ей сразу сумму наслаждений от всех видов сопряжений. Его бы не удивило, если бы Гале это не было чуждо, тем более в художественно-артистической среде. Там, собственно, раньше всего реализуются подобные фантазии, прежде чем распространиться во всем обществе и стать новой нормой. Не обязательно было считать ее хуже прежней. У всех фантазий был лишь один недостаток – любая из них уводила все дальше от одухотворенной любви, давая взамен нечто куда более ненадежное и скоропортящееся, хотя и несомненно приятное для тех, кому мало простого естества. И Галя, будь она заинтересована в подобных вещах, не упала бы в его мнении. Но заинтересовать его этим она бы тоже не смогла. Одно могло сейчас сработать в ее пользу – именно то, что теперь он особенно заторопился к Марине. Смешно получалось – раньше он специально останавливался в пути, чтобы отпустить ее и компанию дальше – и не получилось, а чем закончилось – известно; теперь же он, ничего не делая, мог их всех догнать и перегнать, если в борьбе с ветром они не додумаются до «оплеухи». В то время, как подповерхностное течение тащило «Рекин» со скоростью десять километров в час, на веслах против такого сильного ветра на каркасных байдарках можно было двигаться, не щадя живота своего, от силы со скоростью пять километров в час. Простые подсчеты говорили, что максимум через пару дней Михаил их достанет безо всякого труда. Встреча снова могла стать реальностью и привести к осложнениям, которых он совсем не желал, несмотря на вполне возможное сексуальное вознаграждение за победу в этой внезапно оживившейся гонке. Но тормозить он все равно больше не собирался, поскольку явно не мог своими решениями и действиями повлиять на то, чтобы исключить встречи с Галиной компанией. Ни в прошлом, когда он искусственно замедлял свой сплав, ни сейчас, когда это смертельно надоело, поскольку отодвигало возвращение в Москву к Марине, хотя и грозило вновь столкнуть его с женщиной, от которой трудно отказываться, когда она сама рвется к тебе, и теперь все зависело от того, найдут ли в Галиной компании тот же способ экономии сил и увеличения скорости сплава, который успешно использовал он. Найдут – встречи не будет. Не найдут – новых испытаний не избежать.
Михаил решил остановиться сегодня не позже, чем за два часа до наступления темноты. Следовательно, начать искать подходящее место надо было еще часом раньше. Но пока что до этого было далеко. Изредка его подмывало пристать к подножью очередного утеса, чтобы подняться на него и поснимать, но он тут же напоминал себе, что примерно такое он уже неоднократно заснял, и ради этого жертвовать «оплеухой», с которой ему не удалось бы пристать, нет никакого смысла. «Вперед! Вперед! Вперед!» – понукал кто-то из глубины существа, получивший, наконец, возможность выразить свое возмущение волынкой на маршруте и решительно покончить с ней. – «Дурак! – кипел этот кто-то. – Дурак уже тем, что осуществил «мечту идиота» и поперся сюда за тридевять земель от Марины. Теперь вот и расхлебывай за это новый грех перед ней!» М-да. Отягощать карму свежими художествами с Галей, тем более, вопреки своему желанию, было столь же нелепо, сколь и опасно. Мало ли чего можно было дождаться за это от Господа Бога. – «Прелести прелестями, но ведь недаром ими стараются сбить тебя с панталыку, – думал он. – Плохо держишься против покушений на себя, очень плохо! Сперва поддался соблазну пройти на старости лет серьезный маршрут. В результате подвергся еще одному соблазну, уже гораздо менее простительному, и вынужден был доказывать, что к тому же годишься еще для удовлетворения любопытства и аппетита случайно встреченной на пути следования малознакомой, но весьма эффектной и требовательной дамы.
Он не нашел, что еще может добавить в список своих глупостей, но настроение себе все-таки испортил. Только вечером, уже в сумерках, когда он переделал все свои бивачные дела и теперь спокойно потягивал из кружки чаек, запивая им кисло-сладкие карамельки, к нему вернулось ощущение блаженства. Ветер сдувал гнус. Беспокойство насчет своего поведения с Галей куда-то отступило. Вспомнилось, что в таком настроении они с Мариной вечеряли множество раз. Говорили о чем-то взаимно интересном, выясняли истины, ласкали дожидающихся вечерней кормежки собак. Они лежали у ног и дремали или, беспокоясь из-за задержки еды, выразительно вопрошали, что же это происходит, почему никто не беспокоится о детях и им самим приходится об этом напоминать? Эти лохматые дети не меньше дороги, чем кровные. К тому же они постоянно были ближе двуногих детей и постоянно были открыты для ласки и сами были готовы ласкать, если не спали. Сколько покоя они вносили в души смотрящих за ними людей, в очередной раз поражающихся, как можно столь истово, глубоко и серьезно погружаться в пучину сна и блуждать там в неведомых сферах, порой перебирая лапами в воздухе или по полу и глухо взлаивая с закрытым ртом.
Думая о сегодняшнем сплаве, Михаил нашел в нем не одни только приятные стороны. Тело от долгого сидения в одном положении затекало, хотелось размяться на берегу, но для этого пришлось бы расстаться с «оплеухой», а потом вырубать новую елку и вновь привязывать ее к буксировочной бечеве. Это было и хлопотно и совестно, а на практике вело к тому, чтобы стараться высидеть в кокпите возможно дольше, прежде чем будешь вынужден по неотложной надобности куда-нибудь пристать. А еще с непривычки сидеть на борту без видимой работы было скучновато. Хорошо хоть воспоминания и мысли по их поводу шли одни за другими почти непрерывающейся чередой. Иногда они появлялись и поражали Михаила своей немотивированностью с точки зрения того бытия, в котором он здесь пребывал. Например, он ни с того – ни с сего подумал о гигантском холсте, который знаменитый живописец Павел Дмитриевич Корин заказал для своей картины «Русь уходящая». Он написал для нее большое число крупноразмерных этюдов, многие из которых могли считаться шедеврами живописи, но свой общий замысел так и не воплотил. Он даже не прикоснулся к гигантскому полотну – то ли окончательно не утвердился в намеченной композиции, то ли понял, что не успеет написать все задуманное сам, а доверить продолжение работы по своим эскизам помощникам, в коих не было недостатка, категорически не хотел. Живший в нем зрительный образ духовной катастрофы и отчаяния, охватившего народ, который вынужден безмолвствовать при виде кощунственного глумления над самым священным, дабы только уцелеть, так и остался нереализованным. Пример из жизни Павла Дмитриевича, раз уж он пришел в голову (а здесь в голову ничего случайного, тем более зряшного, не приходило), взывал к осмыслению судьбы картины. Неясным оставалось очень многое. Перво-наперво – для Корина, взявшегося за тему трагического гонения на христианскую веру почти через две тысячи лет после рождения Христа, наверняка был исключительно важен пример и подвиг Александра Андреевича Иванова с его главным делом жизни – картиной «Явление Христа народу», над которой он трудился двадцать лет. Пожалуй, этих двух живописцев можно было назвать конгениальными. Оба с пронзительной ясностью чувствовали в себе долг воплотить христианскую мученическую идею на своих полотнах, и оба посвятили этой своей сверхзадаче самые продуктивные годы творчества. Иванов, написавший многие десятки эскизов к главному полотну – эскиз, конечно, не то слово – это были полноценные готовые фрагменты картины, успел закончить ее, и Корин, исследовав работу предшественника, понял, что и у него другого пути нет. Шаг за шагом, фрагмент за фрагментом, по примеру Иванова, последовательно приближался к будущей композиции, но заготовленное для нее полотно, тем не менее, не тронул. Вряд ли он заранее не представлял всех трудностей, которые возникнут при совмещении уже написанных им фрагментов в задуманное целое, но ведь оно уже сидело, сформировалось в его голове, а усидчивости и терпения ему было не занимать, так что, «технически» – условно говоря – он созрел для создания картины такого масштаба, у которой почти не было аналогов в истории жизни – кроме «Страшного суда» Микеланджело и «Явление Христа народу» Иванова. Так что же его остановило? Робость при мысли, что он не справится с написанием картины? Нет, по всему выходило, что он мог справиться со своей сверхзадачей не хуже Иванова. Тогда что ввергло его в сомнение? А не было ли причиной его осмысление подвига жизни Александра Андреевича Иванова и его итогового результата? В этом месте своих рассуждений Михаил почувствовал, что весь подобрался и напрягся, как перед прыжком. При всем уважении к Иванову и проделанной им работе он всегда ощущал, что громадное полотно, призванное зрительным способом возвестить человечеству, как и с чего начался переворот в чувствах и сознании людей, ожидающих пришествие Царствия Божия на Земле, на самом деле этой цели не достигло. Оно впечатляло размерами, отчасти композицией, особенно на первом плане, но что наступает с приближением человека, отдаленного от Иоанна Крестителя и обращенных им в веру, оставалось неясно. Небольшая фигура Христа, будущего Спасителя, то ли была не совсем в фокусе ожиданий толпы, хотя директрису к ней жест Иоанна Крестителя несомненно задал, то ли окружившая ее неопределенность некоторым образом вошла в противоречие с уверенностью и определенностью обещаний Иоанна, взбудораживших толпу и зажигавших веру в сердцах пришедших на крещение людей, но картина должным образом не впечатляла. Идея торжества новой жизни с пришествием Христа осталась скорей номинальной, чем зримо воплощенной. И не того ли испугался Корин, шедший к решению собственной творческой сверхзадачи тем же путем, каким к решению своей шел Александр Иванов?
Конечно, Михаил не мог утверждать, что именно так случилось у Корина, но гипотеза появилась явно не на голом месте. Наверняка Павел Дмитриевич, мысленно примериваясь к сверхзадаче Иванова (а в то, что он примеривался, сомнений не могло быть никаких) и к тому, как тот ее решил, приходил к выводу, что надо было решать ее как-то иначе – и это отнюдь нельзя было считать святотатством в отношении подвижника – предшественника. Требовалось иначе расставить акценты, а, следовательно, искать другую композицию, иное размещение фигур и поз, возможно даже избрать другой фоновый пейзаж. И если только Корин не перенес на себя и свой сложившийся замысел возможные претензии к нему будущих зрителей по типу тех, которые он сам теперь имел к своему великому протоучителю, то что еще могло заставить его оставить свой холст без единого мазка в течение ряда лет? Да, с некоторой неуверенностью в безошибочности задуманного с точки зрения достижения должного эффекта приниматься за такую работу было очень трудно. И все же жаль было, что Павел Дмитриевич не прошел свой путь до конца, как это сделал Александр Андреевич, труд которого все-таки стал необыкновенным явлением – пусть не самого Христа, но безусловно явлением в истории живописи.
Значит, вот в чем было дело, вот с каким смыслом сейчас была занесена в голову Михаила мысль о картине Корина «Русь уходящая», о которой он вспоминал очень редко – лучше было попытаться довести решение своей сверхзадачи до определенного конца, чем не попытаться, заранее боясь, что идеально убедительный результат не будет достигнут. В конце концов, разве глубоко верующий человек не мог надеяться на помощь Господа Бога, по чьей Верховной Воле сверхзадачи вообще оказываются в чьих-то головах? Избранник Всевышнего обязан стараться придти к тому, к чему он Призван Свыше, чего бы ни стоило, какие бы сомнения и нехватки ни мучили, сколько бы ни было кругом насмешников и врагов или просто откровенно равнодушных ко всему способному возвысить мысль и дух у других людей.





