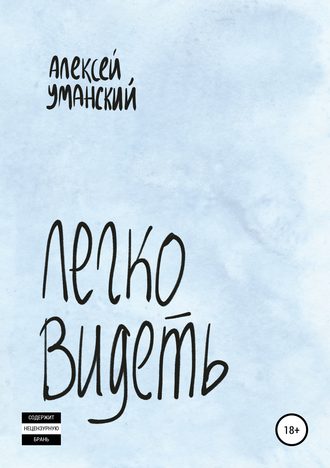 полная версия
полная версияЛегко видеть
В жизни Михаила случались вещи, которые он сделал так, как считал нужным – и в итоге такими, какими он мечтал сделать их. Но он никогда не думал, что качество работы, которого уже добился и которым оставался доволен, оградит его от критики. Свою задачу и оценку собственного труда он в этом смысле формулировал так: я должен был сделать так, чтобы мне не было стыдно за себя перед Господом Богом, и я думаю, что этого достиг, а люди пусть говорят, что угодно.
Каждый человек, по его опыту, мог сделать больше, чем смел надеяться при расчете на собственные силы, если действовал с полной отдачей и каждый раз требовал от себя большего при любой неудаче. Поэтому худшим грехом для любого творца представлялось прекращение стараний – стараний стать достойным своих собственных ожиданий. Меньше этого в качестве доказательства своей правоспособности ничего нельзя было себе предъявлять. Михаил считал своим счастьем, что свои сверхзадачи он принимался решать всерьез только тогда, когда имел силы их решить, правда, не имея уверенности в том, что доживет до конца своей работы. Принцип неопределенности Гейзенберга, похоже, был справедлив не только для квантовой физики, но и вообще для творческих процессов любого характера. Если знаешь, что надо сделать, то не знаешь, когда сумеешь сделать это и сделаешь ли за оставшуюся жизнь; если слабо представляешь наперед, что хочешь создать, то получаешь возможность завершить свой труд с неожиданно определенным результатом в приемлемое время. Михаил убедился в этом на собственном опыте. Для его литературной работы был характерен первый из приведенных случаев неопределенности, для философской работы – второй. Трудно было сказать, какой вариант требует от человека большей решимости и храбрости – это, вероятно, сильно зависело от характера творца. Корину было свойственно первое – знаешь что, но не знаешь когда и как достигнешь, Иванову второе – не вполне уверен, что получится из затеи, зато знаешь примерно каким временем располагаешь.
Однако в последнее время все чаще заявляла о себе еще одна угроза для творцов-интеллектуалов. Эпоха научно-технической революции востребовала к практическому использованию массу открытий и изобретений, совершаемых как в недрах официальной науки, так и вне производства вообще. Иными словами, впервые в человеческой истории у научных работников-новаторов появилась возможность хорошо заработать, а не только прославиться, как было прежде. А денег и славы всегда жаждали не только обладатели выдающихся дарований, но даже чаще – бездарные и завистливые амбициозно настроенные люди, обитающие около науки, устроившиеся возле нее на тепленьких и командных постах. Они бдительно следят за тем, чтобы без их имени и участия не вошло в жизнь ни одно серьезное новшество, предложенное или созданное не ими. Если они не могут или не хотят договориться об этом с авторами, они способны лишь на два типа действий – на прямой, бессовестно грубый грабеж идей с целью стать их собственниками, а если и это не получается, то – на травлю авторов вплоть до их гибели и на организацию умолчания как об авторах, так и о их достижениях.
С этой опасностью вынуждены были считаться решительно все, кто не шел в кильватере хозяев и хозяйчиков в мире науки и не желал делить свою славу и деньги с ними. Михаил хорошо знал двух человек, готовых осчастливить или ужаснуть своими открытиями всё человечество (смотря по тому в чьи руки они попадут), но так и не пробившихся к общественному признанию сквозь весьма продуманную оборону, устроенную теми, кто считал науку своей собственностью, а себя – ее корифеями. Одним из этих двоих был однокурсник Михаила по институту Вадим Кротов, другим – муж сотрудницы из его отдела Дан Симаков.
Вадим Кротов сразу бросался в глаза рублеными чертами лица, крупной головой, увенчанной вьющимися черными жесткими на вид волосами, короткой шеей и сильной нескладной фигурой. На первых же лекциях обнаружилось, что он любит задавать вопросы преподавателям, и соседи не оставили это без внимания. Однажды, поднявшись с места и задав вопрос, он согнул ноги, чтобы сесть, но промахнулся мимо сдвинутого вбок табурета и грохнулся на пол под смех окружающих. К удивлению Михаила, Вадим ничуть не обиделся – только улыбнулся, широко раскрыв рот и чем-то при этом напомнив пиноккио. В глазах тоже не было злости. Собственно, это было первое воспоминание о нем. Вскоре обнаружилось, что парень действительно настойчив и умен. Он взял себе за правило учиться «на пять» и на экзаменах не пользоваться шпаргалками. Этим установкам Вадим остался верен до конца учебы, но уже на четвертом курсе он сознался Михаилу, что зарок насчет шпаргалок дал в общем-то зря. Прагматизм, свойственный его уму, заставил признать, что в этом не было ни высокого (ну как же – всё честно!) ни практического смысла. Зубрежка не развивала мышления, а запоминание чертовой уймы конкретных фактов выглядело бессмысленным занятием на фоне множества справочников и таблиц, без которых все равно нельзя обойтись. Много позже из романа Уильяма Фолкнера «Шум и ярость» Михаил впервые узнал, что из американских университетов безжалостно выгоняют студентов, попавшихся на использовании шпаргалок. И еще много позже уже от русских преподавателей, работавших в американских университетах, услышал, что там считается моральной обязанностью студентов сообщать администрации о студентах, списывающих на экзаменах. Ничего более низкого, гнусного и отвратительного с точки зрения советского студента просто быть не могло. Они поступали совсем иначе. Если кто-то не знал билета и давал об этом знать кому-то уходящему из аудитории, остающиеся за дверью уже сдавшие и не сдавшие спешно готовили материалы для нуждающегося и уже через несколько минут доставляли их ему. Этика взаимопомощи всегда была на высоте и была хороша не только тем, что исключала доносительство, но и действительно способствовала расширению круга знаний у экзаменующихся – если они до этого чего-то не знали, то после получения шпаргалки запоминали это навек. Американскому же менталитету было чуждо оказывать помощь конкурентам, пока еще только потенциальным. Там образовательная система дальновидно, начиная с ранней стадии обучения, приучала будущих специалистов к идее исключения соперников из конкурентной борьбы любыми средствами. Среди советских же студентов считалось непристойным, как тогда говорили, «зажимать» свои знания и не делиться ими с коллегой, если тот чего-нибудь не понимал. Авторитет среди товарищей по курсу в значительной степени определялся способностью и готовностью объяснить другим то, что им не удалось понять от преподавателя или в учебнике. За годы учебы в двух институтах – в Московском Механическом – первые три курса, остальные в МВТУ, куда перевели факультет – им хоть и редко, но встречались мудрые преподаватели, которые принципиально в упор «не замечали» списывающих на экзаменах. Они вовсе не были добряками и руководствовались здравыми соображениями другого рода: в ходе экзамена человек узнает больше, чем знал до него, а чтобы выяснить, как он умеет мыслить в режиме импровизации, ему можно было задать дополнительные вопросы. Если они убеждались, что студент «рубит» предмет, то без колебаний выставляли ему хорошую или отличную отметку. Но таких преподавателей им встретилось совсем немного. Большинство предпочитало, чтобы студенты обманывали их всерьез.
На четвертом курсе, уже в МВТУ, Вадима Кротова заинтересовали проблемы динамики полета ракет. В то время это дело было совсем новое, и он очень быстро выработал оригинальный подход к их разрешению с помощью собственной системы дифференциальных уравнений, описывающих полет в пространстве в поле Земли. Работой Вадима заинтересовались на соответствующей кафедре ракетно-технического факультета МВТУ, в том числе и ее шеф, академик. Но даже с его помощью Вадим не смог перейти туда с механико-технологического факультета, на котором учился и числился. Декан последнего, известная сволочь, не отпустил его туда, где Вадим мог с особой отдачей и энтузиазмом работать в пользу государства. И дело было не только в сволочном характере декана, но и в порочной сути системы планирования подготовки специалистов для нужд народного хозяйства. Если какие-то инстанции установили, что для этого в МВТУ в таком-то году должно быть подготовлено «m» специалистов по прокатному оборудованию и технологии и «n» специалистов по ракетной технике, то перевод Кротова с факультета на факультет грозил нарушить установленную свыше пропорцию – тогда бы оказалось, что МВТУ произвел бы «m-1» инженеров по прокатке и «n+1» инженеров ракетного профиля. А посему декан, отказывая Вадиму, имел полную возможность и формальное право ссылаться на разнарядку из министерства высшего образования и считать себя подлинным защитником государственных интересов от эгоистических претензий отдельного эгоистически мыслящего студента. Однако Михаил подозревал, что дело застопорилось не только по воле декана. Академик, возглавлявший кафедру на ракетно-техническом факультете, тоже явно не употребил все свои возможности для того, чтобы заполучить перспективного студента к себе – на черта ему был такой специалист «замедленного действия», который уже превзошел именитого шефа в вопросах динамики полета и обещал совсем затмить, когда окончательно оперится и захочет стать самостоятельным. Так что похлопотал академик слегка, да на этом его заинтересованность и иссякла. Ну, да этот хоть слово замолвил. У других академиков позиция была более определенной. Михаил сам слышал из выступления по телевизору академика Мигдала, что тот думает о тех, кто позволяет себе мыслить и открывать без санкции таких же столпов науки, как он, Аркадий Бенедиктович, о котором Михаил до тех пор слышал только хвалебные отзывы своих спутников по туристским походам, в течение всей передачи объяснял телеаудитории, что люди, не получившие специального академического образования, то есть не получающие его из рук официально признанных корифеев, не имеют НИКАКОГО ПРАВА заниматься решением кардинальных физических проблем. Жаль, что его уже не мог услышать Альберт Эйнштейн, не подозревавший, что он не имел права создавать теорию относительства и тем более обращаться за ее поддержкой к знаменитому маститому физику Максу Планку. И уж конечно же, сам Макс Планк, высочайший профессионал, честнейший человек, любящий физику больше, чем себя в физике, не имел никакого права распахивать перед Эйнштейном главные ворота в любимую науку со словами: «Этот мальчик, я хочу сказать гениальный ученый…» Да, большой путь прошел мир науки по пути наращивания морали с той поры и до таких ярчайших образцов как Мигдал.
Правда, Михаил видел и слышал выступление Мигдала лет через тридцать-тридцать пять после того, как Вадим на практике в Запорожье перед пятым курсом – они там жили вместе – поделился с ним куда более дерзкой мечтой, чем разработать теорию оптимального с точки зрения затрат топлива вывода объектов на траектории искусственных спутников Земли – он хотел сделать то, перед чем остановился Эйнштейн – создать единую теорию поля. И, судя по словам Бориса Бельфеста, другого их однокурсника, который все эти годы поддерживал приятельские отношения с Вадимом Кротовым, тот это сделал. Отработав как молодой специалист после выпуска из МВТУ в проектно-конструкторском институте ВНИИМетмаш положенный срок, он профессионально занялся физикой и математикой и через какое-то время стал доктором физматнаук и заведующим кафедрой высшей математики в Московском авиационно-технологическом институте. После окончания разработки своей фундаментальной теории поля он изложил ее существо в статье для публикации в каком-то авторитетном научном журнале. Естественно, в отечественных журналах Кротов получил отказ. После невероятно сложных усилий и хлопот он добился разрешения опубликовать статью за рубежом. Это произошло еще до Горбачевской перестройки, поэтому Михаил с трудом мог представить, как Вадиму удалось проломить или обойти глухую стену, изолирующую «несистемных» авторов от редакций и издательств. Эта стена была воздвигнута по инициативе КГБ и с согласия официальных выразителей интересов науки по всем правилам фортификационного искусства. Весь универсум естественных и технических научных дисциплин был разделен на зоны, во главе каждой из них был поставлен назначенный властью главный научный корифей, он же и высший администратор. Без его ведома и согласия публикация любых материалов по тематике, которой он от лица государства монопольно управлял, была запрещена. Формально он должен был контролировать только одно – нет ли в представленных на экспертизу материалах сведений секретного характера, на деле же осуществлял тотальный, в том числе идейный контроль, не допуская к публикации никого и ничего, если оно конкурировало с идеологией официального шефа и возглавляемой им научной школы. Везде были свои Мигдалы или кто-то поменьше, поскромней, но только не в деле защиты своих исключительных интересов. Подавляющее их число ощущало себя высшими знатоками предмета, чуть ли не гениями, но все они могли лишь топтаться на месте в том или ином удалении от переднего края науки, изредка, как сам Аркадий Бенедиктович, почти на самой кромке, но оказывались не в состоянии совершить настоящий прорыв к новым знаниям и сделать очередные эпохальные открытия, которые они – и только они – по их собственному самовосприятию, могли и должны были осуществить. По законам борьбы за существование, тем более за сохранение своего главенства, им не оставалось ничего другого, как бить по рукам и по мозгам тех, кто нес в себе потенциальную угрозу их положению. Так что Вадиму Кротову ничего иного не оставалось, как попробовать тиснуть свою концептуальную статью за рубежом. Он послал ее в Штаты, в один из двух или трех самых авторитетных журналов. Как ни странно, ее там приняли. Странно, конечно, потому, что и там находились свои Мигдалы в ничуть не меньшем множестве, чем в СССР, а свои редкостные Максы Планки на Западе давно перевелись. Но то ли местные корифеи обленились и ослабили личный монопольный контроль, то ли рядовой редактор, которому они по лени и излишней самоуверенности делегировали свои функции отбора, действительно любил физику, проникся Вадимовыми идеями, а то и решил насолить своим зажравшимся и самодовольным шефам, но он принял решение о публикации работы никому не известного в физике доктора Кротова. Михаил спросил у Бориса Бельфеста, какие отклики пришли после публикации. Ведь на всякое сообщение такого типа должны были посыпаться и вопросы, и оценки, и требования дать автору возможность расширить информацию. И что же? Борис со слов Вадима передал: ничего в научной прессе после публикации не произошло – ни восторгов по поводу прорыва в неведомое, ни яростных опровержений – словно этой статьи и НЕ БЫЛО. Бесчестность как один из определяющих факторов в жизни современной науки в СССР и за рубежом давно не была новостью для Михаила. Он знал о ней достаточно много, однако такой реакции – то есть ее отсутствия – на работу Вадима Кротова все же не ожидал. Подумав, что могло скрываться за таким умолчанием, Михаил догадался: завистники решили, что самым выгодным для них тактическим ходом в такой ситуации было взять солидный тайм-аут, прежде чем как-то реагировать, даже если правильность теории Кротова была очевидна сразу. Отсутствие откликов на его публикацию могло позволить всему «научному сообществу» (то есть всем претендентам-завистникам) «забыть», что таковая вообще была, а тем временем проверить предложенную теорию, в каких-то частностях, возможно, ее развить (в конце концов, они ведь не дураки и кое на что способны), а затем опубликовать практически то же самое, что и у Вадима, используя другие обозначения и отчасти иной, но эквивалентный математический аппарат, уже от своего имени. Если неизвестный доктор Кротов обнаружит это и будет доказывать свой абсолютный приоритет, что ж, его могут включить вместе с паразитирующими «соавторами» в состав претендентов на Нобелевскую премию. Ну, а если не заметит и не поднимет шум, будет еще лучше. Тогда у открытия века появятся такие отцы, которые рядом с настоящим даже не стояли.
С Борисом Бельфестом Михаил столкнулся вновь через тридцать один год после окончания МВТУ, когда поступил на свою последнюю работу в институт патентной информации. Оказалось, что Борис давно уже работает в том же патентном ведомстве, только в институте патентной экспертизы. Они стали время от времени встречаться в комнате Михаила, поскольку Борис по своим делам регулярно приезжал в его институт. Обычно разговоры у них бывали недолгими – как у людей, давно ведущих разный образ жизни и преследующих разные интересы, но давнее знакомство, тянущееся с романтических студенческих времен все же содействовало тому, чтобы интерес к встречам не прекращался, а откровенность в разговорах не сошла бы на нет. Однажды Борис не без гордости показал Михаилу, чем любит заниматься в свободное время. Это было действительно интересное занятие – Борис подыскивал в качестве приставок к наименованиям учреждений и именам людей или понятий такие слова, которые с неожиданной яркостью высвечивали главную характеристическую особенность тех слов, к которым эти приставки добавлялись. Из длинного списка созданных Борисом многоосновных слов Михаилу особенно запомнился термин «криминогенштаб», как нельзя лучше раскрывающий суть работы этого учреждения, постоянно готовящего планы ведения новых войн в зависимости «от существующих вызовов». Михаилу очень многое показалось метким и вполне подходящим для публикации в «Крокодиле» или «Литературной газете» на шестнадцатой полосе. Борис сказал, что предлагал туда свои опусы, но пока их не взяли. – «Зря! – искренно пожалел об этом Михаил. – Это многим бы очень понравилось. Но в любом случае не бросай, продолжай сочинять». Борис кивнул и подтвердил, что бросать не собирается. А затем вдруг спросил: «А ты пишешь?» Михаил вспомнил, что давал ему в свое время прочесть несколько своих первых рассказов. Видимо, Борис не поинтересовался этим раньше из деликатности, понимая, что раз Михаил не оставил занятий информационными технологиями, значит, писателем, как собирался, определенно не стал. Это заставило Михаила улыбнуться про себя, а затем и подумать – говорить или не говорить? Он ведь мало кому говорил о своих главных занятиях, а Борис, хоть и старый товарищ, никогда не был особенно близок по духу и интересам. Однако он ведь уже поделился с ним своими находками, да и Михаилу вдруг показалось ущербным для себя оставить Бориса во мнении, что он так и не добился в жизни того, о чем мечтал. В этот день Борис задержался у него часа на три вместо обычных десяти – пятнадцати минут. Михаил кратко описал, что сделал в литературной прозе, затем добавил, что несколько неожиданно для самого себя в последние годы в основном переключился на разработку философских проблем. – «В каком смысле?» – живо заинтересовался Борис. – «В самом прямом, – смеясь, ответил Михаил. – Помнишь, на практике в Запорожье ты однажды прочел вслух фразу из «Антидюринга» Энгельса: – «Любой начинающий немецкий студиозус предлагает миру не меньше, как свою собственную философскую систему». Может, цитирую я не совсем точно, но за смысл ручаюсь. Так вот, эта фраза, зачитанная именно тобой, странным образом вспоминалась мне много лет подряд, пока я не занялся этим делом серьезно. В оправдание своей дерзости могу сказать только, что я давно уже не студиозус, тем более не начинающий и уж вовсе не немецкий. А свою собственную философскую систему, претендующую на принципиальную полноту осознания движущих основ мироустройства, я все-таки породил» – «И как она выглядит? – недоверчиво спросил Борис. – Я хочу сказать, – поправился он. – Ты все сделал сам от начала и до конца, ничего не беря в основание от других?» – «Глупо было бы утверждать, что узнанное от других никак не повлияло на формирование моих убеждений – конечно некоторым образом повлияло, но вместе с тем никакой чужой готовой концепцией я не пользовался, поскольку ни одна меня не удовлетворяла с точки зрения объяснения причин того, что происходит и в нашем мире, на Земле, и во всей наблюдаемой с нее Вселенной. При всем моем скепсисе я пока не нашел повода сомневаться в правильности своих умозаключений и выводов».
По выражению лица внимательно слушавшего Бориса, Михаил понял, что тот поражен масштабами его претензий. – «Тебе странно слышать такое? – спросил он Бориса. – Удивляться, конечно, есть чему. Я ведь почти необразованный философ. И вот на́ тебе! – посягаю ни больше, ни меньше как на создание собственной системы. Читал я действительно мало, зато много думал сам, стараясь найти управляющий смысл в своих собственных наблюдениях, накопленных по ходу жизни. И, как полагаю, за неотступность моих поисков и раздумий, Бог дал мне кое-что понять и продвинуться дальше за пролом. – «А ты веришь в Бога?!» – поразился Борис. – «Да, и примерно с тех пор, как мы практиковались с тобой на «Запорожстали», только немного раньше». – «А почему?» Вопрос прозвучал как-то глупо, но за ним стояло многое – больше всего вбитое с детства атеистическое представление о природе и человеке, поэтому на него надо было ответить серьезно и по существу. – «Потому, Боря, что, не приняв идею существования Бога, я не мог понять ни того, в чем состоит смысл жизни, ни того, какие законы управляют ходом бытия». – «А, приняв, понял?» – «Понял», – подтвердил Михаил. – «Не знаю, – помедлив, сознался Борис. – Я прикидывал и так, и этак, но поверить не сумел.» – «Я тоже долго внутренне сопротивлялся этой идее, но перебрав все аргументы против нее, вынужден был признать, что материализм не объясняет главного.» – «Чего?» – «Что Вселенная построена рационально – и только поэтому мы можем открывать один за другим законы, предопределяющие появление тех или иных видов материи и характер их взаимодействий друг с другом. Видишь ли, я определенно отклонил, нет – отверг идею о такой самоорганизации материи, что она сама сделалась разумной. Никакая система, изначально лишенная собственного интеллекта, самостоятельно обзавестись им не может. Ты как инженер наверняка знаешь, что любая сколько-нибудь сложная система устойчиво функционирует только тогда, когда за ее работой установлен действенный авторский или эквивалентный ему эксплуатационный надзор. А у нас на глазах действует и развивается в Мироздании множество разных Вселенных, то есть систем непредставимо большей сложности, чем все то, что можем задумать и создать мы, обладатели такого интеллекта, которого пока не находим ни в ком, кроме себя. Какое после этого у нас может быть право предполагать, что материя способна сама породить разум?» – «Миша, – возразил Борис, – я все равно не могу принять другого объяснения, не исходящего из материалистических представлений. Где этот вселенский разум? Как он себя проявляет? Наука ничего об этом не говорит, а только она и может дать объяснение тому, что происходит на свете.» – «В том-то и дело, что не говорит и говорить не может, – заметил Михаил. – И тебе человеческий разум по-прежнему кажется вершиной творения, достигнутого путем саморазвития материи?» – «Да, я так и считаю. Мои кумиры – такие люди, как Эйнштейн, как Мигдал, например.» – «Ну, я бы на твоем месте поостерегся бы ставить рядом этих людей.» – «Почему?» – «Больно разные. Я в курсе того, что говорил Мигдал относительно таких людей, как Эйнштейн или, например, Вадим Кротов. Если бы Эйнштейн попал бы не на Макса Планка, а на Мигдала, то получил бы такого пинка, что отлетел бы от науки дальше, чем на пушечный выстрел.» – «С чего ты взял?» – «Он априори отказывает таким людям в праве выступать с идеями такого плана, поскольку они не получали соответствующего образования от корифеев – например, таких, как он.» – «Не знаю.» – пытался возражать Борис. – «А я его мнение знаю. Сам слышал, что он на этот счет говорил. Это не плод моих домыслов. Ну, ладно. Не в Мигдале дело. Он крупный ученый и ощущает, что топчется рядом с великим открытием, а сделать его не может. И таких много. С какой же стати им открывать дорогу Эйнштейнам и Кротовым? А ты, кстати, думал, что своими открытиями доказывают настоящие пионеры науки?» – «Как что?» – не понял Борис. – «В первую очередь то, что Вселенная и природа устроены разумно – причем более сложно и разумно, чем представлялось раньше – скажем, как великому Ньютону до великого Эйнштейна. А Эйнштейн был, между прочим, всего лишь служащим патентного ведомства, как ты или я, скорей всего даже более скромным по своему положению, чем мы. И раз он не работал в физическом институте под руководством признанного крупного авторитетного физика, то ему, по Мигдалу, не положено возникать со своими теориями относительности, ни специальной, ни общей, и беспокоить достойных людей, подразумевается – людей, достойных делать главные открытия, которых они, тем не менее, почему-то не совершают, а только ждут от себя, обязательно от себя, не от других. Этого ты не замечаешь? Такова теперь открыто объявленная научная этика. Чего ж тут удивляться, что на публикацию Вадима никакой реакции нет? Если это глупость, отчего ее не опровергают, не выявляют ошибок, если ее считают ошибочной или пустой. Если это – прорывное открытие, отчего же никто не приветствует его? Надеюсь, судьба главного труда жизни твоего друга и моего приятеля тебе не безразлична, а она пока все еще в руках завистников, контролирующих ситуацию в науке и ее развитие». – «Не знаю, – сознался Борис под пристальным взглядом Михаила. – Но ведь мы начали не с этого. Как можно в процессе познания отправляться и от науки, и от религии, обращаться с вопросами об устройстве мира одновременно к авторитетным ученым и попам? Не понимаю!» – «Должен тебе сказать, что религия и вера в Бога – вещи близкие, но не тождественные. Религии преподносятся людям церквами. Вера же в Бога может проявляться совсем не так, как предписывается церковными правилами и институтами. Я, например, в церковь не ходил и не хожу, церковно-религиозных обрядов не совершаю и в их проведении не участвую. Но это мне нисколько не мешает представлять верховную роль Творца в создании и развитии Вселенной и осмысленно искать установленные Им общие законы, в соответствии с которыми все в ней и происходит. Я признаю, что среди духовенства встречаются выдающиеся личности, на которые следовало бы равняться всем людям, но в основном-то у клириков нечему учиться, кроме как основам морали в быту, а уж ответов на вопросы об устройстве Мироздания от них кроме догматических ссылок на Священное Писание вообще ничего не услышишь.» – «Это я могу понять, – сказал Борис. – Пусть для тебя не важны церковь и попы. Но как ты с помощью своей веры в Бога смог для себя разрешить проблемы, над которыми люди бьются не одну тысячу лет?» – «Причем большинство ищущих высшие истины тоже были верующими и не глупее меня? – перебил Михаил. – Почему для совершения определенных открытий в то или иное время Небеса, – он ткнул пальцем вверх и показал туда же глазами, – выбирают каких-то определенных людей, будь то Ньютон, Лейбниц, Менделеев, Эйнштейн, Кротов или я – не знаю. Создатель в равной степени распоряжается судьбами верующих и неверующих. Знаешь, как точно выразил суть этого равенства в подчинении Воле Всевышнего тех и других папа Пий Двенадцатый, говоря о спасении членов экспедиции Нобиле советскими летчиками и моряками: «Бог спас их руками безбожников!» – и это святая правда. Но, видимо, при выборе кандидата учитывается их благое усердие, честность, творческая сосредоточенность, способность к анализу, равно как и способность рассматривать вещи не только с тех позиций и сторон, как это учат, как это принято делать, но и с совершенно других, и вот тогда какому-то соответствующему критериям лицу выпадает счастье озарения Свыше, его мысль буквально оплодотворяется семенем Истины, что в свою очередь приводит к лавинообразному открытию новых закономерностей, неизвестных прежде эффектов и к разработке методов их практического использования. Да, не так уж редко выбор Небес нас озадачивает. Скажем, Дарвин в школе считался тупицей, Верди не приняли в Миланскую консерваторию из-за отсутствия музыкальных способностей (потом в качестве запоздалого извинения ей присвоили имя Верди), Эдисона терпели в школе всего три месяца, настолько учитель был убежден в его глупости. Но что это значит? Только одно – что наши представления о способности и неспособности, об уме и глупости, о справедливости и несправедливости могут очень сильно расходиться с мнением Господа Бога на этот счет, а в итоге нам приходится, хотим мы того или не хотим, нравится это или не нравится, признавать правоту Создателя, а не свою». – «А ты не допускаешь, что Бог необязательно единственная личность?» – спросил Борис. – «Чего не знаю, того не знаю, – ответил Михаил. – Единый ли Вседержатель управляет всем Мирозданием или целая Небесная Иерархия, священная власть во главе с Верховным Богом – разные конфессии утверждают разное, но для нас-то это ничего не меняет. Все равно есть Всеблагая, Всемогущая и Всемудрая сила, которая нами управляет и определяет будущность наших бессмертных душ. А для тебя это обидно, что ли?» Борис пожал плечами, потом ответил: «Да вроде нет. А в чем состоит твоя философия?»





