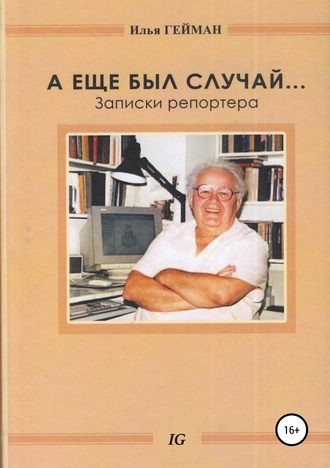 полная версия
полная версияА еще был случай… Записки репортера
Наша экскурсия по старому Рио началась с обеда отнюдь не в забегаловке. Кармен была права: в этот ресторан в шортах не пойдешь. Хотя он и непритязателен внешне, этот ресторан – один из известнейших в городе и уровнем обслуживания, и тем, что он находится в первом губернаторском дворце страны. Здесь, в древней части Рио, неподалеку от кромки океана жили не только губернаторы, но и вершилась история. Сюда в 1808 году бежала семья португальского короля, когда Наполеон оккупировал его страну. Здесь он создавал центральную администрацию, почту. Тут, возвращаясь на родину, он оставил вместо себя сына-регента. Именно здесь, в этом дворце, его сын в 1822 году провозгласил независимость Бразилии от португальской короны, а себя – императором. Таким образом, Бразилия побывала в империях тоже.
Теперь в так много повидавшем на своем веку дворце разместились музей и ресторан, с посещения которого мы начали знакомство с древней частью города. Улицы старого Рио напомнили нам с женой Старую Ригу. Ширина их величиной с обеденный стол, древняя брусчатка, средневековая архитектура. Казалось, вот за этим углом мы увидим такой-то рижский магазин, а за тем – наш дом, в котором выросли наши дети. Удивляться нечему – оба города строились, развивались в одно время и создавали их европейцы.
В связи с Ригой мне пришел на память еще один нюанс. Когда через несколько дней мы снова пришли к Селии и Фернандо, хозяин пригласил нас в свой кабинет, включил видео, и телевизор стал показывать фильм о современной Латвии, о Риге. Этот трогательный жест свидетельствовал о хорошем вкусе наших хозяев. Наверное, не так-то просто было им здесь, у черта на рогах, по другую сторону экватора разыскать фильм о крошечной прибалтийской стране. Но они сделали это и таким неназойливым способом продемонстрировали нам меру своего гостеприимства.
…Программа нашего пребывания в Бразилии была довольно плотной и теперь предстояло лететь в Сан Пауло – крупнейший город страны с 10-11-миллионным населением. Там, в Сан Пауло, живут Клаудио и его родители. Его мать Ольга – вторая сохранившаяся в живых моя двоюродная сестра. Кузина – моя ровесница, ее мужу Соломону под восемьдесят лет. Возраст не детский, но люди эти очень подвижны, энергичны, а с лица Соломона вообще не сходит улыбка. Он юрист, до выхода на пенсию работал в крупном химическом концерне. Судя по уровню его жизни, был не последней спицей в колеснице компании, в которой служил.
На мой взгляд, Соломон – главный лихач этого многомиллионного города. Мы носились по горам и закоулкам с такой скоростью, что сердце иногда замирало.
Когда-то очень давно одну из своих книжек я назвал “В стране маленьких автомобилей”. Это была книга о Франции – там меня поразили размеры автомашин. Они были невелики, что объяснялось средневековой застройкой многих французских городов. В Бразилии размеры машин поразили меня еще больше – французские ситроены и пежо по сравнению со здешними могут показаться мостадонтами. По улицам носятся карликовые фиаты, форды, мерседесы, микромобили других марок. Такое впечатление, что они сконструированы специально для этой страны с ее узкими улочками на склонах гор и необычайно крутыми поворотами. К слову, эти автомобили не привозные. Их делают здесь, в Бразилии, главным образом, в Сан Пауло.
Ольга и Соломон живут одни. У них очень большая квартира, занимающая, по моим представлениям, целый этаж крупного здания. Каждая вещь тут имеет свою историю и лежит на своем месте. Как говорит Соломон, многое из этого, в том числе и часть мебели, перешли к ним от родителей. Он вообще восхищен своими тещей и тестем.
Тесть Соломона Луиз начинал в этой стране с нуля. Выходец из Бессарабии, он ходил по улицам, держа на плече свой товар и тут же на ходу продавал его. Потом он обзавелся складом мебели, потом расширил бизнес и, в конце концов, вел успешную торговлю бриллиантами.
Теща Соломона Анита была образованным, культурным человеком, пользовалась уважением в обществе. Она была журналисткой, вела колонку в газете. По пути бабушки пошел сын Соломона и Ольги Хелио – брат Клаудио. Он и его жена Беатрис тоже журналисты, издатели двух журналов.
Другой сын, мой добрый Клаудио, оказался очень приятным, скромным 40-летним холостяком. Человек он весьма любознательный. Однажды ему захотелось познакомиться с Голландией. Недолго думая, взял и поехал в страну тюльпанов, устроился в банк и целый год работал клерком. В другой раз поехал, кажется, в Мексику и там удовлетворял свое любопытство.
Сейчас Клаудио остепенился. Он владеет пятью языками и собственным бизнесом: мелкооптовой торговлей всем необходимым для людей с дефектами слуха. Бизнес молодой, ему всего несколько лет. На первых порах свое плечо под начинание сына подставил Соломон. Целый год он изо дня в день приходил в офис как на работу. “Насиживал”, как говорят бизнесмены, клиентуру. Сейчас дело на ходу, круг клиентов велик и продолжает расти. Поэтому Соломон садится за рабочий стол только тогда, когда сыну надо отлучиться.
Моя кузина Ольга живет с мужем в современном многоэтажном здании. Но когда смотришь в окна передней и задней частей квартиры, видишь внизу, у самого подножия дома ужасающие трущобы. Они, словно разлившееся ведро помоев, растекаются вокруг, карабкаются в гору, заполняя собой все свободное пространство.
Это – фавелы. Стыд и горе крупных городов Бразилии. Миллионы обездоленных людей.
Подумать только, в Рио-де-Жанейро каждый пятый житель города селится вот так, в трущобах, в самострое на свой страх и риск. Без водопровода, канализации, электричества. Без надежды на более или менее сносное жилье. Без малейшей поддержки государства.
Мне по моей профессиональной привычке очень хотелось побывать в фавелах. Я затевал разговор об этом еще в Рио-де-Жанейро. Но Кармен с Марсией даже и слышать ничего не хотели:
– Ни за что на свете! Там, в фавелах, сплошная преступность. Нет полиции. Сорок процентов населения живут за счет наркотиков. Стоит вам только сунуться туда, мы уж и концов ваших не найдем.
Пришлось подчиниться. Марсия знает, что говорит – прокурору виднее.
Но здесь, в Сан Пауло, может быть, все обстоит по другому?
– Преступность и тут на высоте, – говорит Соломон. – Но мы можем попробовать проскочить на машине…
И мы двинулись в фавелы прямо от его дома. В Нью-Йорке нередко с опаской говорят о Гарлеме, Бронксе. Там, дескать, ужасно. Там гетто, трущобы… Я бывал в тех местах не раз. И теперь, после бразильских фавел, могу с уверенностью сказать, что наши гарлемы и бронксы выглядят пансионатами для уставших богачей на фоне того, что мы увидели, въехав в трущобы Сан Пауло. Крошечные самодельные клетушки, прицепленные одна к другой – это жилье. Нечто, текущее прямо по улочкам. Множество людей, бесцельно стоящих, сидящих или лежащих вдоль дорог – это жители трущоб, безработные.
Мы петляли по улочкам и всюду видели одну и ту же картину. Картину беспросветной нужды и потерянных надежд.
Но вот за одним из поворотов мы неожиданно увидели современное капитальное здание с единственным в этом районе садиком во дворе. За забором виднелся могучий куглолицый негр – явно охранник. На фронтоне здания рельефно выделялся знак Звезды Давида. Я с изумлением посмотрел на наших хозяев.
– Это госпиталь. Евреи Сан Пауло собрали деньги и построили его для местных жителей. Лечат в нем бесплатно. Здесь, в фавелах, есть школы, детские сады – их тоже содержат евреи. Мы, например, с Ольгой каждый месяц вносим сорок долларов на нужды детей в трущобах. Хоть и небольшая, но все-таки помощь.
Позже, уже в Рио-де-Жанейро, мы сумели-таки обойти возражения Кармен и Марсии. Узнали, что в этом городе существует один-единственный бизнес, который организует поездки в местные трущобы.
– Пятьдесят долларов с носа, садишься в военный джип и ты в полной безопасности, – объяснили знающие люди.
– Еще и пулеметов нам не хватало, – подумал я с досадой.
Мы решили рискнуть, хотя и провожали нас как на полномасштабную войну.
Открытый всем ветрам американский джип когда-то был, наверное, военным, но сейчас это мирная машина. Она вместила нас, еще одну пару из Чикаго и трех китайцев из Пекина. Везет нашу команду молодой, крепко сложенный говорливый мужчина.
– Ахила, – представился он.
Ахила выступает в одном лице как владелец сервиса, как гид, водитель и охрана. Его предприимчивость не может не вызвать восхищения. Дело в том, что наш проводник всю свою жизнь прожил в той фавеле, куда мы через несколько минут поедем. Там и сейчас живут многие его родственники. Он знает в том городке трущоб всех и все знают его, а кто решится напасть на своих? Каким-то образом Ахиле удалось получить образование и он сообразил, что экскурсии в мир трущоб могут стать прибыльным делом. Тем более, что из страха перед фавелами никто и никогда не захочет стать его конкурентом.
Надо полагать, нам очень повезло, что нашелся такой предприимчивый парень. Иначе мы бы так и не увидели трущобы Рио-де-Жанейро “живьем”.
Несемся во весь опор в горы, пересекаем невидимую границу фавелы, погружаемся в узкие извилистые улочки, проложенные между безобразными хибарами. При первой возможности останавливаемся и Ахила рассказывает, что мы едем, если пользоватъся советской терминологией, по образцово-показательной фавеле. Таких больше нет в пределах Рио-де-Жанейро. Тут заметно чище, чем в других местах, есть какой-то порядок. Существует что-то наподобие самоуправления. Несколько ниже в этом поселке уровень преступности, потому что более активна полиция: при малейшем нарушении она врывается в фавелу и тогда достается многим. Сейчас, при подготовке к выборам мэра города, власти заигрывают с местными жителями: как-никак только в этой фавеле Росинха живет 200 тысяч человек и их слово может оказаться решающим в кабинах для голосования. А в целом в районе Большого Рио-де-Жанейро имеется 661 фавела.
А в остальном – как всюду. Нет канализации, водопровода, электричества. Процветает наркотический бизнес. Да и как ему не процветать, если житель трущоб на нормальной работе получает 80 долларов в месяц, а в услужении у наркодилера – 500 в неделю. На всю фавелу в 200 тысяч человек имеется только три общественные школы, да и те неполные средние.
Безграмотность стала самым большим бичом для здешних людей. Без образования они не могут получить нормальную работу. Без работы не могут получить нормальное жилье и покинуть трущобы. В штате Рио-де-Жанейро сейчас 18 процентов жителей безработные. В фавелах их доля многократно выше. Но и те немногие, кто куда-то пристраиваются, заняты тяжелым, неквалифицированным трудом.
Бедность порождает преступность – это аксиома. При высокой доле бедных людей в обществе в Бразилии высок уровень уголовщины. Марсия запрещала нам самим, без сопровождающих ездить в городском автобусе. Нас постоянно предупреждали, чтобы мы не носили на виду фотоаппарат, чтобы на улице не разговаривали громко по английски или по русски. Это привлечет внимание, говорили нам, и за нами начнется охота, как за богатыми иностранцами. Официальные путеводители также полны предупреждений. Они, например, не советуют иметь на руках часы, кольца, украшения, когда едешь в автобусе. Украдут. Не советуют ночевать в мотелях – рассадниках преступности. Избегать многого другого.
Здесь, в фавелах, жилье бесплатное – каждый строит себе сам что взбредет в голову. И налоги с местных жителей не берут. Поэтому, сказал Ахила, тут можно встретить довольно состоятельных людей. Они предпочитают жить в трущобах, но экономить на налогах.
Когда мы поднялись высоко в гору, Ахила предложил зайти в какой-нибудь дом и посмотреть, как живут люди. Узкая лестница привела нас на второй этаж хибары, состоящей из тесных комнат-клетушек без окон и дверей – просто с оконными и дверными проемами. Места хватает только на то, чтобы лечь и поспать.
С балкона хибары мы посмотрели вниз, под гору. Перед нами открылся все тот же неповторимый по красоте вид Рио-де-Жанейро, лежащего в горной чаше на берегу голубой лагуны. Но, думаю, для обитателей мира трущоб этот вид не так уж прекрасен.
* * *Случайностей не существует – все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие.
Вольтер.Впрочем, все это произойдет потом, через несколько дней.
А пока мы, предводительствуемые неутомимым Соломоном, едем в еврейский клуб Сан Пауло. Хочу подчеркнуть: в самый большой еврейский клуб в мире. Это не очаг культуры в нашем традиционном смысле слова. Это целый изолированный городок с несколькими зданиями, многими сооружениями, большим набором занятий и развлечений. Здесь несколько студий – имени Анны Франк, Шолома Алейхема, других знаменитых евреев. Есть театры и залы торжеств, помещения для развлечений и настольных игр, пять плавательных бассейнов, теннисные корты, баскетбольные площадки, гимнастически залы и много другого, чего мы уж не успели посмотреть и чем не успели воспользоваться.
…Увы, время, отпущенное человеку, не бесконечно. Мы вернулись в Рио на несколько дней и собрались в обратную дорогу. Когда в аэропорте Рио-де-Жанейро служитель, увидев в моем американском паспорте запись: место рождения Бразилия, потребовал у меня и бразильский паспорт, я понял, что здесь меня окончательно приняли за своего.
И вот крошечный самолетик снова медленно скользит по телеэкрану. Он, как и мы в реальном воздушном корабле, движется на север, в Нью-Йорк. Виртуальный лайнер копирует наш реальный полет. Свет в салоне “Боинга” приглушен. Ночь. Люди спят. Вокруг – тишина, если не считать гула двигателей.
А мне не спится. Похоже, волнения последних дней еще долго не улягутся. Да и кто сумел бы оставаться спокойным, найди он своих родных, свою родину через бесконечные семьдесят лет? Но радость была неоднозначной. Сладость удовлетворения смешивалась с едва уловимой горечью досады.
Возникал какой-то беспокоящий привкус. Так бывает, когда ты понимаешь, что сделал многое из того, что можно было сделать, но сделано тобою все-таки еще не все. Короче, не давала покоя остававшаяся неизвестность: что же все-таки случилось с моим отцом тогда, в начале тридцатых годов, за что нашу семью депортировали из страны, в которой я родился, что стало с братом отца, моим дядей Леоном? Ни он, ни малейшего его следа не найдено до сих пор. Как бы растворился человек во времени и пространстве, не оставив после себя ни единого знака.
Я с горечью осознавал, что найти мне его не удастся никогда. Он исчез из жизни моей мамы сразу после смерти отца – мы не получили от него ни весточки, ни намека за все последующие десятилетия. Как я уже говорил в начале своего рассказа, мы были уверены, что он, как иностранец, погиб где-то в сталинских лагерях и могилу его теперь, конечно, не найти. Стало быть, эта страница жизни наглухо закрыта для меня – лбом стену безвестности прошибить невозможно.
* * *Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Оноре де Бальзак.Правда, при этом я не могу не сделать существенную оговорку. В Рио-де-Жанейро меня потрясла одна находка. В огромном фотоальбоме Леи я натолкнулся на два снимка Леона.
Нет-нет, это были не фото детских лет – это были снимки… пятидесятых годов. Необычные снимки. Как бы нарочно, на одном он был сфотографирован в фас, на другом – в профиль. Точь в точь, как это делают в полиции или тюрьме. У меня сразу же возникло ощущение, что Леон словно бы намекал этой уловкой на свою судьбу.
Родственники рассказали мне, что он “прорезался” в 50-60-е годы, ничего не сообщив о том, где он был, что с ним происходило все минувшее время. Затем исчез снова, не оставив после себя никаких ледов – ни адреса, ни номера телефона. Исчез навсегда.
Моим бразильским родственникам и трюк Леона с фотокарточками, и последующее его исчезновение были непонятны, но я-то знал, что письма, посылаемые советскими людьми за границу, перлюстрировались, прочитывались посторонними, очень заинтересованными людьми и поэтому в них приходилось прибегать к иносказаниям, намекам.
Собираясь домой, в Нъю-Йорк, я взял у Кармен одно из писем Леона – хотел поискать между строк хотя бы малейший намек на то, как же все-таки складывалась его судьба. Хотя мне было ясно, что никаких реальных последствий это не сулило – даже если бы я расшифровал письмо, искать моего дядю на просторах огромной страны, пережившей жесточайший государственный террор, было бессмысленно.
…Шло время. После поездки в Бразилию я побывал в Москве и мы вместе с моим старым другом и коллегой Юрием Лапиным поехали в город Тверь – туда, где семьдесят лет назад умер Маркус Пятигорский, мой отец.
Ехали мы наугад – не знали, от какой печки лучше всего начинать танцевать в Твери. Поэтому решили пойти на первый случай в местный краеведческий музей. Все-таки, думали мы, Маркус был необычным жителем этого провинциального города – политический эмигрант, борец с капитализмом. Это было очень популярно в те времена революцоинной романтики в Советском Союзе. Да и в Бразилии мне рассказали, что моему отцу были устроены в этом городе особо торжественные государственные похороны.
Должен же был от всего этого остаться хотя бы какой-то след.
В музее нас приняли по-русски гостеприимно и сочувственно. Правда, помочь особенно не помогли – по Твери более полувека назад разрушительным утюгом прошла вторая мировая война. Архивы, фонды сгорели в пожарах, погибли под бомбами.
Но нам все-таки дали в музее адреса похоронной службы, самого старого кладбища города, библиотеки и сами пообещали заняться поисками с помощью местных краеведов. Работники музея проявляли явную заинтересованность в нашей проблеме, но, откровенно говоря, их обещание я воспринял, как стандартный знак вежливости, который тут же забывается.
Мы пошли по полученным адресам. И всюду, увы! нас ждала осечка. Оказалось, что библиотека во время войны была разрушена до тла прямыми попаданиями бомб и старые подшивки в результате этого были уничтожены безвозвратно. Таким образом, наши надежды порыться в газетах 1931 года и отыскать там хоть какую-то публикацию о Маркусе Пятигорском не оправдались. Да и кладбище оказалось настолько заросшим диким кустарником, что на нем невозможно было отыскать ни одной могилы. В похоронном агентстве тоже не нашлось никаких следов – архивы этого бюро начинались уже с послевоенной поры.
Последние нити, связывавшие меня с прошлым, как я понял, оказались оборванными. Пора было, как говорят в таких случаях, тушить лампу да возвращаться к текущим делам. И при всем при этом со стыдом думаю о том, как несправедливо я воспринял тогда обещание музейных работников продолжить поиски следов отца.
Вскоре после нашей поездки в Тверь, уже вернувшись домой, в Нью-Йорк, я получил от Юрия электронное письмо из Москвы. Он писал: “Только что мне позвонила Герасимова из Твери. Первый шажок у нее оказался успешным. Она сообщает, что Маркус Пятигорский умер в 23 года от легочного кровеизлияния 21 декабря 1931 года. Проживал он по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 12. По национальности португалец… Это – запись из архива ЗАГСа. Будут искать дальше”.
Вот так получилось, что я на закате собственной жизни впервые узнал точное время смерти моего отца. Это стало большим событием для всех нас и теперь мы ежегодно в кругу семьи отмечаем в декабре ту скорбную дату.
Любопытным было в этом событии еще одно – депеша Лапина как бы открыла информационный шлюз и новости из него хлынули потоком. Вот как это происходило.
Однажды позвонил мне в Нью-Йорке давний приятель Марк Стотланд:
– Ты продолжаешь свои поиски?
– Нет, – ответил я, – искать дальше бесполезно. Не за что зацепиться – похоже, никаких следов не осталось.
– По-моему, ты не прав, – продолжал Марк. – У меня тут есть одна вещь, которая может тебя заинтересовать…
– ?
– Я прочел в газете интервью с внуком известного бразильца Брандао. Тебе оно не попадалось?
При имени Брандао в моей памяти всплыли многочисленные рассказы матери об этом человеке, много значившем для нашей семьи. Когда умер отец, мама осталась одна с маленьким ребенком на руках, в чужой, незнакомой, холодной, заснеженной стране. Без знания русского языка. В городе, в котором не знала ни души.
Она, понятно, растерялась, не представляла, что с ней будет дальше.
И тут из Москвы приехал Брандао – левый бразильский депутат, выдворенный, как и мы, из страны за противостояние диктатуре. Без лишних разговоров он тут же забрал нас обоих в Москву и давал нам хлеб и кров до тех пор, пока не помог маме определить ее дальнейшую судьбу. Иными словами, Брандао буквально спас нас в тот критический момент.
– Скажи мне, где напечатано интервью, – в волнении стал я теребить Марка.
– Я пришлю тебе вырезку из газеты по почте, – пообещал тот.
Материал оказался перепечаткой из московского журнала “Эхо планеты”. После того, как я это узнал, дальнейшее уже было делом техники. Связался через интернет с редакцией журнала, попросил дать мне координаты автора интервью. Им оказалась симпатичная журналистка “Эха” Анна Пясецкая. Я рассказал ей свою историю, рассказал о всех перипетиях моих поисков и попросил связать меня с внуком Брандао Сергеем – его имя я узнал из интервью.
Все это происходило в быстром темпе. Через день-другой Анна передала мне электронный адрес Сергея и сообщила, что успела с ним переговорить и тот ждет меня.
Дальше пошла серия удач и огорчений. Я рассказал Сергею о случае в заснеженной Твери после смерти отца и попросил посмотреть, нет ли в наследии его деда или в преданиях семьи упоминания о Маркусе Пятигорском. Сергей сообщил в ответ, что в семье Брандао он эту фамилию слышал, но ничего конкретного не помнит, а в бумагах деда он ее не нашел. Сергей пообещал поискать дальше, но на это требовалось время.
Дело в том, что самого Брандао уже нет в живых. У него было четыре дочери с непривычными для нас именами – Сатва, Воля, Волна и Диониза. Сатва – мать Сергея – тоже умерла. Одна из его теток – Волна – живет в Москве, но две другие – за пределами Росии: Воля, отличающаяся отменной памятью, живет в Мексике, а Диониза – в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Пока с ними свяжешься…
Тогда я на всякий случай спросил, а не знает ли кто-нибудь из его семьи человека по имени Леон Пятигорский? И тут случилось неожиданное:
– Моя тетя Волна говорит, что в 80-е годы она встречала в своей редакции в Агентстве печати Новости переводчика с таким именем. Он даже рассказывал ей, что жил в одном доме с Брандао в начале тридцатых годов.
Это уже было что-то! Это уже реально походило на то, что тетка Сергея встречалась – и не так уж давно – с моим дядей Леоном. Как я понимал, Волна работала в португальской редакции АПН, а родной язык Леона был именно потругальский. Да и то, что он жил в одном доме с Брандао! Уж больно велики получались совпадения.
Замечу, что, занимаясь интенсивной перепиской с Москвой, я не забывал и о своих родственниках в Бразилии – они интересовались всем, что было у меня связано с поисками Леона. Прочитав в одном из моих писем сообщение о воспоминаниях Волны, Клаудио прислал из Сан-Пауло электонную депешу, заполненную сплошными восклицательными знаками. Это, писал он, похоже на приключенческий роман. “Меня просто переполняют эмоции. Я рассказал маме о твоем сообщении и она теперь сильно волнуется – мы все живем предчувствием, что Леон жив или живы хотя бы его дети. Ведь Волна видела его в 1980 году!” Не менее взволнованными были письма Марсии из Рио-де-Жанейро. Она писала, что ждет новых и новых сообщений.
Но вернемся к нашей истории. Я спросил Сергея, не могла бы его тетя помочь мне поискать следы Леона в отделе кадров АПН? Ведь она работник этого агентства, а своему, инсайдеру, всегда легче преодолеть преграды бюрократов. Но ответ Сергея был неутешительным:
– Моя тетя немолода, не очень здорова, да и в агентстве не работает уже больше десяти лет. Попробуйте сделать это своими силами…
Можете понять, какое чувство досады испытал я, получив такой ответ. Выходило, что я стоял уже у самого порога, за которым находилась разгадка огромной тайны, но не в силах был сделать последний шаг.
Как мог я, сидя в Нью-Йорке, наводить справки в отделе кадров АПН, этого информационного агентства, которое всегда было тесно связано с КГБ? К тому же, в АПН, которое к тому времени было уже ликвидировано и на его месте существовало другое информационное агентство – РИА Новости. Допустим, я позвоню по телефону, либо пошлю по интернету или обычной почтой письмо-запрос – как воспримут это там, в Москве? Я до сих пор помню, как враждебно относились обычно кадровики ко всему иностранному и особенно к переписке с заграницей. А тут – запрос прямо из США…
Размышляя таким образом, я все-таки нашел нужные номера телефонов в новом информационном агентстве и позвонил в Москву. Нет, позвонил я не в РИА Новости, где должны были храниться архивы АПН, а… все тому же моему многострадальному другу Юрию Лапину.

