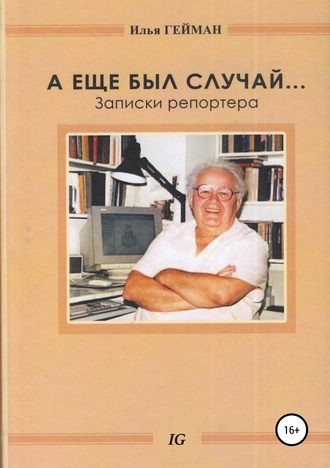 полная версия
полная версияА еще был случай… Записки репортера
Пока мы разговаривали, из чума вышли хозяева. Они уже знали, что мы приедем.
Встретили меня радушно, как почетного гостя. Когда мои спутники рассказали, что я приехал из Прибалтики, хозяева стали обходиться со мной еще более уважительно – гость, говорили они, приехал из Европы. Засуетились у очага. А я, воспользовавшись паузой, осматривался – понимал, что такая возможность представилась мне один раз в жизни.
Помещение невелико. Горит костер. Дым уходит в потолок – там отверстие. Пол – вечная мерзлота. Устлан он толстым слоем оленьих шкур – одна на другой. Никто эти шкуры не дубил, не сушил – естественные процессы разложения шли своим чередом. На шкурах ползали детишки – ни трусов, ни памперсов тут еще не знали.
Легко представить, чем пахло в чуме и какого труда стоило всем этим дышать.
Вскипел чай. Хозяйка стала накрывать на “стол”. Я с интересом наблюдал за ней, за этим чайным ритуалом, чайной церемонией на самом конце земли.
Как я понял, для гостя из Европы готовился особый прием. Откуда-то из глубины шкур были вытащены парадные для этого чума фаянсовые чашки. Хозяйка взяла в руки одну из них, критически осмотрела. Обнаружила, что она не совсем чистая. Как должное, харкнула, сплюнула в чашку и стала чем-то старательно ее протирать.
К моему горлу подступило что-то нехорошее. Я бросился к выходу, на свежий воздух.
Уже через несколько минут олени мчали нас к поселку, к районному центру.
После возвращения в Тазовское я встретил первого секретаря. Стыдливо опустил глаза.
– Не напрасно мы не советовали вам ехать в стойбище, – сказал он. – Но все-таки что-то увидели?
– Да, конечно. Поездка была полезной.
– Ну, и это хорошо. А теперь вы наш должник.
– Все, чем могу…
– У меня просьба. Сами видите, живем мы в глуши. Варимся в своем котле. У людей потребность узнать что-нибудь новенькое. Мы были бы вам благодарны, если бы вы выступили у нас в Доме культуры.
– Хорошо. Только без всякой пропаганды. Без новых решений и новых патриотических движений. Это они узнают на политинформациях.
Просто о жизни. Как живут люди в нашей и других странах. Такое годится?
– Конечно. Неформальный разговор – это хорошо.
Актовый зал в Доме культуры был большой. Человек на пятьсот. Ни одного свободного стула. Собрался, наверное, весь поселок.
Выступление я построил наподобие сборной солянки. Рассказал, как живут простые люди на Большой земле, что есть в магазинах, о телевидении, которого еще не было в Тазовском, об индивидуальных огородах, о том, как живут в тюрьмах мужчины и женщины, о пьянстве, о том, как живут люди за рубежом, какие у них заработки и на что они могут их потратить, о достопримечательностях городов, в которых мне удалось побывать, о моих встречах с любопытными людьми у нас в стране и за границей…
Судя по реакции зала, людям мой рассказ пришелся по душе. Но когда перешли к вопросам, мне стало не по себе.
Слушатели спрашивали о том что я знал понаслышке или совсем не знал. И о том, что в нашей стране было опасно спрашивать.
Я кое-как выходил из положения, но чувствовал себя неуютно.
На следующий день улетал из Тазовского. Мне надо было побывать еще в одном северном поселке – Тарко-Сале. Там разворачивалась геологоразведка на нефть и газ. Но больше всего мне хотелось увидеть, как в этом поселке приучают кочевников к оседлому образу жизни.
Мы распрощались с комсомольцами. На посошок полакомились строганиной.
Первый секретарь предложил мне:
– Давай, поменяемся перчатками?
Я отдал ему свои. Они были фасонистые, импортные. Светлокоричневая кожа в сочетании с бежевой трикотажной пряжей.
Его перчатки были не хуже. Мать связала их из белой шерсти лайки. Сунешь в такую перчатку руку, она словно попадает в духовку. В любую погоду и в любой мороз.
В самолете ко мне подсел незнакомый человек. Представился: лектор обкома партии.
– Я вчера ходил на вашу лекцию, – сказал он, – видел, люди были довольны. Мне тоже понравилось. Только, знаете, когда вы рассказываете, непрофессионально засовываете руки в карманы. И ходите по сцене. Это отвлекает внимание слушателей.
– Но я не лектор. Просто журналист. Ну, еще преподаватель университета. Да и вчера я не лекцию читал, а рассказывал людям о жизни, которая от них далеко.
Я много езжу по стране. Там, где я бываю, меня иногда просят выступить перед людьми. Я не отказываюсь – знаю, как им не хватает информации. И я убедился, что слушателей меньше всего волнует, куда я кладу руки. Им важно, что я скажу.
А теперь, не можете ли вы помочь мне решить одну задачу? После выступления меня заинтересовал характер вопросов, которые задавали местные жители. Я вроде бы человек информированный, но то и дело попадал в тупик. В прессе ответа на них нет. В закрытом вестнике ТАСС – тоже. Откуда это берется? Уж не придумывают ли они свои ситуации?
Лектор рассмеялся.
– Поймите, живут они в глухом углу. Дорог нет, регулярного транспорта – тоже. Центральных газет нет. Радио из Москвы доходит не очень хорошо – много помех на пути. Единственное, что долетает сюда без препятствий – "Голос Америки". Ну, еще "Радио Свобода". Прямо через океан, не встречая ничего на своем пути. Даже глушилок.
Жители Тазовского круглые сутки слушают этот вестник информации и зачастую принимают все за чистую монету. Вот и источник тех вопросов, которые вам задавали.
* * *Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы.
Конфуций.Тарко-Сале районный центр. Я попросил в райкоме партии помочь познакомиться с тем, как ненцы привыкают жить не в чумах, а в домах.
Мы с сопровождающим пришли в часть поселка, где стояла улица одноэтажных новеньких сборных деревянных домов.
– Зайдем в первый попавшийся, – предложил я.
Мы открыли калитку и увидели перед собой… чум. За ним нарты и пара оленей. Его поставили во дворе, как в тундре. Я огляделся. Увидел чумы в других дворах тоже.
Это знак: не так просто принять новый уклад жизни, отказаться от традиций, создававшихся десятками предыдущих поколений.
Мы поднялись на крыльцо новенького, с иголочки дома. Когда-то, в детстве, я жил в точно таком же. Так что мог идти с закрытыми глазами.
Мы прошли сени, попали на кухню. На удивление, она была закопчена до черноты.
Встретили нас хозяева – муж с женой средних лет.
Рассказал, кто я. И что интересуюсь жизнью ненецкого народа.
Нас пригласили в гостиную и мы оказались… в чуме.
На полу одна на другую были положены сырые оленьи шкуры. Во много слоев. По ним ползали малыши без трусов и подгузников. Все, что вырабатывал их желудок, уходило прямо на меховый пол. Тут же лежали и ходили собаки.
А запах… Точно такой, от какого я бежал из тундры.
Я спросил, почему они поставили во дворе чум?
– У нас в семье есть старики. Они не могут жить в доме, не могут уснуть, им душно. Вот и живут в чуме, как всю жизнь жили. И мы тоже часто идем туда – там прошла наша молодость.
Ответ о том, почему закопчена кухня, оказался простым.
Многие современные читатели не знают, что такое кухонная печь. Она складывается из кирпича. В ней есть место для горящих дров, угля или торфа. Дым уходит в сложенную тоже из кирпича трубу.
На верхней поверхности печи есть два круглых отверстия. Они закрываются металлическими конфорками разных диаметров. Когда все уложены по порядку, отверстие закрыто. Огонь и дым уходят в трубу.
Если требуется нагреть мало воды – скажем, побриться – снимается самая маленькая конфорка. Огонь греет небольшую посуду с водой. Но если надо выварить белье – снимаются все кружки и открытый огонь греет самую большую емкость с водой.
Ненцы не могут признать это. Они из поколения в поколение жили при открытом огне. Теперь, когда новоселы в новом доме разжигают печь для отопления, снимают все конфорки с обоих отверстий. Пламя вместе с дымом беспрепятственно идет не в трубу а в кухню.
Так они привыкли жить в чуме. Там, правда, никак не заметить, что стены из шкур почернели от копоти.
Но самое неприятное – пристрастие к спиртному. Новоселы напиваются вдрызг и тогда выбивают окна, крушат двери, мебель.
В поселке есть на ставке специальный человек, который ходит из дома в дом, вставляет новые стекла, чинит разрушенное.
Издержки роста…
В соседних деревнях тоже построили дома для оседлых ненцев. Но оседлых не нашлось. Жилье пустует.
Чум, похоже, пока побеждает.
В райкоме мне сказали, что готовится очень важное заседание женсовета. Рекомендовали поприсутствовать.
Я не пренебрег приглашением.
Активистки обсуждали вот что. В ближайшие дни было намечено организовать баню для ненецких женщин.
Первый раз в их жизни.
Надо было предвидеть, как они себя поведут. Как воспримут обилие горячей воды, пара. Воспримут ли нормально мыло, мочалку, необходимость постоянно менять воду.
Очень сложная проблема: захотят ли женщины появиться перед другими людьми обнаженными? Ведь интимные проблемы в их семьях закрыты за семью печатями.
Покончив с теоретической частью, перешли к конкретике. Нужно было к каждой ненке прикрепить активистку, «няньку». Чтобы все показывать и рассказывать. О мыле. Как мыть голову, пользоваться мочалкой. Как мыть тело. Наливать воду, смешивать горячую и холодную. Как пользоваться полотенцем…
Видимо, придется раздеться самим и для примера помыться.
Жаль, что я не мог дождаться, как пройдет эксперимент. Предполагал: если он закончится благополучно, то и дома для оседлых ненцев не будут пустовать.
Но у меня не было больше времени. Моя командировка заканчивалась.
Дальше ехать некуда
Позвонили из Москвы:
– Ты бы на Камчатку поехал?
– Туристом?
– Нет, по делу.
– Поехал бы. Не впервой. А почему обо мне вспомнили?
– Скажу для начала. В ЦК ВЛКСМ хотят изучить вопрос о молодых рыбаках. Как им работается, живется, какие у них нужды. Для этого создается большая команда. В ней несколько групп. Для работы в Приморье, на Сахалине, Камчатке и Колыме. Тебя рекомендуют руководителем группы на Камчатку и одновременно Колыму.
– Почему меня?
– Несколько причин. Во-первых, тебя в ЦК знают по прежним делам. Затем – у тебя хороший моряцкий опыт. Ты живешь в “рыбной” республике, работаешь в молодежной газете и пишешь о молодых рыбаках. Аргументы сильные.
Добавлю неофициально. Когда проверка будет закончена, руководители групп съедутся во Владивостоке готовить итоговый документ. Так в этом месте ведущую скрипку хотят передать тебе. Это – последняя причина.
– Ну, что, согласен?
– Я-то согласен, но это не от меня зависит…
– Тут уж не беспокойся.
Через пару дней вызвал редактор:
– Там, в ЦК, какой-то переполох. Из ЦК ВЛКСМ пришло распоряжение: обеспечить приезд в Москву Геймана для участия в ответственной комиссии. Не знаешь, в чем дело?
– Знаю. Мне звонили. На Дальний Восток направляется большая команда. Готовится вопрос о молодых рыбаках. Вот и весь переполох.
– И ты?
– Да, на Камчатку.
– А как же газета? Отдел?
– У меня есть пара дней, займусь этим. А когда вернусь – отпишусь. Можно считать, что это творческая командировка.
Словом, я со своей группой полетел в Петропавловск-Камчатский. Со мной было двое парней. Один из московского ЦК, другого я взял в Риге – специалиста из нашего управления "Запрыба".
Перелет оказался нелегким. Как ни говори, на самый край земли. Хотя пенять на судьбу не приходится: в эру, когда еще не было рейсовых самолетов, путь на Камчатку занимал больше года.
На аэродроме нас встретили люди из орготдела обкома комсомола. Первое, что я услышал после знакомства:
– А кроссворды с собой не привезли?
Понял: развлечениями этот край земли не богат.
Приехали в гостиницу. Обком расстарался: у нас был номер люкс. С ванной!
Правда, тут же обнаружилось, что ванна в порядке, но в ней не бывает горячей воды.
Привычная история.
Но тут же выяснилось, что у номера люкс есть свои преимущества. Раздался телефонный звонок:
– Вы только что вселились?
– Да, вещи разбираем.
– Откуда прилетели?
– Из Москвы.
– Сколько вас?
– Трое. А вы кто?
– Мы работаем на радио.
"Петропавловск закрытый город, – подумал я, – но сарафанное радио тут без изъянов".
– Что вас интересует?
– Не хотели бы вы хорошо провести вечер?
– Извините, пока нет. Мы полсуток летели, устали.
– Приятного отдыха, позвоню в другой раз.
Пока мои спутники разбирались в номере, я пошел в обком. Надо было сориентироваться.
Собралось два – три человека. Орготдел. Я рассказал, что у меня есть казенный «вопросник». Его составили в ЦК для всех регионов. Пусть в обкоме подберут по нему материалы. Потом я добавлю вопросы от себя.
Мы поговорили о том, что я хотел бы узнать в связи с темой исследования.
– Было бы хорошо, если бы вы помогли встретиться с руководством рыбной индустрии полуострова, капитанами траулеров, молодежью на судах и в резерве, в училище. Такой у нас будет круг интересов.
– Ну, а помимо проверки, что бы вы хотели увидеть? Может быть, слетаем в долину гейзеров? Это главная достопримечательность Камчатки…
– Боюсь, не получится. Сроки сжатые, работы много.
– А после работы? Чем вы любите заниматься?
– Многим. Ну, например, люблю рыбачить.
– Так, может, организуем?
– С удовольствием. Посидим с удочками. У вас, наверное, рыбы в реках много…
На следующий день мы занимались своими делами по программе. Одного из своих ребят я отправил в Магадан. Ему в одиночку предстояло провести всю работу на Колыме. Но там рыбная отрасль невелика – должен справиться.
Вечером зашел в обком. Там предложили:
– Поехали на горячий источник?
– Далеко?
– Нет, пара десятков километров.
Действительно, оказалось недалеко. Мы приехали в поселок. Он назывался Паратунка. Мне кажется, там был санаторий или какая-то лечебница, связанная с термическими ваннами.
Во всяком случае, был открытый бассейн. Над ним вился парок. И никого вокруг.
Мы разделись. Холодно. На дворе октябрь. Падает легкий снежок. Меня стала пробирать дрожь.
– Что ты стоишь? – крикнули обкомовские. – Ныряй!
Я робко попробовал ногой воду. Горячая! Как в нее прыгать? Обваришься.
Стал медленно вползать в бассейн. Тело привыкало к его температуре. Наконец, окунулся с головой и почувствовал настоящее счастье.
А почему нет? На дворе начало зимы. Ночь. Я лежу на спине в огромной горячей ванне и на мое лицо садятся снежинки.
И в то же время на борту бассейна – бутылки вина. Подплывешь, глотнешь из стакана и снова окунаешься в блаженство.
Я плавал и думал: каких только чудес не бывает на свете! Вот занесла судьба за тысячи километров от дома. И никаких трудностей. Сплошное удовольствие.
Под плеск воды пришла на ум старая байка.
…В далекие тридцатые годы пришел в Кремль, к всесоюзному старосте Калинину человек. Сказал:
– Я готов получить. Вручайте…
– К чему готовы? – опешил Михаил Иванович. – Что вручать?
– Как что? Орден давайте.
– За что орден-то?
– Так я же пришел. Пешком. Из самого Владивостока в Москву…
– Ну и что тут такого, – не мог взять в толк Калинин. – Пришел и пришел. За это ордена не дают.
Посетитель обхватил голову руками. Понеслись булькающие звуки. Михаил Иванович поспешил за стаканом воды. Но тут мужчина опустил руки и всесоюзный староста увидел – тот хохочет, заливается.
– Чему смеетесь?
– Ну не дали мне орден, и не надо, – сказал пришелец. – А каково Степке будет? Он же не просто пешком идет из Владивостока, так еще и бочку перед собой катит. Чтоб орден получше получить. Поди сейчас уже к Чите подходит…
Наутро я узнал, что нам повезло – в Петропавловск приехал заместитель министра рыбной промышленности страны. Сегодня, прямо с колес, он проведет совещание с капитанами рыболовецких судов. На борту одного из них.
В кают-компании большого морозильного траулера собрались капитаны кораблей, которые в это время стояли в Петропавловске. Разговор получился серьезный. Временами очень сердитый. У рыбаков было много претензий к министерству. У министерства – к рыбакам.
На мою долю выпало много фактуры. Она могла пригодиться для отчета о командировке.
С большой тревогой говорили рыбаки о трудностях промысла у берегов США на тихоокеанской стороне. Американские сторожевые корабли отгоняют наших, стоит им опустить трал.
– Министерство что-то должно сделать. Договориться с американцами, что ли. А то мы без рыбы останемся.
– Договориться не получается. Это их экономическая зона.
– Тогда дайте нам охрану. Подводных лодок, что ли…
– Может быть, весь военный флот пригнать? У вас и так постоянно дежурят две подводные лодки. В случае жизненной необходимости придут на помощь. А в остальном думайте сами. Находите выход из положения.
Позже мне рассказали, что у входа в Авачинскую бухту – на ее берегу стоит Петропавловск-Камчатский – постоянно дежурит американская подводная лодка. Ее привлекает сюда то, что в бухте базируется камчатская часть Тихоокеанского флота. И вообще, она имеет стратегическое значение.
Так вот, когда лодка находится на своем месте, все спокойно. Служба идет. Но стоит только ей не оказаться на обычном посту, возникает тревога. Не случится ли чего-нибудь нештатное? Не вывели ли ее из-под возможного огня?
…На следующий день был выходной. Обкомовские ребята спросили:
– Поедем на рыбалку?
Я пришел в восторг.
– Конечно! Увижу, как на Камчатке клюет. А удочки?
– На этот раз без удочек.
– Как же без них?
– Для начала мы покажем тебе, какая тут рыба водится.
Ехали мы довольно долго. По пути в каком-то поселке захватили одного человека.
– Кто он? – спросил я.
– Председатель сельсовета.
– Знаток рыбалки?
– Нет, он по другой части. Потом расскажем.
Подъехали к реке. Не очень широкой, но быстрой. Выгрузили из машины разные кухонные принадлежности и припасы. Среди прочего, там была и рыболовецкая сеть.
У берега, как бы случайно, стояла лодка.
И тут я понял, что рыбалка та была не совсем законной. Грубо говоря, браконьерской. Завели в реку сетку, потянули. Я ужаснулся: там – полно рыбы. В основном, кижуч – я о таком до Камчатки и не слышал. Это крупная, широкая, увесистая, жирная рыба. Один из видов лосося. Такой, как в Прибалтике, но значительно шире.
Вдобавок к кижучу попалось несколько форелей. Крупных, не таких, как в Европе. Они тоже из породы лососевых.
Раззадорились. Еще пару раз вошли с сетью в воду. Рыбы было много. Позже, когда мы добирались домой, у перегруженной машины спустили два колеса.
Однако, вернемся на берег. Существует нерушимая традиция: после удачной ловли надо выпить по рюмке, закусить, расслабиться. Набрали таз лососевой икры. Кстати, у кижуча она крупная и ярко оранжевая. Очень жирная – много не съешь. Для того, чтобы икра шла веселее, накрошили в таз сырого лука, посолили по рецепту “минутка”, взялись за ложки.
При хорошей закуске и выпивке успокоились, повспоминали рыбацкие рассказы. Ну, а когда аппетит снова проклюнулся, дело дошло до ухи.
Я уже раньше видел что камчадалы, избалованные обилием рыбы, совсем не умеют ее готовить. Бросят в воду куски лосося, отварят – вот и вся уха, весь обед. В общем, решил я показать им, как варят уху там, где и пескарь считается крупной добычей.
Положил в котел дородного кижуча, выварил и бросил собакам. Вместо него положил в котел нежной форели – для еды. Ну, там картошка, лук, прочие приправы. Влил полстакана водки для рыбацкого аромата…
Камчадалы ели уху, не закрывая ртов. Отяжелели, прилегли на траву и продолжали есть – благо котел был большой. А когда наступило время уезжать, никто не согласился выливать ее наземь.
В ту ночь мы возили котел с рыбным супом по всему полуострову. Чтобы не расплескался, держали его на весу за бортом машины. Временами останавливались, окунались в горячие источники, любовались ночными пейзажами, а потом разводили костер, нагревали уху и продолжали есть.
Ели без передышки, чуть ли не насильно впихивая в себя уху – ее аромат подстегивал наше чувство голода.
На следующий день я спросил ребят, для чего мы все-таки брали с собой того мужика из поселка.
– Он власть, – объяснили мне, – вдруг нагрянет рыбнадзор? У нас есть надежное прикрытие.
* * *Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу.
Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его рыбачить.
Конфуций.Из окна нашей гостиницы открывался потрясающий вид на Авачинскую бухту. Смотришь в окно и проникаешься собственной значимостью.
Эта бухта – одна из крупнейших на планете. Сюда может войти любое судно, какое только есть на свете. Под ним будет глубина в 26 метров. Это тебе не семь футов под килем.
Не зря здесь базируется камчатская часть Тихоокеанского военного флота России. В бухте длиной в 24 километра ему места хватит с лихвой.
Тем более, что на страже его безопасности стоят Три брата – три большие скалы у входа в Авачу.
Однажды мы увидели, как в бухту втянулось огромное судно. Это был корабль с непривычным для флота названием – "Пищевая индустрия". Крабовая фабрика. Она обычно стоит в океане и принимает у мелких судов – краболовов их добычу. Потом из нее делают крабовые консервы. Во время торжеств они становятся украшением нашего стола.
"Индустрия" ошвартовалась, спустила трапы и в малолюдный город, на твердую землю хлынуло множество женщин – работниц океанского завода.
Они заполнили магазины или просто прогуливались по городу, хотя Петропавловск не так уж богат достопримечательностями.
Хотя, правда, тут есть памятник Витусу Берингу – одному из основателей Петропавловска-Камчатского. Это старый памятник. Он был установлен в 1826 году.
Очень красивая часовня-памятник в честь победы гарнизона города над англо-французской эскадрой.
И еще памятник человеку с очень яркой и таинственной судьбой. Лаперузу. Он был француз. Граф Жан-Франсуа де Гале де Лаперуз. Военный моряк, участник морских сражений. Пленник.
Французский король – один из Людовиков – отправил его в кругосветное путешествие с дальним прицелом найти и колонизировать Австралию.
На двух фрегатах – «Буссоль» и «Астролябия» – он прошел в северную часть Тихого океана и открыл пролив между южной частью Сахалина и островом Хоккайдо. О нем поется в веселой песенке: "А я бросаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза".
После этого, в начале сентября 1787 года французские фрегаты бросили якоря в Петропавловске. Здесь командор Лаперуз пробыл до конца месяца и отправился к главной цели своего путешествия.
Там, у острова Ваникоро экспедиция – оба фрегата – исчезла. Их искали сорок лет. О том, что они погибли тут, подтвердили последующие находки и легенды аборигенов, передававшиеся из поколения в поколение. Они сообщают, что часть команды фрегатов в кораблекрушении спаслась. А четверо матросов вообще прожили долгую жизнь.
Нам же остались название пролива Лаперуза, бодрая песенка и памятник славному мореплавателю в Петропавловске-Камчатском.
* * *Нам нужен кто-нибудь, по чьему образцу складывался бы наш нрав. Ведь криво проведенную черту исправляешь только по линейке.
Сенека.Наше исследование шло успешно – спасибо обкомовским работникам. Они нам очень помогали. Я ходил на корабли, встречался с рыбаками. Они дружно жаловались на трудности промысла.
– Понимаешь, – рассказывал один из них, – мы море как следует не знаем. Пробуем в одном месте, в другом – пустой трал. А японцы – с рыбой. Мы к ним, а они уходят в другое место. Мы снова к ним, а они издеваются, кричат:
– Ваня, рыбы нет? Правда, нет? Собирай комсомольское собрание…
* * *Три вещи никогда не возвращаются обратно —
Время, Слово, Возможность.
Поэтому не теряй времени, выбирай слова,
Не упускай возможность.
Конфуций.Зашел я в магазин – купить чего-нибудь на ужин. Вижу – рыба незнакомая. Не из больших, но полная, жирная. Взял на пробу.
Поужинали. Очень понравилась.
На следующий день снова зашел в магазин – за вчерашней рыбой. Смотрю – на витрине нет. Спросил у продавца:
– Я покупал у вас рыбу такую, – показал руками.
– Кабан?
– Нет, рыбу.
– Я и говорю, кабан.
– Что это?
– Так рыба называется. К сожалению, вчера был последний завоз.
– Последний? Больше не будет? Почему?
– Сказали, всю выловили. Ничего не осталось.
– В океане?
– Да.
– Как можно в океане всю рыбу выловить?
– А вы у рыбаков спросите. Они знают, как.

