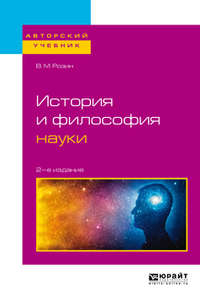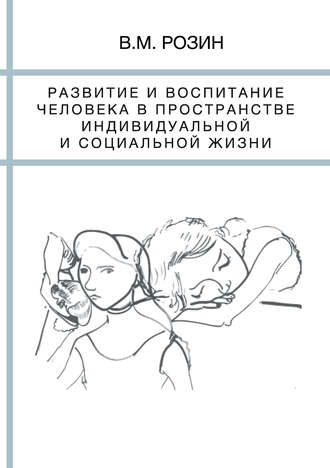
Полная версия
Развитие и воспитание человека в пространстве индивидуальной и социальной жизни
– Николай, – окликнул я Дзена, – не мог бы ты провести меня в мир будущего, где люди стали бессмертными?
– Почему нет, – спокойно ответил Николай. – Но то, что вы называете смертью, просто не существует. Однако давай руку.
Николай повернулся и шагнул в оранжевое марево, увлекая меня за собой.
– С кем ты хочешь поговорить? – услышал я в своей голове.
– Думаю, что с самим собой, зачем беседовать о смерти с чужим человеком?
– Хорошо, – ответил Николай, оставляя меня одного в комнате, мало говорящей о том, в каком времени мы оказались.
Через секунду в комнату вошел человек, совершенно на меня не похожий, тем не менее я почему-то точно знал, что это я сам, каким буду через несколько тысячелетий. Мы произнесли несколько незначащих фраз, явно присматриваясь друг к другу. Было странное ощущение абсолютной нереальности. И одновременно невозможно было отрицать происходящее.
– Сколько вам лет? – спросил я, обращаясь к себе через бездну времени. – И как вас называть?
– Можете называть Марком. Я не имею возраста, последнее мое воплощение, семьсот первое, произошло около ста лет тому назад.
– Что значит воплощение, вы верите в реинкарнацию? – с удивлением спросил я.
Марк усмехнулся и затем вежливо с так хорошо мне знакомым моим собственным выражением ответил:
– Воплощением мы называем прерывание текущей жизни и трансформацию ее в жизнь новую. Я вижу, вы не понимаете, могу пояснить, но для этого требуется время.
– Буду вам признателен, – попросил я, – я не спешу.
– Эта история довольно долгая. В течение третьего тысячелетия удалось полностью решить проблемы пересадки органов – сердца, почек, печени, селезенки, легких и прочего, – а также замены скелета и мышечной ткани. Большую роль здесь сыграли инженерия искусственных органов, клонирование органов, биопластика, генетическое перепрограммирование и другие открытия.
В четвертом, пятом и шестом тысячелетии решалась задача пересадки и замены нервной ткани и отделов головного мозга. Как правило, это вело к сдвигам психики и потери личности, но после работ Питермана и Кельсона удалось создать техники программирования и адаптации, которые позволяли сохранять идентичность личности без существенных повреждений и трансформаций. К седьмому тысячелетию человек уже мог жить практически бесконечно. Но здесь выяснилось, что если его психика и личность периодически не обновляются, то существование человека становится невыносимым.
– Почему? – с интересом спросил я, теоретически ожидая примерно такого развития событий.
– Как вам сказать… Представьте себе, что вы прожили сто, двести, тысячу лет. Все повторяется, все ваши задачи решены, причем несколько раз, груз вашей памяти стал невыносим, сформировавшиеся привычки тянут вас назад, ничто уже не может вызвать вашего удивления. Перед человеком встала альтернатива: сознательно прекращать свою жизнь или научиться обновлять ее. Одни люди предпочли первое, другие – второе.
– То есть, Марк, вы хотите сказать, что многие люди в вашем мире заканчивают свою жизнь, как и мы?
– Ну да, примерно две трети человечества предпочитает обычную смерть. Только третья часть живет подобно мне. Но вы, Марк, ведь вас тоже так зовут, должны правильно понять – большой разницы нет. Ведь и я много раз умирал.
Я помялся, но потом все же спросил:
– Не хотите ли вы сказать, что у вас от меня, точнее Марка Вадимова, ничего нет? Как это может быть?
– Я, конечно, знаю, – вежливо разъяснил мой собеседник, – что с Марка Вадимова в далеком прошлом начался старт нашего семейства, ведь сохранились хроники и программы. Тем не менее должен вас, Марк, огорчить. Действительно, от вас самого во мне ничего нет.
– Почему? – спросил я, не очень, впрочем, огорчившийся. О чем-то подобном я уже догадывался.
– Дело в том, – стал объяснять он, – что новое воплощение предполагает полный демонтаж старой личности и формирование новой, причем последнее растягивается на несколько десятков лет. Демонтаж старой личности нельзя понимать как перепрограммирование, биологическое стирание. Демонтаж – это психотехнический процесс и своеобразное умирание, не менее драматичное, чем обычное умирание, известное в вашем времени. К тому же, как правило, его нельзя сделать одному. Умирающего обслуживает целая бригада. Суть демонтажа – перестройка пирамид психических реальностей, что достигается путем проведения человека через серию жизненных катастроф. В конце этого туннеля пирамида психических реальностей, на которой стоит личность, распадается, вытесняется, а с ней исчезают память и ряд других фундаментальных психических способностей. Хотя внешне, биологически человек не меняется.
– А что, можно выбирать и новый пол? – почему-то спросил я, хотя на самом деле это меня мало интересовало. Я был уверен в положительном ответе.
– Естественно, – ответил Марк, – я сам, по-моему, не меньше сотни раз выбирал женский пол. Но понятно, что для этого требуются предварительные биологические коррекции.
– Получается, в вашем мире нет понятия биологической смерти, но есть смерть как психический и духовный феномен. Наверное, изменились и семья, и образ жизни человека, и основные социальные институты?
– Вы, Марк, правы, семьи в вашем понимании у нас нет. Хотя любовь и совместная жизнь людей разного или одного пола играют даже большее значение, чем в ваше время. Самое трудное для нас – выбрать тот или иной тип жизни и развития, ведь они могут быть самыми разными. Чуть легче решить, нужно ли продолжать жить или уже пора уходить со сцены жизни.
Неожиданно появился Николай. Быстро поклонившись Марку, он увлек меня прочь из комнаты. Я даже не успел попрощаться и поблагодарить одно из своих будущих продолжений.
– Закрываются переходы между мирами, мы должны спешить, – объяснял на ходу Дзен. – Возьми мою руку…
Когда я полупроснулся, сновидение уже начало распадаться и улетучиваться. Усилием воли я окончательно стряхнул с себя ночной сон, чтобы закрепить в памяти интересное путешествие в будущее. Расплата не замедлила последовать, началась бессонница, снова я заснул только под утро»[83].
Подведем некоторые итоги. На мой взгляд, подход от социальной инженерии, человека вообще, преображения не выдерживает критики. Альтернатива – рассмотрение интересующей нас темы с точки зрения личности и политики. При этом все равно нужно решать проблему отношения «личность – общество – массы», «политика – массовое социальное действие». Эта проблема встала еще в Античности, вероятно, впервые для Платона. Будучи утопистом, в том плане, что считал вначале аргументы разума неотразимыми, Платон по мере неудач в политике пришел к другому убеждению: для масс нужны законы и устрашение. «Должно быть, уже очень скоро, – пишет X. Арендт, – Платон обнаружил, что истина, а именно такие истины, которые мы зовем самоочевидными, понуждает ум, причем это понуждение, хотя оно ненасильственное, сильнее, чем убеждение или аргумент. Однако с принуждением через разум есть проблема: ему поддаются лишь немногие, и поэтому возникает вопрос о том, как обеспечить, чтобы многие (т. е. люди, множество которых, собственно, и составляет политический организм) могли подчиняться тем же истинам. Здесь, конечно, необходимы иные средства принуждения». В «Государстве» Платон «затрагивает самую глубинную причину конфликта между философом и полисом. Он рассказывает о том, как философ теряет способность ориентироваться в человеческих делах, как его взор поражает слепота, как его ставит в тупик неспособность сообщить об увиденном (о том, что душа видела до своего рождения: небо, богов, идеи. – В. Р.) и как это оборачивается реальной опасностью для его жизни. Именно оказавшись в этом тупике, он обращается за помощью к тому, что он видел, к идеям, делает их мерилами и эталонами (речь у Арендт идет о том, что вначале идеи Платон понимает как “свет истины”, но затем как нормы поведения, адресованные другим людям. – В.Р.). И, наконец, в страхе за свою жизнь использует их как орудия власти… Платон рассказывает довольно пространные истории о наградах и воздаяниях в загробной жизни: он надеялся, что многие воспримут их буквально, и завершал большинство своих политических диалогов тем, что советовал немногим рассказывать эти истории многим. Учитывая, как сильно эти истории повлияли на представления об аде в религиозной мысли (вот уж поистине, ад вымощен благими намерениями. – В. Р.), нелишне отметить, что изначально они были придуманы для сугубо политических целей»[84].
Особая проблема, крайне актуальная для нашего времени, каким образом политика, общество и личность существуют и практикуются в условиях обособления от общества государства и его институтов, а также действия достаточно эффективных социальных «практик вменения» (идеологии, пропаганды в СМИ, запугивания и контроля со стороны силовых структур и пр.). В результате государству и властным элитам удается поставить под свой контроль общественные движения, направленные на изменения существующего социального порядка и отношений. Можно привести один интересный пример: во что вылилось движение за социальную справедливость, инициированное американским реформатором и политтехнологом Солом Алинским в США.
«Если попытаться оценить эффективность экспериментов Алинского и его последователей в отношении заявленных ими вначале целей, – пишет Ирина Жешко, – т. е. посмотреть, в какой мере эксперименты и начатое им движение social organizing привело к ожидаемым им результатам, то здесь, как я пыталась показать, Алинского бы ждало сильное разочарование. Он, как исследователь и экспериментатор, заметил это отчасти сам в последней главе “Правил”.
Эксперименты, начатые во имя развития местной демократии, подорвали самые основы демократии на местном уровне. Отстранение рядовых американцев от политической жизни в конце XX века стало еще более массовым, чем в 1960-х. В заметной степени снизилась роль организаций, таких как профсоюзы, политические партии, добровольные организации, в демократическом процессе, а именно в прямом представительстве интересов ее членов. Одновременно резко повысилась роль этих же организаций в манипулировании коллективными средствами и мнением своих членов. Руководство организаций типа ACORN с самого начала вело прямой диалог, поверх голов ее членов, с крупными политическими игроками – государством, партиями и большим бизнесом. Предложенная Алинским модель вовлечения граждан в решение своей судьбы через организации и формула демократии как “организации организаций” оказались не способными решить эту задачу. Одна из причин непригодности его модели, как показал опыт ACORN, состоит в том, что члены организаций быстро теряют контроль над собственной организацией и превращаются в ее пешек. Организации, созданные Алинским и его последователями, оказались захваченными и контролируемыми той же самой “номенклатурой”, что и социальные институты»[85].
Принципы методологии подсказывают, что корректная реализация антропологического подхода предполагает рефлексию и демонстрацию представлений о человеке, которые исповедует исследователь или философ. Я утверждаю, что не имеет смысл размышлять о человеке вообще (такого феномена для положительного мышления, наверное, не существует), зато есть различные дисциплины, где используются вполне определенные представления и концепции человека и на основе этого делаются конкретные выводы. Вот эти области и проблемы в них и требуется осмыслять и изучать. Например, имеет смысл антропологическая проблематика в философии техники, в учении о телесности, в осмыслении тьюторской педагогики и во многих других областях знания и практики. Но эта проблематика везде разная, и обсуждается она на основе разных концепций человека. Можно обсуждать методологию исследований в этих областях, но вряд ли онтологию человека как такового. Такая онтология может не существовать вообще. Или мы еще не доросли до ее обсуждения. Поэтому проанализируем конкретные антропологические исследования, осмыслим их, и тогда, возможно, придет черед обобщениям и конфигурированию. Но, может, и не придет, все зависит от того, что мы поймем к этому времени. Как говорится, давайте поспешать не торопясь.
Теперь проблемы, относящиеся непосредственно к нашей теме (хотя и рассмотренные здесь к ней относились).
Ясно, что в развитие человека большой вклад делает личность. Но что это за вклад, как он соотносится с другими воздействиями – например, с влиянием общества? Кроме того, я отмечал, что не все являются личностями. Тогда вопрос: отличается ли их развитие от развития человека как личности?
Из рассмотренного материала и существующей антропологической литературы следует, что сегодня создано много разных концепций человека, по-разному объясняющих его развитие, и они конкурируют между собой. Спрашивается, как быть с этими концепциями? Снять их в собственных построениях, как считал по отношению к психологическим концепциям Л. С. Выготский (или это невозможно)? Игнорировать? Но вряд ли это правильно. Выработать к ним отношение? Но возможно ли это по отношению ко всем антропологическим концепциям, к тому же не выльется ли решение этой задачи в такую большую работу, что вернуться к решению исходной задачи уже не удастся? Разные концепции человека, вероятно, представляют собой рефлексию различных типов социализации человека в культуре, разных типов человека. В этом случае с ними связаны и разные типы развития. Или все же развитие человека одно, но есть лишь разные варианты этого развития?
Смирнов со товарищи ищут нового человека, а точнее обсуждают, каким образом его можно сформировать. Здесь два вопроса. Первый – можно ли нового человека сформировать? И второй – как убедиться, что он новый, причем именно такой, появление которого решит основные заявленные выше антропологические проблемы?
5. Новые идеи, характеризующие развитие человека
Начать стоит с методологии изучения развития. Для этого рассмотрим сначала один кейс – культурологическую реконструкцию процесса формирования египетских пирамид.
Как я показываю в своих исследованиях, в культуре решение одних проблем, как правило, влечет за собой возникновение других – и так до тех пор, пока не будет разрешен круг (пакет) взаимосвязанных проблем, по сути, проявляющий в ходе такого разрешения взаимосвязанные аспекты социальной жизни. Не был исключением и Древний Египет. Здесь проблема несоответствия представлений, заданных «базисным культурным сценарием», в котором утверждалась руководящая роль богов, с реальным положением дел, когда главные повеления и приказы исходили от фараона, была разрешена на основе изобретения ритуала обожествления царя (фараон – это живой бог солнца Ра и одновременно человек, в которого бог вселился). Но в результате возникла еще одна проблема: что делать, когда фараон умирает?
Как египтяне понимали смерть? Для них смерть – это период «очищения души» под землей в царстве Озириса, после чего человек возрождается для новой вечной жизни, причем уже близкой к богам. В отличие от конечной жизни на земле, пишет наш египтолог Татьяна Шеркова, «человек умерший, Озирис имярек в мире богов вечно оставался юным, сопровождая солнечного бога Ра в его ежедневном движении по небесному своду в священной дневной лодке»[86].
Обожествление фараонов создало для жрецов довольно сложную ситуацию, связанную с выяснением вопроса об их смерти и погребении. В качестве человека фараон мог умереть, тело его истлевало, ему полагались торжественные, но все же обычные гробница и ритуал погребения. Но как живой бог фараон вообще не мог умереть в человеческом смысле слова. Его смерть в этом последнем случае есть скорее момент в вечном цикле «смерть – очищение – возрождение». Если фараон – воплощение бога солнца Ра, то его душа после смерти должна вернуться на небо и слиться с сияющим светилом. Но как тогда поступить с телом фараона? И что нужно класть в его могилу?
Разрешая эту проблему, египетские жрецы, судя по всему, нашли следующее объяснение. Да, после смерти фараона его душа, с одной стороны, идет на небо и сливается с Солнцем, но с другой – проходит цикл очищения и возрождения (ясно, что бог может осуществлять разные деяния, присутствуя сразу во многих местах). А вот тело фараона и место его захоронения – это место, где происходит очищение и возрождение, и место, куда фараон-бог постоянно возвращается, чтобы общаться со своим народом, вселяя в него силы и уверенность в судьбе.
Но тогда возникали другие вопросы. Например, как фараон-бог поднимается на небо и спускается с него в свою гробницу? В данном случае на вопрос важно было ответить, поскольку образ фараона все же двоился: не только бог, но и человек (понятно, как бог попадает на небо, а вот как человек?). Кроме того, фараона нужно было провожать и встречать всем народом и нельзя было ошибиться в выборе правильных действий. Другой вопрос возникал в связи с идеей, что очищение и возрождение фараона происходят в захоронении, в то время, как обычно, боги очищались и возрождались под землей (в лоне земли). Третий вопрос – как быть с телом фараона, ведь оно разрушается, а бог не мог изменяться (возвращаясь к своему народу, он должен воплощаться в то же сияющее тело)?
Первую проблему жрецы разрешили весьма изящно, придав захоронению фараона вид горы или лестницы, вознесенных высоко в небо. Известно, что самые первые древние пирамиды напоминали собой гору или были ступенчатыми, то есть представляли собой гигантскую четырехстороннюю лестницу, по которой, как утверждали жрецы, душа фараона поднимается на небо или спускается с него[87].
Последовательно реализуя эту идею, фараоны строили свои пирамиды все выше и выше с тем, чтобы они касались самого неба. Но когда пирамиды уперлись в небо, соединяя его с землей, то есть пирамиды стали космическими объектами, идея сакральной лестницы стала ослабевать. К тому же ее стала вытеснять другая концепция. С одной стороны, ближе к вершине пирамиды и на расстоянии от нее ступени переставали различаться, с другой – все большее значение приобрели расчеты объема пирамиды и каменных работ, которые велись на основе математической модели пирамиды. А я отмечал в своих работах, что для человека той эпохи математические (знаковые) модели воспринимались как сакральные сущности, сообщенные жрецам богами, сущности, определяющие божественный закон и порядок. Не удивительно, что в скором времени египетские жрецы истинной формой захоронения фараона стали считать не гору или ступенчатую пирамиду, а математическую пирамиду.
Второе затруднение было решено не менее изящно: пирамиде был придан образ самой земли, ее лона. Египетские пирамиды строились не как дом или дворец (то есть образующими пустое пространство, где и совершается обычная жизнь), а сплошными и из камня. Получалось, что пирамида как бы поднимается, вырастает из земли, являясь ее прямым продолжением. Кстати, древнеегипетские мифы гласили, что первоначально жизнь возникла на холме, который поднялся в океане. В этом плане пирамида воспроизводила и подобный первохолм (гору) жизни. Слияние этих двух структур и форм (математической пирамиды, касающейся неба, и сплошного каменного холма, вырастающего из земли) в конце концов дало столь привычный нам гештальт пирамиды, конфигурировавшей рассмотренные здесь культурные проблемы и представления.
Третье затруднение было решено средствами медицины, химии и искусства. Труп фараона бальзамировался, тело покрывались великолепными одеждами, а лицо золотой маской. В результате жрецы могли рассчитывать на то, что, спустившись с неба и пожелав воплотиться в свое тело, бог найдет его столь же прекрасным, каким оно было при жизни, если не еще прекрасней.
Итак, разрешение противоречия между представлением о руководящей роли богов и реальным положением дела, когда все повеления шли от фараона, привело к формированию новой проблемы – что есть смерть царя. В свою очередь ее решение повлекло за собой постановку дополнительных проблем: как помочь фараону взойти на небо и одновременно проводить его для очищения под землю, как построить лестницу до небес, как при этом оказаться в лоне земли, каким образом сохранить тело фараона от разрушения. Только разрешив все эти проблемы и затруднения, потребовавшие развития сакральных представлений, деятельности и техники, египетские жрецы и фараоны подтвердили и реализовали исходный базисный сценарий.
В теоретическом отношении культурологическое объяснение процессов формирования египетских пирамид потребовало, во-первых, различить три разных реальности (египетская культура как форма социальной жизни, реальность семиотических схем, на основе которых уточнялся базисный культурный сценарий и создавался «проект» пирамиды, и реальность древних технологий). Во-вторых, потребовало продемонстрировать в генезисе взаимосвязь этих реальностей. Например, показать, что базисные культурные сценарии египетской культуры формируются на основе семиотических схем при разрешении «витальных катастроф», то есть комплекса проблем, без решения которых новая культура как форма социальной жизни не могла бы сложиться. В становящейся культуре схемы как семиотические образования выполняют две важные функции. Обеспечивают организацию деятельности и задают новую реальность (в данном случае понимание, что такое смерть фараона и как он «живет» после смерти). Но и обратно, социальная организация складывается именно при изобретении схем. Одновременно она есть необходимое условие становления культуры: в рамках социальной организации формируются социальные институты и другие социальные образования – например, власть, общество, сообщества, личность (см. подробнее[88]).
Рассмотрим этот кейс как один из характерных примеров развития в культуре. Развитие в данном случае происходило за счет действия двух факторов: внешних и внутренних. Внешним фактором, к примеру, была смерть фараона, не вообще, а в плане представления о том, что он человек и бог одновременно. Сложившиеся в древнем Египте представления о богах и смерти не позволяли жрецам действовать, когда фараоны умирали. Внешние факторы как бы двусоставны: одна их составляющая не зависит от человека, он оказывается буквально захвачен ситуацией (фараон умер и нужно его хоронить), другая – кристаллизуется в рамках существующих культурных или индивидуальных представлений (понимание, что такое боги и смерть).
Внутренние факторы тоже двусоставны, но здесь как раз представления задают ситуацию. Именно представление о том, что фараон является богом Ра, то есть солнцем, задает ситуацию, в которой умерший фараон должен попасть на небо и слиться с солнцем. Представление о том, что смерть есть очищение под землей, диктует необходимость отправить фараона под землю.
Оба типа факторов представляют для человека (в данном случае жрецов) проблему, а с точки зрения социальной – вызов: как отправить фараона на небо и одновременно под землю, а также сохранить его тело? Разрешение этих проблем предполагают творчество и принятие решений. Сначала изобретаются схемы, задающие новую реальность (фараон идет на небо и под землю, а тело его сохранно), потом находятся технические решения (делаем из захоронения гигантскую лестницу, ведущую на небо, превращаем захоронение в каменный холм, мумифицируем тело умершего).
Наконец, можно усмотреть еще один очень важный момент. Развитие идет под действием факторов и условий, взаимосвязанных между собой. Так, представления о богах и людях, их смерти, существующих возможностях, практических действиях не независимы друг от друга, а являются моментами и составляющими древнеегипетской культуры. В культуре как форме социальной жизни все представления подчиняются логике жизни культуры. Под давлением этой, так сказать, «организмической» логики задействование одних представлений культуры влечет за собой реализацию других. Например, уж если фараон – бог солнца, то его место на небе и тело его не разрушается. Если место фараона после смерти на небе, то он как-то должен туда подняться. И так далее. Иначе говоря, развитие происходит в результате проблем, факторов и условий, предъявляемых жизнью определенного организма (целого). Для исследователя вопрос, каким образом это целое нащупать. В том числе по отношению к развитию человека.
Следующий шаг: стоит пересмотреть понимание факторов, обусловливающих развитие человека в культуре. Не только обучение, но и образование, и СМИ, и семью, и друзей, и во многих случаях самостоятельные поиски, чтение, размышления о своей жизни (другими словами, нужно учитывать еще один важный фактор – личность индивида). Да и обучение не равно само себе: одно дело дошкольное и начальное обучение, другое – среднее, третье – высшее, четвертое – гуманитарное, пятое – техническое, шестое – экономическое, седьмое – в идеологии тьюторства и т. д.
Вторая линия переосмысления. В развитии происходит не овладение собственным поведением, а его конституирование, не знаки здесь главное, а схемы. Схемы (чаще нарративные, чем графические) позволяют разрешить проблемы, вставшие перед человеком; в свою очередь проблемы кристаллизуются в экзистенциальных ситуациях, которые проживает человек. Изобретение новых или заимствование из культуры существующих схем позволяет переорганизовать внутренний опыт человека, в результате чего меняется его видение реальности и понимание. Психологически это воспринимается как открытие новых реалий (объектов, предметов, событий), иногда – как попадание в новый мир. Новое видение и понимание – условие и новых действий (поступков).