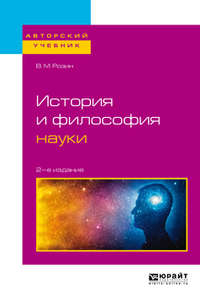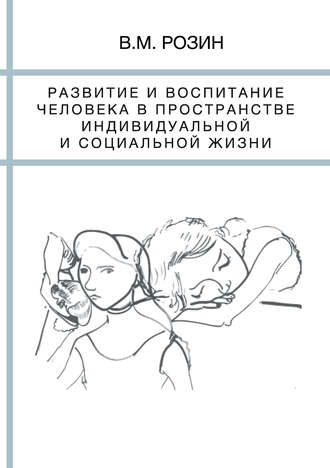
Полная версия
Развитие и воспитание человека в пространстве индивидуальной и социальной жизни
Третья основная наша идея такова: периодизация развития человека должна основываться не на концепции возраста, а на другой – культур жизни человека. В своих работах я стараюсь показать, что единым человек является только в биологическом плане, как культурное и духовное существо человек не един. Существуют несколько культур жизни: культура детства, культура отрочества и юности, несколько культур взрослого человека, культура старости. Каждая культура жизни характеризуется особенностями жизнедеятельности и видения (сознания), а также характером социализации; в первых двух культурах важное место отводится образованию.
Если говорить о развитии, то оно по-разному протекает в разных культурах человека и резко меняется при переходе от одной культуры к другой. Различны в каждой культуре экзистенциальные ситуации и проблемы, с которыми человек сталкивается и которые разрешает. Различны способы их разрешения и схемы. Как следствие различны в каждой культуре жизни реальности и миры человеческого существования. По-разному развитие идет и в случае разных видов образования. Скажем, дошкольное и начальное школьное образование в основном представляет собой формирование, а высшее (и то же с тьюторским сопровождением), наоборот, самообразование с участием и помощью педагога.
Но что собой представляет само развитие, ведь не только такты изменений? Вероятно, это направленность шагов развития, так сказать, логика их трансформаций. От чего же они зависят? Ну, во-первых, как я утверждаю, от особенностей культуры жизни. Во-вторых, от социального воздействия (образование, СМИ, семья, друзья, «паттерны повседневности»), то, что обычно называют социализацией. В свою очередь направленность образования определяется ее практиками и концепциями. В-третьих, развитие человека существенно зависит от его личности, поскольку она источник самостоятельного поведения, личность выстраивает свою жизнь и понятный личности мир. Это один план развития. Но есть и другой: творчество человека и самоорганизация на разных уровнях, начиная от физиологического и заканчивая психическим и духовным.
Отдаю себе отчет, все это пока малопонятно. Поэтому в следующих главах попытаюсь разъяснить намеченные здесь положения. Начну я с анализа и характеристики культур жизни человека. Начало и завершение жизни, протекающие в культурах детства и старости, я рассмотрю подробно, а две другие культуры – отрочества и юности, а также взрослого человека – только намечу. Потому, что, во-первых, важно задать целое, а детство и старость – своеобразная рама, обрамляющая и одновременно освещающая картину жизни личности, а во-вторых, иначе невольно сильно сместилась бы тема книги.
Глава вторая
Культуры жизни человека (вступление в жизнь и ее завершение)
1. Детство
1.1. Проблематизация
Традиционная постановка проблемы, направленная на осмысление некоторого явления, звучит так: какова его сущность? Но сущность задается часто через противоречие в знаниях, характеризующих данное явление. Вот и по поводу детства можно сформулировать ряд противоречий.
С одной стороны, детство характеризуется в рамках традиционного психологического представления о развитии психики и поэтому наделяется константными свойствами, заставляющими думать, что детство как сущность всегда было и в каком-то смысле неизменно. С другой стороны, современные культурно-исторические и кросс-культурные исследования детства убедительно демонстрируют, что детство сложилось не раньше XII–XIII вв. и существенно различается в разных культурах.
Наиболее последовательно первая трактовка детства проведена в книге «Психология детства» (под ред. А. А. Реана, 2003). «Анализ этих положений и материалов, – пишут авторы, – позволил В.П. Зинченко (см.: В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов, 1994) вычленить некоторые важнейшие принципы, характеризующие процессы психического развития ребенка, которые уже сейчас являются руководящими как при разработке основ и проектировании системы обучения, воспитания детей, так и при организации исследования детства. Среди них:
1) творческий характер развития, проявляющийся в порождении ребенком знаков, символов, когда он уже с младенчества выступает как субъект культуры;
2) ведущая роль социокультурного контекста развития, по-разному проявляющаяся в разных периодах, влияя, например, в школьном возрасте на процессы формирования образа мира, стиля поведения и деятельности;
3) особая значимость сенситивных периодов развития (разных для разных возрастов), т. е. периодов, наиболее чувствительных к осознанию, усвоению и реализации норм, форм, условий человеческой жизнедеятельности (языка, способов общения и т. д.);
4) совместная деятельность взрослых и детей как движущая сила развития ребенка, передача детям взрослыми достижений исторического развития человека;
5) наличие ведущей деятельности в каждом возрастном периоде и законы ее смены как основа преемственности периодов психического развития ребенка;
6) определение зоны ближайшего развития растущего человека;
7) амплификация (расширение) детского развития как условие свободного поиска и нахождения ребенком себя в материале, той или иной форме деятельности и общения;
8) непреходящая ценность для формирования полноценной личности всех этапов детского развития;
…
11) интериоризация и экстериоризация как механизмы развития;
12) неравномерность (гетерохронность) развития, учитывать которую чрезвычайно важно, представляя при этом не только его уровни и компоненты, но и весь “фронт” развития»[89] (курсив мой. – В.R).
С точки зрения такой теоретической трактовки детства, фиксирующей законы и механизмы психического развития (на чем особенно настаивал П.Я. Гальперин, идя здесь вслед за Л. С. Выготским), детство выглядит как константное, практически вечное образование, которое лишь по-разному осознается в истории, но не меняется в своей сущности. Даже когда психологи хотят учесть культурно-исторические исследования детства, они не могут выйти за границы данной трактовки
«Детство, – читаем в историческом обзоре изучения этого феномена в психолого-педагогической науке, – период, продолжающийся от новорожденное™ до полной социальной и, следовательно, психологической зрелости; это период становления ребенка полноценным членом человеческого общества. При этом продолжительность детства в первобытном обществе не равна продолжительности детства в эпоху Средневековья или в наши дни. Этапы детства человека – продукт истории, и они столь же подвержены изменению, как и тысячи лет назад. Поэтому нельзя изучать детство ребенка и законы его становления вне развития человеческого общества и законов, определяющих его развитие…
Известно, что механизмы социализации и символические представления о детстве в Средневековье были иными, чем в Новое время и наше. Средневековой мысли было известно понятие “возрастов” или эпох жизни, но за ними не стояла идея развития личности. В живописи раннего Средневековья ребенок обычно изображался как уменьшенная копия взрослого. Вплоть до XVII в. не было специфически детских костюмов: как только ребенок расставался с пеленками, его начинали одевать по соответствующей сословию моде. Современный ребенок, неся в себе историческую память человеческого детства, остается тем не менее человеком своей эпохи. В какой мере? Почему в его поведении, играх, языке присутствуют одновременно отголоски прежних эпох, утраченных форм и представлений? Ребенок живет в условиях диалога эпох, диалога культур»[90].
Как мы видим, авторы сидят на двух стульях: признавая историко-культурную обусловленность феномена детства, они мыслят детство в понятиях психического развития и разных форм его осознания[91].
Вторая трактовка детства (правда, не всегда последовательно) проведена в книгах М. Мид и Ф. Арьеса, а также в книгах И. Кона[92].
В. В. Абраменкова тоже выделяет «парадоксы и противоречия в изучении ребенка», которые, с нашей точки зрения, относятся не столько к противоречиям познания детства, сколько к противоречиям самого данного феномена в современной культуре.
«Демократизация детской жизни, юридические свободы, зафиксированные в международных, государственных и других документах, – и ограничение (особенно в больших городах) пространства детской жизнедеятельности, фактическое лишение неотъемлемого права ребенка на игру, прежде всего, традиционную для всех культур – игру со сверстниками.
Ценность детей и брака, формирование родительских установок и особой эмоциональной связи с ребенком, жизнь семьи “ради детей” – и резкое снижение рождаемости, осознанное безбрачие: “ценность детей становится самостоятельным фактором, мотивирующим ограничение рождаемости, – таков парадокс нашего времени”.
Повышение в последнее десятилетие уровня жизни ребенка (рост потребления товаров и услуг, повышение жизненного комфорта, механизация быта, количество и качество детской индустрии развлечений – книг, фильмов, игрушек для детей и пр.) – и снижение качества жизни (субъективной удовлетворенности ребенка условиями его бытия, его психоэмоциональное благополучие, оптимизм).
В России последние обстоятельства выражены особенно резко – в виде тревоги, апатии, пессимизма, прежде всего как проявления нравственно-духовного неблагополучия.
Инфантицид как детоотвержение, детоубийство в формах отказа от здоровых детей, миллионов абортов, социального сиротства, детской беспризорности и растущая адопция (усыновление / удочерение) чужих детей, включая детей-инвалидов»[93].
Сюда же можно добавить и работы Д.И. Фельдштейна. Например, в докладе «Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования» он пишет: «И все это происходит на фоне того, что популяция самого Детства в нашей стране стремительно сокращается – начиная с 90-х годов мы потеряли 14 млн (вместо 40 у нас сегодня 26 млн детей, в том числе 1,5 млн детей, находящихся, по официальным данным, в зоне риска). При этом рухнули многие образующие структуры Детства, изменились отношения между детьми, в том числе усилились их “горизонтальные” связи, что особенно выпукло проявляется в подростковый период. Отмечается интенсивная примитивизация сознания детей, рост цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. А за этими внешними проявлениями кроются внутренние глубинные переживания ребенка – неуверенность, одиночество, страх, – и в то же время – инфантилизм, эгоизм, духовная опустошенность, то есть те современные приобретения Детства, которые являются тяжелой потерей для него…
В числе многих факторов, определяющих глубинные изменения растущих людей, выступает, во-первых, маркетизация, этика рынка, усиливающая ориентацию детей на потребление, а также адопция, отрывающая ребенка от культурных традиций общества и его истории; во-вторых, маргинализация, то есть неравный доступ к образовательным ресурсам в мегаполисе и провинции, рост девиаций, стремление родителей ограничивать активность и самостоятельность ребенка. Под действием этих и других факторов мы получаем такие феномены, как медикализация, выражающаяся в том, что детям ставят диагнозы, которые ранее ставили взрослым, при использовании антидепрессантов для агрессивных детей; повышенный уровень тревожности и страхов ребят, а в ряде случаев – повышенная агрессивность под действием фактора милитаризации и развития компьютерных игр, снижающих контроль детей за собственным поведением и формирующих тревожную зависимость»[94].
Эта печальная констатация позволяет сформулировать еще одну проблему, выступающую для педагогики детства как настоящий вызов. А именно: каким образом и в каком направлении нужно воспитывать детей, учитывая изменения условий жизни, о которых пишут Абраменкова, Фельдштейн и другие исследователи. К числу этих изменений, с философской точки зрения, относятся также кризис реальности и неопределенность будущего. В условиях неопределенности и перехода (а мы живем во время перехода, когда по выражению С. С. Неретиной «одна реальность уже ушла, а новая еще не опознана»[95]) и цели образования выглядят неопределенными.
И в самом деле с будущим в настоящее время что-то неблагополучно. Насколько ясно воспринималось будущее во второй половине прошлого века, настолько неопределенно сегодня. Социологические исследования показывают, что россияне планируют свое будущее не больше чем на полгода, от силы на год. В чем же сущность нашего понимания будущего? Не в том ли, что в Новое время будущее было тесно связано с прогрессом, понимаемым естественно-научно, и с креативной деятельностью человека (хотя прогресс обусловлен естественными причинами, но он существенно определяется и творчеством)? При этом считается, что действие природы и творчество человека распространяются и на него самого. Успехи естествознания и инженерии (в том числе социальной – тоталитарные институты, идеология, СМИ, пиар) обусловили во второй половине XIX – первой половине XX столетия убеждение, что будущее понятно и достижимо. Человечеству показалось, что оно уже почти поймало эту жар-птицу, что, оседлав будущее, оно легко въедет в земной рай.
Но жар-птица будущего легко вырвалась из рук, вильнула хвостом и куда-то унеслась. Не потому ли, что, начиная со второй половины XX столетия, были осознаны границы естествознания и инженерии и лавинообразно стали нарастать негативные последствия научно-технического прогресса? Не потому ли, что проекты все больше расходились с их реализацией (замышлялось и проектировалось одно, а получалось другое, причем социальная и индивидуальная реальности так трансформировались, что человек уже не мог с этим примириться)?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели. – М., 2005, с. 13.
2
Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели. – М., 2005, с. 74.
3
Там же, с. 87.
4
Там же, с. 59.
5
Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели. – М., 2005, с. 58.
6
Там же, с. 40.
7
Там же, с. 111.
8
Там же, с. 127.
9
Там же, с. 140.
10
Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели. – М., 2005, с. 141.
11
Там же, с. 441.
12
Там же, с. 444–445.
13
Там же, с. 309.
14
Там же, с. 344.
15
Выготский Л. С. Собр. соч. Т. 2. Мышление и речь. – М., 1982, с. 23.
16
Айламазьян А. М. Проблема исследования в культурно-исторической и деятельностной школе психологии // Мир психологии. – 2014. № 3.
17
Выготский Л. С. Мышление и речь, с. 112, 113.
18
Там же, с. 65.
19
Выготский Л. С. Мышление и речь, с. 212.
20
Там же, с. 132.
21
Выготский Л. С. Психология развития человека. – М., 2004, с. 1117–1118.
22
Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 3. История развития высших психических функций. – М., 1983, с. 149.
23
Там же, с. 151.
24
Там же, с. 82–83.
25
Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 3. История развития высших психических функций, с. 85.
26
Там же, с. 41.
27
Там же, с. 316.
28
Там же, с. 279.
29
Фребель подобно Шеллингу разделяет деятельность человеческого организма на две основные составляющие, внешнюю (по отношению к организму) и внутреннюю. «Всякая жизнь, как продукт свободы, исходя из внешнего, действует на внутреннее» (Фребель Ф. Воспитание человека. Избранные сочинения. Т. 1. – М., 1913, с. 167). Так как природа и сознание суть две разные формы саморазвивающегося единого, то необходимо, чтобы внешняя и внутренняя составляющие деятельности человека развивались как бы синхронно и проходили все те же этапы, которые проходят сознание и природа. При этом, утверждает Фребель, внутренняя и внешняя составляющие могут развиваться только в том случае, если деятельность сознания и души (внутренняя составляющая) проявляются вовне (в природе), а деятельность природы (внешняя составляющая) проявляется внутри (в сознании и душе); оба проявления осуществляются одновременно, связываются и согласуются между собой. (С современной точки зрения, это была одна из первых (возможно, первая) трактовка психической деятельности как связи двух процессов – интериоризации и экстериоризации.)
30
Выготский Л. С. История развития высших психических функций, с. 144–146.
31
Айламазъян А. М. Проблема исследования в культурно-исторической и деятельностной школе психологии.
32
Выготский Л. С. Психология развития человека, с. 1021.
33
Выготский Л. С. История развития высших психических функций, с. 90, 150–151.
34
Там же, с. 31.
35
Пузырей А. А. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского и современная психология. – М., 1986, с. 85–86.
36
Выготский Л. С. История развития высших психических функций, с. 80.
37
Там же, с. 142.
38
Непомнящая Н. И. Состояние проблемы обучения и развития и задачи дальнейшей ее разработки // Обучение и развитие. – М., 1966, с. 120.
39
Давыдов В. В. Соотношение понятий «формирование» и «развитие» психики // Обучение и развитие. – М., 1966, с. 36.
40
Менчинская Н.А. Обучение и умственное развитие // Обучение и развитие. – М., 1966, с. 5.
41
Давыдов В. В. Соотношение понятий «формирование» и «развитие» психики, с. 36.
42
Фребель Ф. Воспитание человека, с. 127–128.
43
Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1969, с. 94.
44
Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических структур. – М., 1963, с. 34–38.
45
Там же, с. 32–79.
46
Там же, с. 20.
47
Розин В.М. Курс начальной геометрии Ф.Фребеля // Дошкольное воспитание. -1971. № 11, с. 34–39.
48
Давыдов В. В. Соотношение понятий «формирование» и «развитие» психики, с. 37.
49
Там же, с. 45.
50
Непомнящая Н. И. Состояние проблемы обучения и развития и задачи дальнейшей ее разработки, с. 126.
51
Давыдов В. В. Соотношение понятий «формирование» и «развитие» психики, с. 37–38.
52
Талызина Н. Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблема развития мышления // Обучение и развитие. – М., 1966, с. 17.
53
Щедровицкий Г.П. К методологии педагогического исследования игры. – М., 1963.
54
Менчинская Н. А. Обучение и умственное развитие; Славская К.А. Детерминация процесса мышления // Исследование мышления в советской психологии. – М., 1966.
55
Щедровицкий Г. П. Методологические замечания к педагогическому исследованию игры // Психология и педагогика игры дошкольника. – М., 1966, с. 34.
56
Новые идентичности человека. Анализ и прогноз антропологических трендов. Антропологический форсайт // Аналитический доклад (под ред. С. А. Смирнова). – Новосибирск: НГУЭУ, 2013.
57
Мы вынуждены по всему тексту прибегнуть к обширному цитированию точек зрения авторов доклада, поскольку понимаем, что вряд ли каждому читателю удалось познакомиться с этим текстом.
58
Новые идентичности человека… с. 10–11, 16.
59
Смирнов С. А. Форсайт: от прогноза к социальной инженерии // Вестник НГУЭУ. -2014. № 3, с. 10–30.
60
Новые идентичности человека… с. 13, 14–15.
61
Список российских экспертов-философов приведен в приложение 5 доклада.
62
Слово «эксперт» произошло от греческого слова, в переводе означающего «знаток». Смысл общественной экспертизы состоит не в том, чтобы выйти на согласованное знание, а, наоборот, чтобы получить веер разных суждений и мнений экспертов, причем предполагается, что эксперты, например ученые, хотя реально могут принадлежать одному сообществу, тем не менее имеют разные взгляды на интересующий вопрос.
63
Новые идентичности человека… с. 184.
64
Там же, с. 79.
65
Новые идентичности человека… с. 87. В наших с Л. Г. Голубковой работах по управлению мы приходим к тем же выводам. Сравним: «Судя по характеру многих решений, начиная от “реформы” нашей промышленности, кончая вступлением в ВТО, “объемлющим контуром управления” выступают даже не российские структуры и организации, а транснациональные (финансовый мировой бизнес и корпорации). Но кто, спрашивается, принимает данные решения, кто их субъект на самом высоком последнем уровне? Может быть, Обама или Джордж Сорос? Нет, скорее бессубъектная структура, “социальная ризома”, живущая не только на людях и формальных субъектах управления, но также на различных международных и национальных институтах и связях. Эта структура и организм (назовем их условно «финансово-корпоративный солярис») заинтересованы в исчезновении национальных границ, формировании мирового хозяйства и экономики, свободном передвижении капиталов и других ресурсов, правильном и мирном, с его точки зрения, поведении людей. Возможно, заинтересован этот монстр и в том, чтобы мы с вами не понимали, что происходит на самом деле (такими людьми легче управлять), и в том, чтобы верили в мировые заговоры (так легче отводить от себя догадки), и в том, чтобы мы сидели в Интернете день и ночь. Когда мы бежим все быстрее и быстрее, изо всех сил стараемся быть креативными, посылаем вместо себя пустые дубли-отклики, то естественно вписываемся в мировой процесс становления финансово-корпоративного соляриса, поддерживаем его. Но, конечно, не на стороне хозяев этого процесса, а того антропологического субстрата и массы, которые унавоживают подобное становление. Финансово-корпоративный солярис растет на международной торговле и разделении труда, на экспансии западных технологий и производств, на распределении и потреблении созданной продукции, но не меньше на нашем участии во всем этом. Последнее же предполагает, что включенные в эти процессы индивиды должны действовать как бы автоматически, не размышляя над смыслом, целями и направлением движения, в которое они включены» (Розин В. М., Голубкова Л. Г. Парадоксы современности, или Дефицит как форма власти // Культура культуры. – 2014. № 4).